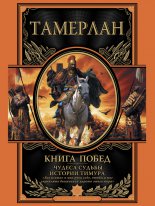Мои воспоминания. Брусиловский прорыв Брусилов Алексей

Движение по службе в самой армии происходило столь медленно и процент вакансий на должности начальников отдельных частей был столь мал, что подавляющее большинство офицеров этой категории выслуживало свой возрастной ценз в чине капитана или подполковника. Можно было по пальцам сосчитать счастливчиков из армий, дослуживших до должности начальника дивизии. Невольно армейские офицеры апатично смотрели на свою долю и злобно относились к гвардии и Генеральному штабу, кляня свою судьбу.
Нужно еще упомянуть, что из старых традиций, положенных в основу службы Павлом I и богато развившихся в царствование Николая I, многое сильно вредило делу. Так, например, самостоятельность, инициатива в работе, твердость в убеждениях и личный почин отнюдь не поощрялись, и требовалось большое искусство и такт, чтобы иметь возможность проводить свои идеи в войсках, как бы они ни были благотворны и хотя бы отнюдь не противоречили уставам. Было много высшего начальства, которое смотрело войска лишь на церемониальном марше и только по более или менее удачной маршировке судило об успехе боевого обучения армии.
В общем состав кадровых офицеров армии был недурен и знал свое дело достаточно хорошо, что и доказал на деле, но значительный процент начальствующих лиц всех степеней оказался, как и нужно было ожидать, во многих отношениях слабым, и уже во время войны пришлось их за ошибки спешно сменять и заменять теми, которые на деле выказали лучшие боевые способности. Если помнить, что ошибки во время войны влекут за собой часто неудачи, а в лучшем случае – излишнее пролитие крови, то необходимо признать, что наша аттестационная система была неудачна.
Неприязнь, с которой относились войска к корпусу офицеров Генерального штаба, как в мирное, так и в военное время, требует некоторого пояснения, хотя подробно на ней останавливаться на этих страницах полагаю излишним. Несомненно, большая часть этих офицеров соответствовала своему назначению, и между ними было много умных, знающих и самоотверженных работников; но в их среде находился некоторый, к счастью небольшой, процент людей ограниченных, даже тупых, но с большим самомнением.
Впрочем, последним недостатком страдала значительная часть чинов этого корпуса, в особенности молодежь, которая льстила себя убеждением, что достаточно окончить 2-годовое обучение в академии, чтобы сделаться светилами военного дела, и считала, что только из их среды могут выходить хорошие полководцы.
Помню, как за несколько лет до войны я присутствовал в вагоне, возвращаясь из заграничного путешествия, в штатском платье, при ожесточенном споре какого-то саперного подполковника с двумя молодыми офицерами Генерального штаба. Последние утверждали, что их ученый корпус подготовляется академией по преимуществу для выработки полководцев, вождей армий, а служба Генерального штаба есть только переходная ступень, подготовляющая их к главному делу – командованию армиями; что человек, не окончивший академии, настоящим полководцем быть не может, а будет лишь игрушкой в руках своего начальника штаба.
Их оппонент, человек, по-видимому, горячий, быстро и резко говоривший, им возражал с пеной у рта, что, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном и Суворовым, не было ни одного знаменитого полководца из академиков, и что в Турецкую кампанию 1877–1878 гг. особенно прославился Гурко, не академик, и Скобелев, окончивший академию последним [по успеваемости], а в нашу войну с Японией, где все высшее наше начальство было почти сплошь из офицеров Генерального штаба, с Куропаткиным во главе, оно совсем не выказало нужных для полководцев качеств.
Речь злосчастного оппонента молодых штабных деятелей нисколько не убедила, и они, с некоторым высокомерием, снисходительно, но твердо и спокойно стояли на своем, считая свое убеждение аксиомой.
Привел я эту картину с натуры потому, что она характерна и сразу раскрывает яснее всяких длинных объяснений причины озлобления армии к своему Генеральному штабу: для того, чтобы дойти до высших степеней командования, нужно быстро выдвигаться вперед в ущерб строевым офицерам, занимая не только штабные, но и командные должности, и до войны большая часть начальников дивизий и корпусных командиров были из офицеров Генерального штаба.
В действительности, конечно, ни одно учебное заведение фабриковать военачальников не может, так как для этого требуется много различных свойств ума, характера и воли, которые даются природой и приобретаться обучением не могут. Неоспоримо, конечно, что полководец должен знать хорошо свое дело и всесторонне изучить его тем или иным способом. Нужно также признать, что военная академия очень полезна, и, несомненно, желательно, чтобы ее курс проходило возможно большее число офицеров.
Но нужно помнить, что необходимо вслед за окончанием курса, в течение всей службы, беспрерывно следить за военной наукой и продолжать изучать ее, так как военная техника быстро совершенствуется, и тот, кто успокоится, сложа руки, по окончании какой бы то ни было академии, быстро отстанет от своего времени и дела и сделается более опасным для своей работы, нежели неуч, так как будет обладать отсталыми, а следовательно, воображаемыми, но не действительными знаниями.
Нельзя не осудить также карьеризма, которым были охвачены многие из успешно оканчивавших питомцев военной академии со времен Милютина[31]. На это, впрочем, были свои исторические причины, о которых тут не место говорить.
Как бы то ни было, но я считаю долгом признать, что за некоторыми исключениями офицеры Генерального штаба в эту войну работали хорошо, умело и старательно выполняли свой долг. Одно было неладно: это – за малым исключением постоянное, быстрое перемещение этих офицеров с одной должности на другую для более быстрого движения вперед; они не задерживались ни на каком месте – ни на штабном, ни на строевом, а потому трудно было им входить основательно в круг своих обязанностей и приносить ту пользу, которую они могли и должны были оказать.
Такое перелетание с места на место также озлобляло армию, которая называла их «белою костью», а себя – «черною». В этом, однако, нужно винить скорее Ставку, желавшую быстрее выдвигать своих академических товарищей, которые без приказа сверху не имели бы возможности столь резко прыгать.
Генеральному штабу можно поставить другую действительно серьезную вину, состоявшую в том, что его Главное управление с начальниками Генерального штаба во главе не выполнило своего назначения по надлежащей подготовке к этой войне, что, впрочем, бывало постоянно и раньше. Но тут приходится признать, что сам по себе корпус офицеров Генерального штаба ни при чем. Ведь им не было предоставлено самим выбирать своего главу.
В сущности, только первый начальник Генерального штаба, Палицын, отнесся серьезно к своим обязанностям и работал не покладая рук, но не успел наладить свою важную и многотрудную работу, как уж был сменен. Сухомлинов только проскользнул по этой должности, почти ничего на ней не сделав. Вслед за ним был Гернгросс[32], который ранее никогда в Генеральном штабе не служил и этой службы не знал.
Это был мой старый друг, и при первом же свидании с ним после его назначения, я, зная, его за честного и порядочного человека, не скрыл моего удивления, что он принял столь ответственный пост, который должен был бы занять кто-либо более ему соответствующий. Он мне откровенно сознался, что он в этой новой для него работе, как в лесу, и ни за что не хотел принять этой должности, но что ему было передано свыше приказание не отказываться и он принужден был покориться.
Он, однако, добавил, что поставил себе самому требование в течение года усиленной работой войти в курс дела; если же это окажется невозможным, то какие бы давления на него ни производили, он откажется от этого поста. Усиленная работа дала ему иной результат – паралич, и он ушел умирать в должности командира корпуса на Юг, а заменивший его Мышлаевский[33] вскоре был сменен, потому что не сошелся с военным министром, Сухомлиновым, и, находясь в отпуску, неожиданно для себя прочел о назначении его командиром корпуса на Кавказе.
Заменивший его Жилинский[34] интересовался, по-видимому, всем чем угодно, но не своими обязанностями. Пришлось мне в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа, по поручению моего начальства, докладывать одно серьезное дело военному министру и по его приказанию переговариваться с Жилинским; и я невольно должен был убедиться, что голова этого государственного мужа была занята совсем инымиинтересами.
Впрочем, и он недолго сидел на этом месте и получил должность, которой добивался, – Варшавского генерал-губернатора и командующего войсками этого округа, его же заменил Янушкевич[35]. Этот последний был очень милый, веселый и остроумный человек, профессор статистики Военной академии, которому обязанности начальника Генерального штаба были совершенно чужды. Итого в течение менее 8 лет, с создания этой должности до начала Великой войны 1914 г., было шесть начальников Генерального штаба.
Даже при условии, что они все были бы звезды первой величины, такая быстрая смена одного за другим могла дать только отрицательные результаты, и поэтому неудивительно, что мы не были готовы к войне. Но еще раз повторяю, что винить тут нужно не корпус Генерального штаба, а тех, в чьих руках находилось назначение на должность начальника Генерального штаба, который обязан всецело отвечать за подготовку к войне, но для этого ему нужно было дать время и средства для выполнения этой важнейшей задачи.
Неоспорим и тот факт, что многие, притом наиболее способные академики, изучив исключительно военное дело, уходили с военной службы на должности, ничего общего не имевшие с военным искусством, и старались занимать должности, лучше оплачиваемые. Мы видели офицеров Генерального штаба в роли государственного контролера, министров путей сообщения, внутренних дел, начальников железных дорог, губернаторов и т. п.
Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич. По моему мнению, в это время лучшего Верховного главнокомандующего найти было нельзя. По предыдущей моей службе, в бытность мою начальником Офицерской кавалерийской школы, а затем начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, я имел возможность близко узнать его, как по должности генерал-инспектора кавалерии, так и по должности главнокомандующего гвардией и Петербургского военного округа.
Это – человек, несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и любивший военное ремесло. Конечно, как принадлежавший к императорской фамилии, он, по условиям своего высокого положения, не был усидчив в работе, в особенности – в молодости.
По натуре своей он был страшно горяч и нетерпелив, но с годами успокоился и уравновесился. Назначение его Верховным главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии. Войска верили в него и боялись его. Все знали, что отданные им приказания должны быть исполнены, что отмене они не подлежат и никаких колебаний не будет.
С начала войны, чтобы спасти Францию, Николай Николаевич совершенно правильно решил нарушить выработанный раньше план войны и быстро перейти в наступление, не ожидая окончания сосредоточения и развертывания армий. Потом это ставилось ему в вину, но в действительности это было единственно верное решение.
Немцы, действуя по внутренним операционным линиям, естественно, должны были стараться бить врагов поочередно, пользуясь своей развитою сетью железных дорог. Мы же с союзниками, действуя по внешним линиям, должны были навалиться на врага сразу со всех сторон, чтобы не дать возможности германцам уничтожать противников поочередно и перекидывать свои войска по собственному произволу.
Жаль, что эту азбучную истину не приняли в соображение лица, составлявшие новый план войны, ссылавшиеся на то, что неизвестно, на кого наш враг раньше набросится – на французов или на нас. Казалось бы, здравый смысл должен был подсказать, что немцы фатально обязаны неизбежно силою обстановки атаковать раньше французов, во-первых, потому, что французы скорее нас мобилизуются и раньше нас могут перейти в наступление, а во-вторых, потому, что в случае полной удачи немцы могут быстрее склонить к миру французов, нежели русских с их необъятным пространством в тылу.
Удивительный план войны с отводом назад на линию Белосток – Брест был окончательно разработан, как мне помнится, на секретном совещании в Москве, кажется, осенью 1912 года, и тогда же утвержден. В то время я был помощником командующего войсками Варшавского военного округа и высказал мои сомнения относительно целесообразности этого плана бывшему тогда начальником штаба этого округа генералу Клюеву, участвовавшему в составлении этого плана; но он со свойственным ему самомнением стал уверять меня, что это решение безукоризненно хорошо и другого быть не может. Каждый из нас остался при своем мнении, но так как это дело меня не касалось, то я бросил об этом спорить.
Справедливость требует, однако, сказать, что великий князь Николай Николаевич к этому совещанию привлечен не был, невзирая на то, что он должен был выполнять вырабатывавшийся план; чтобы избежать его присутствия, совещание назначили не в Петербурге, а в Москве. Во время объявления войны ему пришлось, в силу необходимости, спешно менять план войны, что в заслугу Главному управлению Генерального штаба и Сухомлинову никак поставить нельзя. Францию же необходимо было спасти, иначе и мы, с выбытием ее из строя, сразу проиграли бы войну.
Николай Николаевич требовал строгой и справедливой дисциплины в вой-сках, заботился о нуждах солдата, усиленно следил за тем, чтобы не было засилья штабов над строевым элементом, не жалел наград для строевых работников, был скуп относительно награждений штабных и тыловых дея-телей, строго запрещая награждать их боевыми отличиями. Я считал его отличным главнокомандующим.
Фатально было то, что начальником штаба верховного главнокомандующего был назначен бывший начальник Главного управления Генерального штаба Янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый. Его доклады, несомненно, влияли в значительной степени на стратегические соображения Верховного главнокомандующего, и нельзя не признать, что мы иногда действовали в некоторых отношениях наобум и рискованно разбрасывались – не в соответствии с теми силами, которыми мы располагали.
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, в состав которого вошла и моя 8-я армия, был назначен командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Н. И. Иванов. Это был человек вполне преданный своему долгу, любивший военное дело, но в высшей степени узкий в своих взглядах, нерешительный, крайне мелочный и, в общем, бестолковый, хотя и чрезвычайно самолюбивый.
Он был одним из участников несчастной Японской кампании, и думаю, что постоянные неудачи этой злосчастной войны влияли на него и заставляли его непрерывно сомневаться и путаться зря, так что даже при вполне благополучной обстановке он постоянно опасался разгрома и всяких несчастий. Впрочем, он по преимуществу интересовался огнестрельными припасами, и многие считали, что его скорее можно именовать артиллерийским каптенармусом, нежели главнокомандующим.
Начальником его штаба в начале кампании был М. В. Алексеев, человек очень умный, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег. Его главный недостаток состоял в нерешительности и мягкости характера. При твердом главнокомандующем эти недостатки не составляли бы беды, но при колеблющемся и бестолковом Иванове это представляло собой большую угрозу для хорошего ведения дела на Юго-Западном фронте.
Что касается моей армии, то она составляла левый фланг всех наших сил, оборонявших нашу западную границу, что давало мне возможность свободнее маневрировать, нежели другим армиям. Моим начальником штаба был генерал Ломновский[36]. Это был человек умный, знающий, энергичный и в высшей степени трудолюбивый. Не знаю, почему он составил себе репутацию «панического генерала». Подобная характеристика совершенно неверна.
Он быстро соображал, точно выполнял мои приказания и своевременно их передавал в войска, был дисциплинирован и никогда не выказывал трусости и нерешительности. Жили мы с ним в дружбе и согласии. Правда, он не всегда одобрял мои планы, считая их иногда рискованными, и по долгу службы докладывал свои сомнения, но раз какое-либо дело было решено, он клал всю свою душу для наилучшего выполнения той или иной предпринимавшейся операции.
Его недостаток был в том, что он не очень доверял своим штабным сотрудникам и лично старался входить во все мелочи, в особенности – по генерал-квартирмейстерской части. Этим он обезличивал своих помощников и переобременял себя работой, доводившей его до переутомления. Во всяком случае, это был отличный начальник штаба.
В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил, по моему представлению, 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала. После Деникина генерал-квартирмейстером был назначен генерал Никитин[37], человек средних способностей, честный, спокойный и при таком начальнике штаба, как Ломновский, не игравший в штабе никакой роли.
Рядом с 8-й армией действовала 3-я армия, во главе которой стоял генерал Рузский[38], человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято приписывались. В качестве яркого примера этого могу привести тот странный и печальный факт, что он никогда не опроверг резкой неточности, появившейся в русской печати в первых же телеграммах о наших армиях и о взятии Львова.
Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передовыми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформированы, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже; что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше и, как дальше будет видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое.
Вообще, тыл наших армий был, в сущности, в начале кампании в хаотическом состоянии и был более приспособлен к стоянию на месте, т. е. к обороне, нежели к работе во время энергичного наступления, которое выпало нам на долю.
В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно и что если бы Военное министерство не занималось преимущественно войной с Государственной думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году и что война застала нас врасплох, только усугубляет вину, ибо нам было известно, что немцы подготовляются к 1915 году, а следовательно, хоть тресни, а мы также должны были, чего бы это ни стоило, подготовиться к этому году, а не к 1917-му.
И это было хотя и трудно, но возможно; мы же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка, и дошли до того, что начали войну, имея только до 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий почти совсем не имели.
Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная.
Ни для кого не было секретом, что после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Германия, в опьянении от своих побед, стала стремиться к всемирной гегемонии. В этом отношении Россия, ее старая союзница и пособница, мешала ее планам на Ближнем Востоке, так же как и Франция с ее идеей о реванше и стремлением вернуть Эльзас и Лотарингию. Еще в большей степени мешала Германии Англия с ее флотом и твердо установившейся мировой торговлей.
И вот, в особенности с воцарением императора Вильгельма II, начинается упорное планомерное развитие военных (сухопутных и морских) сил Германии во главе нового Тройственного союза – Германия, Австро-Венгрия и Италия.
При этом нравственная подготовка всех слоев германского народа к этой великой войне не только не была забыта, но была выдвинута на первый план, и народу, столь же упорно, как и успешно, всеми мерами внушалось, что Германия должна завоевать себе достойное место под солнцем, иначе она зачахнет и пропадет, и что великий германский народ, при помощи своего доброго немецкого бога, как избранное племя, должен разбить Францию и Англию, и низшую расу славян с Россией во главе обратить в удобрение для развития и величия высшей германской расы.
Пришлось и всем остальным народам Европы волей-неволей напрягать свои силы для подготовки борьбы за свою свободу и интересы. Императору Александру III не оставалось другого решения, как сойтись с Францией, усердно подготовлять свой Западный театр военных действий и развивать свои вооруженные силы.
В течение последних двадцати лет, как раньше уже было много сказано, начались бестолковые колебания, которые расстроили нашу армию, а всю предыдущую подготовку Западного театра, столь разумно и тщательно подготовлявшуюся Обручевым, свели к нулю. Поощряемые Германией, мы устроили себе дальневосточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового договора.
Мы позорно проиграли войну с Японией, и такими деяниями, нужно по справедливости признать, само правительство ускорило революцию 1905–1906 гг. В годы Японской войны и первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу, что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спохватились мы в своей ошибке довольно поздно, после аннексии Боснии и Герцеговины, но нравственную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее – не допустили.
Если бы в войсках какой-нибудь начальник вздумал объяснять своим подчиненным, что наш главный враг – немец, что он собирается напасть на нас и что мы должны всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно изгнан со службы, если бы не был предан суду. Еще в меньшей степени мог бы школьный учитель проповедовать своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам.
Он был бы сочтен опасным панславистом, ярым революционером и сослан в Туруханский или Нарымский край. Очевидно, немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные посты, был persona gratissima[39] при дворе. Кроме того, в Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая плевала на нас.
Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо неминуемой войне, которая должна была решить участь России и Европы? Очевидно, никакая, или, скорее, отрицательная, ибо во всей необозримой России, а не только в Петербурге, немцы царили во всех отраслях народной жизни.
Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война стряслась им на голову, – как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что «какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов». Но кто же такие сербы, не знал почти никто, что такое славяне – было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать – было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, т. е. по капризу царя.
Что сказать про такое пренебрежение к русскому народу! Очевидно, немецкое влияние в России продолжало оставаться весьма сильным. Вступая в такую войну, правительство должно было покончить пикировку с Государственной думой и привлечь, поскольку это еще было возможно, общественные народные силы к общей работе на пользу Родины, без чего победоносной войны такого масштаба не могло быть. Невозможно было продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие, и конституцию в лице законодательной Думы.
Если бы царь в решительный момент жизни России собрал обе законодательные палаты для решения вопроса о войне и объявил, что дарует настоящую конституцию с ответственным министерством и призывает всех русских подданных без различия народностей, сословий, религий и т. д. к общей работе для спасения Отечества, находящегося в опасности, и для освобождения славян от немецкого ига, то энтузиазм был бы велик и популярность царя сильно возросла бы.
Тут же нужно было добавить и отчетливо объяснить, что вопрос о Сербии – только предлог к войне, что все дело – в непреклонном желании немцев покорить весь мир. Польшу нужно было с высоты престола объявить свободной с обещанием присоединить к ней Познань и Западную Галицию по окончании победоносной войны. Последнее не только не было сделано, но даже на воззвание Верховного главнокомандующего к полякам царь, к их великому недоумению и огорчению, ничем не отозвался и не подтвердил обещания великого князя.
Можно ли было при такой нравственной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах? Чем был виноват наш солдат, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор – из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России.
Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим Отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой Родине! Не само ли самодержавное правительство, сознательно державшее народ в темноте, не только могущественно подготовляло успех революции и уничтожение того строя, который хотело поддержать, невзирая на то, что он уже отжил свой век, но подготовляло также исчезновение самой России, ввергнув ее народы в неизмеримые бедствия войны, разорения и внутренних раздоров, которым трудно было предвидеть конец.
Первый акт революции (1905–1906 гг.) ничему правительство не научил, и оно начало войну вслепую, само подготовляя бессознательно второй акт революции.
Войска были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью.
Невольно является вопрос: что за государственные люди окружали царя и что в это время думали ближние придворные чины всех рангов?
Подводя итог только что высказанному, я должен подтвердить твердое мое убеждение, что император Николай II был враг вообще всякой войны, а войны с Германией в особенности.
По традициям русского императорского дома, начиная с Павла I, и в особенности при Александре I, Николае I и Александре II, Россия все время работала на пользу Пруссии, зачастую во вред себе, и только Александр III, отчасти под влиянием своей супруги-датчанки, видя печальные последствия такой политики в конце царствования своего отца, отстал от этой пагубной для России традиции. Но сказать, что он успел освободить Россию от немецкого влияния никак нельзя, и до воцарения слабодушного Николая II осталась лишь кажущаяся наружная неприязнь к Германии.
Большая же программа развития наших вооруженных сил выплыла не столько для того, чтобы действительно воевать с Германией, сколько для того, чтобы обеспечить этим мир и успокоить общественное мнение, понимавшее, что хотим мы или не хотим, но войны не избежать. Сам же царь едва ли верил, что эта война состоится. Обвинять Николай II в этой войне нельзя, так как не заступиться за Сербию он не мог, ибо в этом случае общественное негодование со стихийной силой сбросило бы его с престола, и революция началась бы, при помощи всей интеллигенции, не в 1917, а в 1914 году.
Несомненно, что этим предлогом воспользовались бы немедленно все революционные силы России, подготовлявшиеся в подполье ко второму акту революции. Виноват же царь в том, что он сам не знал, чего хотел, не отдавал себе отчета в истинном положении дела и, окруженный лестью, самоуверенно думал, что мир и война в его руках: он был убежден, что он – тонкий дипломат, умело ведущий внешнюю и внутреннюю политику России по собственному произволу, невзирая на столь еще недавний урок Японской войны и революции 1905–1906 гг.
За последние 30 лет я был в Германии не менее 25 раз, т. е. почти ежегодно. В числе моих поездок были и казенные командировки, вследствие которых мне пришлось много разъезжать по Германии, знакомиться и беседовать с массою людей всевозможных классов и общественных положений; и почти столь же часто посещал Францию, Италию и Австро-Венгрию.
Поэтому могу смело сказать, что, зная вышеперечисленные страны, в особенности Германию хорошо, основательно очевидно, ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что война возникла вследствие убийства наследника австро-венгерского престола с женой в Сараево. Всякому ясно, что это повод, к которому привязались, потому что война была решена, была, безусловно, неизбежна, и что не будь этого инцидента, явился бы какой-либо другой повод для того, чтобы объявить нам и французам войну под тем или иным предлогом. Кому-то она, это видно, была нужна. Ответ на этот вопрос безошибочно выясняет и вопрос о том, кто главный виновник этой войны.
Чтобы решить его верно и справедливо, нужно вспомнить вкратце положение Германии за последние столетия. Во времена войн Наполеона I, немцы на своих боках поняли, как невыгодно быть раздробленными, и тогда возникли разные патриотические общества во главе, объединявшие в умах и сердцах всех немцев воедино; и с тех пор лучшие немецкие патриоты стремились образовать единую сильную Германию.
Австро-прусская война 1866 г. выкинула Австрию из Германии и возвысила Пруссию при явном пособничестве России, а Франко-прусская война 1870–1871 гг. при открытой и могущественной помощи той же России дала возможность Пруссии разгромить Францию наголову, один на один, без вмешательства Австрии, которой угрожала Россия; а затем Пруссия заключила мир с Францией без вмешательства Европы, с громадной по тогдашнему времени контрибуцией с аннексией Эльзаса и Лотарингии и соединением всех немецких государств в единую Германскую империю с Пруссией во главе.
В то время, т. е. в 71 г. прошлого столетия, я был пятнадцатилетним юношей и отлично помню, как решительно все немцы, не исключая русскоподданных, от патриотического восторга с ума посходили и ничего не могли соображать, кроме победоносных гимнов и песен в честь и славу Германии. С тех пор, т. е. в течение почти полстолетия, немецкий патриотизм укреплялся и расширялся.
Он впитывался в каждого немца с молоком матери и затем на школьной скамье развивался при помощи учителей и сверстников и далее на всем жизненном поприще каждого немца на службе, в пивной, в театре, на улице и т. д. Случалось беседовать с людьми, рекомендовавшимися социал-демократами, и которые твердо исповедовали свои социалистические убеждения, но как только затрагивались вопросы о мировом значении Германии, большинство с.-д. сразу превращались в тигров, яростно требовавших для Германии всемирного владычества.
Не знаю как теперь, но до 1914 г. включительно, по мнению немцев всех сословий, возрастов и положений (со спартаковцами[40] мне не приходилось сталкиваться), Германия – страна исключительная, предназначенная самим Богом к всемирной гегемонии, а все остальные народы, в особенности славяне, пригодны лишь унавоживать собою ниву, на которой немцы будут возделывать германскую культуру; и они, например, твердо были убеждены, что Балканский полуостров, Константинополь и Малая Азия также должны нераздельно принадлежать Германии.
Немцы презирали побежденную ими Францию, в особенности же Россию, варварски осмелившуюся отказаться со времени царствования Александра III таскать для них каштаны из огня, и всем сердцем непримиримо ненавидели Англию, захватившую массу лучших земель на всем земном шаре и устроившую себе богатейше колонии и торговые рынки в то время, когда новой Германской империи не существовало, – и этого немцы англичанам простить не могли.
Неоспоримо, что во все время после 1871 года Германия беспрерывно, ничего не жалея, усиленно вооружалась как на суше, так и на море, и этим самым заставляла и остальные государства подражать ей.
Эти вооружения делались с полного одобрения всей нации, идеалы которой неудержимо стремились к германскому всемирному владычеству. На кайзера в немецком значении этого слова возлагалась подготовка и ответственность за выполнение этого национального идеала.
Обвинять Вильгельма II за эту войну – в высшей степени несправедливо, ибо он продукт своего народа и своего времени и исполнял лишь свое назначение. Если же винить кого-либо, то следует считать виновным всех немцев, весь германский народ, а не одиночных людей, как бы они ни были высоко поставлены.
Кто видел, как я, Вильгельма II, после ежегодного весеннего смотра вой-ска в Берлине, окруженного знаменами с музыкой впереди, тот не может сказать, что виноват в войне один Вильгельм. В 1898 году я был один из приглашенных на парад и ехал верхом за императорским кортежем, и безумный восторг несметной толпы при виде кайзера со знаменами, ехавшего верхом от Темпельгофского поля до самого дворца, подделать было нельзя – народ явно приветствовал того вождя и регалии тех народных полчищ, на которых возлагались выполнение народных идеалов и вожделений.
То же самое впечатление я вынес на больших императорских маневрах, на которых я присутствовал в качестве гостя в 1907 году: народ, увидев кайзера, прорвал и опрокинул конную стражу, охранявшую императора, окружил его и стал целовать его ноги, сапоги, седло, лошадь.
Народа же на маневрах было гораздо больше, чем войск, и громадные толпы людей всех сословий неотступно следовали за войсками. Вообще германцы – военная нация, у которой голова давно закружилась от боевых успехов 1864, 1866 и в особенности 1870–1871 гг.; и повторяю, для меня, по крайней мере, на основании моих собственных наблюдений, не подлежит никакому сомнению, что усиленная подготовка к войне, в последние 40 лет, велась в Германии не только с полного одобрения, но и по непреклонной воле всего народа (за исключением незначительного меньшинства), и война подготовлялась для всемирного порабощения народов, и в первую голову поражения России и Франции, а затем, во вторую очередь, Англии.
Для верного исполнения этого плана были заключены союзы с Австрией против России и с Италией против Франции, и эти союзы были также одобрены всей Германией, и нет причин или оснований считать Вильгельма чуть ли не единственным виновником этой чудовищной войны. Он лишь воплощал собой чрезвычайно образно и ярко свой народ во времени, в котором он царствовал.
Предотвратить войну было невозможно не только нам и нашим союзникам, но и самим немцам после принесенных ими неисчислимых жертв, исключительно для поставленной ими идеи выполнения великой патриотической цели. Вильгельм же ни в каком случае изменить назревшей войны не мог и не позже 1915 г. обязан был начать ее – или же сам слетел бы с престола. Выбора ему не было, и не в объявлении войны состоит его вина.
Виноват же Вильгельм в значительной степени в том, что Германия проиграла эту войну, тогда как она должна была ее выиграть. Чтобы пояснить мою мысль, мне необходимо обрисовать это яркое лицо, приковывавшее внимание всего мира в течение долгих лет. Пресса всех стран непрерывно им занималась, и, несомненно, это был незаурядный человек.
Во время моих служебных командировок мне пришлось многократно с ним разговаривать, несколько раз завтракать и обедать за императорским столом в непосредственной близи от него и видеть его в Берлине, окруженного его двором, в Потсдаме на летнем положении и в Касселе на больших маневрах, среди его войск и народа. Все это вместе взятое, как мне кажется, дало мне возможность составить себе ясное понятие об этом кайзере, олицетворявшем в своем лице надежды и стремления крепкой германской расы.
Среднего роста, скорее худощавый, с очень подвижными чертами лица и быстрыми движениями, он представлял собой тип человека в высшей степени энергичного и решительного. Обладал он умом весьма разносторонним и быстро соображающим, мог говорить кстати о всевозможных предметах, излагая свои мысли в ясной безапелляционной форме. Он, по-видимому, был страшно самонадеян и считал себя способным выполнять всякую роль.
Известно, что на своей яхте «Гогенцоллерн» он по праздничным дням исполнял роль пастора и говорил проповеди, он писал картины, считая себя художником, он сочинял музыкальные пьесы в качестве композитора, и несомненно он считал себя великим полководцем, что бросалось в глаза и на больших маневрах, где он в высшей степени самостоятельно руководил войсками и разбирал их действия с необыкновенным апломбом и решительностью, чему я был свидетелем.
Когда я наблюдал за ним со стороны, он производил на меня впечатление человека вполне убежденного, что он выполняет особую миссию, данную ему свыше, а по складу ума, характера и темперамента это был прирожденный самодержец. Гинденбург, Людендорф, Тирпиц в своих отчетах и воспоминаниях, в особенности на первых порах, из понятных чувств приличия не могут ссылаться на волю их императора; но никто не разуверит меня, что он имел огромное решающее влияние на ход войны и что ни одна крупная операция не предпринималась без его разрешения, а зачастую и по его настоянию или повелению.
Неоспоримо, что план войны был составлен вполне целесообразно: накинуться сначала на Францию, быстро, сразу ее уничтожить, не давая времени и возможности Англии помочь ее союзнице, а затем перекинуть свои главные силы на Восточный фронт, чтобы раздавить Россию. Проход через Бельгию, вопреки международному праву, и был предпринят в расчете, что Англия, имевшая ничтожную сухопутную армию, не успеет развить своих сил, как уже с Францией, в течение трех-четырех месяцев, будет совершенно покончено.
Этот план войны должен был быть выполнен не позже 1915 года, а еще лучше в 1914 году, ибо каждый год запоздания уменьшал шансы на его удачу, так как Франция и Россия стали усиленно готовиться к ней, тогда как Германия уже закончила свою подготовку. Но это было на суше, морские же германские силы были еще в периоде своего развития, да и Нильский канал еще не был закончен, поэтому очевидно предполагалось, что в первую очередь, без участия флота, в котором вначале и надобности не было, да и рискованно было им зря жертвовать, будут уничтожены франко-русские силы, а с главным врагом – Англией – Германия разделается впоследствии, один на один.
Действительно, в начале войны у немцев все шло как по маслу, но вторжение 1-й и 2-й русских армий в Восточную Пруссию заставило Вильгельма потерять равновесие, и он направил туда два корпуса с Западного фронта на Восточный перед самым Марнским сражением, которое решало участь кампании.
Если припомнить, что еще два корпуса было оставлено в тылу, то отсутствие четырех армейских корпусов в такой грандиозной решающей операции, как Марнское сражение, должно было иметь и имело катастрофическое значение; и уж тогда было ясно видно, что план войны выполненным быть не может и в будущем рисовалась неминуемая затяжка войны, а следовательно, проигрыш кампании в конечном результате, так как затяжка войны давала Англии время сформировать свою армию и могущественно помочь Франции. При такой обстановке Вильгельм не мог рисковать своим надводным флотом и он принужден был ограничиться подводной войной.
Что бы и кто бы ни говорил и ни писал, и какие бы документы ни печатались, я, зная то, что знаю, останусь при моем убеждении, что войну искала и делала одна Германия и что именно она ее начала, ибо Австрия только плясала под ее дудку.
И нужно по справедливости признать, что она во всех отношениях прекрасно подготовилась и не только могла, но на суше должна была победить и если она войну 1914–1918 гг. проиграла, то лишь потому, что у нее не оказалось новых Бисмарка и Мольтке.
Главная беда главных германских деятелей во время последней войны состояла в том, что на германском языке не существует пословицы «по одежке протягивай ножки». Никто им этой пословицы не перевел, а чувством меры никто из них не обладал; и, по-видимому, ни один из государственных людей не напомнил кайзеру, что безнаказанно нельзя вызывать негодования всего мира и восстановлять против себя все народы, да еще в течение нескольких лет подряд.
По политическим соображениям, внешним и внутреннего порядка им необходимо было перед войной обеспечиться соответствующими союзами и твердо знать, что, например, Италия годится лишь для союза мирного времени, но что воевать может она только против Австрии, своего национального врага, а никак не с нею и не за нее. Бисмаркообразный канцлер, тем или иным путем, не допустил бы Германию до того, чтобы состоять в вой-не решительно со всем миром.
В свою очередь, необходимо признать, что и с военной точки зрения Гинденбург – обыкновенный хороший генерал, – с Людендорфом в придачу, не мог собой заменить старого Мольтке и разбросался при помощи Вильгельма по разным целям превыше возможности.
Ведь не требовалось гениальности – нужно было иметь в наличии только простой здравый смысл, чтобы не изменить плана войны и понять, что ранее всего было, безусловно, необходимо разбить западного противника, т. е. французов, пока англичан было всего горсточка, и лишь добившись там надлежащих результатов, можно было перекидывать войска с запада на восток.
Правда, наши 1-я и 2-я армии были разбиты и отражено было наше наступление на Восточную Пруссию, но зато проигрывается Марнское сражение, а затем и война. Правда, что в этой коренной ошибке ни Гинденбург, ни Людендорф не виноваты, но их дальнейшие деяния – воевать по преимуществу по линии наименьшего сопротивления, т. е. на востоке, не покончив с западным врагом, не заслуживают одобрения.
Следующие сформированные восемь корпусов опять делятся пополам и, насколько мне помнится, направляются поровну, по четыре корпуса на восток и на запад.
1915 год почти исключительно посвящается Восточному фронту, и главные силы действуют против России.
Немцы уповали, что, разбив наголову русских, они добьются на Восточном фронте или сепаратного мира, или революции и их восточный враг исчезнет, а тогда легче будет справиться с западными противниками. Однако восточный враг исчез как таковой только в 1917 году, т. е. три года спустя после начала войны, а за это время Англия выставила многомиллионную армию и Америка к ней присоединилась. Было ясно, уже осенью 1915 года, что Германией война вперед проиграна по ее собственной вине.
Если бы с начала войны она все время держалась бы на востоке, в общем, оборонительно, до уничтожения французской армии, то эта задача была бы ею почти наверно закончена к осени 1915 года и тогда расправа с восточным противником оказалась бы довольно простой и неизбежной.
Бросать же свои войска с запада на восток, не добившись соответствующих результатов во Франции, и распространяться не только по Западной России, но и по Балканскому полуострову и Малой Азии, гоняясь за сравнительно дешевыми лаврами, указывало на то, что в германской армии не было и мольткеобразного стратега.
В сущности, я не думаю обвинять немцев за войну; вероятно, другой народ на их месте, в их обстановке в то время, тоже захотел бы устроить себе приятное место «под солнцем», но виноваты они перед собой в том, что проиграли войну, а уже давно известно, что только победителей не судят.
Как бы то ни было, отсутствие у немцев во время этой войны талантов, подобных Бисмарку и старому Мольтке, показало не только немцам, но и всем народам, что без великих людей великих дел делать невозможно, и что если все люди равны в принципе, то по своим способностям, знаниям, характерам и силе воли люди бесконечно разнообразны, и что полное равенство может считаться красивой утопией, но в природе не существует.
Человечество вообще живет, стремясь к равным идеалам-утопиям, но достичь их на этой земле не может. Одна из этих утопий – вечный мир, которого на нашей планете так же невозможно достичь, как и полного во всех отношениях равенства людей. Но от своей темы я отклонился и, возвращаясь к ней, я утверждаю, что такой сильный, умный, практичный и работящий народ, как немцы, соединившись воедино в 1870–1876 гг., нарушили существовавшее до того европейское равновесие, но в то же время предприимчивости их не хватало поприща для ее надлежащего развития.
Фатально немцы стали искать рынков для торговли и колоний для снова увеличившегося населения, и столкновение с соседями стало совершенно неизбежным и необходимым. По моему мнению, тут никто не виноват, да и борьба далеко еще не закончилась и исход борьбы трудно предсказать.
Если интернационал и коммунизм распространятся по всему свету и охватят все народы, то и этот переворот, в принципе сулящий вечный мир вызовет, во всяком случае, на очень многие годы, жестокую борьбу между сторонниками старого капиталистического строя и адептами нового учения; и, думаю, что мы не у конца, а лишь у начала очень продолжительных войн.
Считаю необходимым в своих воспоминаниях заявить следующее: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и царствующая династия – непримиримейшие и сильнейшие враги моей Родины и моего народа. Они всегда хотели нас подчинить себе во что бы то ни стало.
Это и подтвердилось последней всемирной войной. Чтобы ни расписывал в своих воспоминаниях Вильгельм II (берлинское издание 1923 г.)[41], но войну эту начали они, а не мы; как бы ни уклонялся от истины он, все хорошо знают, какая ненависть была у них к нам, а не наоборот.
В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, сквозящая со страниц моих воспоминаний. Но я всегда говорил и заявляю это печатно – немецкий народ и его армия показали такой пример поразительной энергии, стойкости, силы патриотизма, храбрости, выдержки, дисциплины и умения умирать за свое отечество, что не преклоняться перед ними я, как воин, не могу. Они дрались как львы против всего мира, и сила духа их поразительна. Немецкий солдат, следовательно – народ, достоин всеобщего уважения.
На основании всего этого я предрекаю, что рано или поздно в Германии могут одержать верх монархисты, быть может, временно, в крайнем случае, социал-демократы, а может быть, и император Вильгельм еще вступит на родную землю.
1914 год
Вверенная мне армия к концу июля была сосредоточена на линии Печиска – Проскуров – Антоновцы – Ярмолинцы, имея две кавалерийские дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. 24-й корпус только головой своей начал прибывать к месту сосредоточения, так что в действительности у меня к началу военных действий было не четыре, а три неполных корпуса, так как 1-я бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на правом берегу реки Днестр с самостоятельной задачей. К ней должны были подойти три второочередных кавказских казачьих дивизии, но к моменту перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны.
Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря, наша разведка, в общем, была налажена малоудовлетворительно. Воздушная разведка, вследствие недостатка и плохого качества самолетов, была довольно слабая; тем не менее то, что мы знали, получилось главным образом через ее посредство; агентов шпионажа у нас было мало, и те, которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь и густо занята неприятельскими пехотными заставами.
В общем, нам было известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено; предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на Серете, по линии Тарнополь – Трембовля – Чертков, но в каком количестве и как расположены их силы, узнать не удалось.
На Збруче, кроме пехотных застав 11-го австрийского корпуса, находилась еще кавалерийская дивизия, которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте. Между прочим, она произвела нападение на 2-ю сводную казачью дивизию, которая находилась впереди левого фланга армии у Городка. Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя ротами пехоты, которые были ей временно приданы.
Для встречи подходящего к Городку противника наша пехота заняла густою цепью околицу села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за левым флангом Кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать всю местность впереди залегшей пехоты. Конно-артиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник дивизии взял к себе в общий резерв.
Австрийская конница, подходя к Городку, развернула сомкнутый развернутый строй и без разведки, очертя голову, понеслась в атаку на нашу пехоту в столь неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали обсыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили по ним с фланга и тыла.
При этих условиях очевидно – результат австрийской атаки оказался весьма для них плачевным: трупы перебитых людей и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились беспорядочной толпой наутек.
Распоряжался этим боем с нашей стороны состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов[42]. Начальник же дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли за Збруч. Пришлось удалить этого неудачного начальника, которого заместил генерал Павлов.
Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, дабы нашими наступательными действиями оттянуть хотя бы часть вражьих сил с их Западного фронта на Восточный против нас. В это-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск наступает колонна противника приблизительно силой в одну бригаду пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии.
По этому поводу мною была получена телеграмма главнокомандующего, предлагавшего мне направить на Каменец-Подольск достаточные силы, чтобы прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю возможным, а что когда я перейду в наступление и войду на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит назад, без всякого понукания; разбрасываться же для второстепенных целей нахожу вредным.
Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли Каменец-Подольск 4 августа, а семь рот ополчения, находившихся там, без боя отошли в Новую Ущицу; австрийцы же 6-го числа, узнав о нашем переходе через Збруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я, в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чертков, не пощажу эти города и обложу их такой же, если не большей, контрибуцией.
5 августа войска вверенной мне армии быстро перешли через реку Збруч, составлявшую нашу государственную границу. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только что разбитой у Городка, причем у австрийцев на Збруче никаких резервов не оказалось. Во время перехода через Збруч сгорел дотла Гусятин; почему он сгорел и кто его поджег, так и осталось невыясненным.
Несколько большее сопротивление встретили мы при форсировании реки Серета, в особенности у городков Тарнополя и Черткова. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты наголову, и было взято несколько орудий, пулеметов и пленных. Вслед за сим более серьезный бой разгорелся на реке Коробце, но и тут противник обратился в бегство; была захвачена почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много пленных. При допросе они показывали, что были уверены, что мы еще на Серете, и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом.
Моя армия имела три корпуса в 1-й линии и уступом за левым флангом 24-й корпус, который не поспел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление и был мною направлен к укрепленному городу Галичу, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут я получил телеграмму главнокомандующего, в которой значилось, что 3-й армии приходится очень тяжело и что мне предписывается оказать ей усиленную поддержку.
Действительно, 3-я армия, тесня противника, все с большим и большим трудом подвигалась по направлению ко Львову, и наступил момент, когда она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага.
Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей разведки, что на Гнилой Липе находятся значительные силы противника, окапывающиеся на ее правом берегу, я решил: оставить у Галича против его гарнизона 24-й корпус в виде заслона для обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу 3-й армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на Гнилой Липе.
Фланговый марш приходилось совершать вблизи от противника, и как мой начальник штаба, так и некоторые генералы считали такое движение крайне рискованным; я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть Львов, в особенности – после двух поражений, которые он уже понес.
Кроме того, река Гнилая Липа вообще труднопроходима благодаря болотам и зарослям по обоим своим берегам; лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что австрийцы не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было выполнено без всяких препятствий со стороны противника.
В общем, план сражения на Гнилой Липе состоял в том, чтобы 12-й и 8-й корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев 7-м корпусом, который должен был перейти Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от войск, противостоявших нашей 3-й армии, и отдалить ее от г. Львова, дабы они не зашли в его форты.
8-й корпус, кроме того, должен был загнуть свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галича. 24-му корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за левым флангом армии, было приказано свою головную бригаду выслать форсированным маршем к Галичу для облегчения положения 8-го корпуса, и всему 24-му корпусу было поручено направляться к Галичу для его осады, а в случае возможности – и захвата его внезапной атакой.
На реке Гнилой Липе моя армия дала первое настоящее сражение. Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австро-венгерцы во всех отношениях слабее их и внушили им уверенность в своих вождях.
В течение двух дней, 17 и 18 августа, во время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе, я убедился, во-первых, в том, что командующему армией необходим не малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армией для парирования случайностей, как то полагали немцы, да и мы с ними до начала этой кампании, совершенно недостаточна.
Во-вторых, убедиля я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский резерв для того, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию равномерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал необходимым, чтобы инспектора артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников, управляющих огнем значительных артиллерийских соединений, а не ограничивались только снабжением своих войск огнестрельными припасами. Посему, по окончании сражения, был мною издан соответствующий приказ о роли инспектора артиллерии во время боя.
На второй день боя 7-й корпус перешел через реку Гнилую Липу, правда с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый фланг противника, но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было левому флангу нашей армии, так как из крепости Галича австрийцы значительными силами охватывали фланг 8-го корпуса, который тут дрался.
Высланная, по моему приказу, генералом Цуриковым[43] бригада 24-го корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем облегчила положение нашего 8-го корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в большом расстройстве ночью стали отступать, прикрываемые сильными арьергардами.
Наши войска, тесня их и быстро наступая, захватывали массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много пленных. Штаб армии во время этого сражения находился в г. Бережанах и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном и телеграфом. Таким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного фронта все необходимые донесения для управления боем.
Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии ген. Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Заняла она разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и борясь с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей времени, не по своей, однако, вине.
Одновременно с выигранным мною сражением на Гнилой Липе, 3-я армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к городу Львову. В это время получена была директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как 3-я армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения.
Крупные недостатки моего тыла, его организации, при быстром продвижении вперед меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Не продуманные раньше меры обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на ответственности Военного министерства и Киевского военного округа, ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли администратора.
На мой вопрос: «Какие меры приняты для приема раненых в дальнейшей их эвакуации?» – он твердо ответил мне, что все распоряжения сделаны и что в Бережанах, куда будут свозиться раненые, у него готово 2000 мест, а при необходимости он может принять там до 3000 раненых. В действительности оказалось, что он, в сущности, мог принять не свыше 400 раненых, и когда было свезено свыше 3500 только своих русских солдат и офицеров, не считая неприятельских раненых, то они оказались в крайне критическом положении.
Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впрячь в его работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, чтобы наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, устроить приготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей. В следующих боях, благодаря принятым тотчас же мерам, подобное безобразие более не повторялось, да и во главе санитарной части был мною поставлен толковый администратор ген. Панчулидзев.
По-видимому, положение о санитарной части оказалось негодным не только в 8-й армии, ибо в Ставке пришлось его вновь переработать. Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампании была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло в силу уже после начала войны, и на практике приходилось знакомиться с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении.
До нас доходили слухи, что Военный совет это положение не одобрил и что оно было проведено в жизнь потому, что война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении; тут же скажу, что пришлось мне самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить.
Считаю долгом совести помянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации, они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это – с энергией и распорядительностью, поистине достойными истории.
20 августа воздушная разведка донесла мне, что видна масса войск, стягивающихся к львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один за другим, по-видимому нагруженные войсками, уходят на запад; о том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал для свидания с ген. Рузским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших совокупных действиях, тем более что на время осады Львова я ему, как старшему, должен был быть подчинен.
Во время нашего совещания и он получил донесение командира 9-го корпуса ген. Щербачева[44], что команды разведчиков этого корпуса невозбранно продвигаются вперед и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются. При этом ген. Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Ген. Рузский очень был озадачен полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе.
Но, в конце концов, он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться ко Львову, сильно, однако, сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий пункт мог быть очищен без серьезного боя.
В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера с двенадцатью драгунами очень приветливо. Таким образом, первым вошел во Львов кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу.
Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего наступления на Львов от Брод на Красне; проигранное же им сражение на Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим 3-й армии, и этим участь Львова была решена.
Совершенно ясно, что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям 3-й и 8-й армий, и без моего флангового марша, без разбития противника на Гнилой Липе и продвижения моих войск к югу от Львова этот город без боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявлялось, что город Львов был взят генералом Рузским. Я против этого не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу.
Взятие Львова описывалось затем в печати в совершенно неправдоподобных тонах: сообщалось, что «доблестные войска генерала Рузского продвигались по улицам города по колено в крови». А на самом деле ни во Львове, ни вблизи него уж дня три никаких сражений не было. Армия Рузского была еще далеко от города, когда 8-я армия, продвинувшись южнее далеко вперед, заставила австрийцев очистить Львов.
Когда я ехал в автомобиле на совещание с генералом Рузским в 3-ю армию, сопровождавшие меня полковники граф Гейден и Яхонтов, вследствие порчи шин, отстали от меня. Пока чинилась их машина, они обратили внимание на множество русин, идущих со стороны Львова.
– Вы откуда? – поинтересовались они.
– Из Львова.
– А что, там много войска?
– Нема никого, вси утекли.
Оба мои полковника заинтересовались и решили проверить это показание. Все равно догнать меня они уже не могли. Их автомобиль беспрепятственно докатил до предместий самого Львова, у которых они столкнулись с отдельными мелкими частями 3-й армии, собиравшимися туда входить и ожидавшими только городских властей. Въехав вместе с ними в город, они позавтракали с большим аппетитом в гостинице Жоржа и купили конфет в кондитерской. Вот насколько правильно осведомлялась русская публика о подробностях событий, происходивших на театре войны!
Не могу без горечи душевной вспомнить первую же восторженную телеграмму главнокомандующего о взятии Львова и Галича. Конечно, великий князь Николай Николаевич был тут ни причем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы: «Доблестные войска генерала Рузского взяли Львов, а армия Брусилова взяла Галич».
Все солдаты и офицеры 8-й армии были поражены: почему же армия генерала Рузского – «доблестная» по первым же шагам, а 8-я армия – только просто армия, тогда как доблесть-то беспримерная была именно в войсках 8-й армии, сражавшейся вдоль всей реки Гнилой Липы и до самого местечка Бобрка, не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а 3-я армия пришла на готовое.
С первых же шагов нам бросилась в глаза несправедливость и пристрастие штаба Юго-Западного фронта. И чем дальше развертывались события, тем очевиднее это было. Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и умалять успехи других – не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая только о конечном результате для России. Да я и не мог, по условиям дисциплины, ставить таких точек над «i». Но в войсках моих разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-Западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалеченные солдаты хорошо это понимали.
Тотчас по занятии Львова нашими вой-сками была получена директива главнокомандующего, который приказывал ген. Рузскому с его армией, усиленной 12-м корпусом из моей армии, двигаться на Раву-Русскую, мне же, заняв Львов, с главными моими силами расположиться восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя моими войсками сообразно обстановке.
Движение ген. Рузского к Раве-Русской вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на линии Люблин – Холм, и ген. Рузский своим движением должен был охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта справиться не могли и были ими сильно теснимы.
С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта не соответствующим цели, ибо считал возможным одно из двух: или австрийцы не обратят внимания на наш левый фланг и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не примет никакого участия в общем деле, или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят город Львов, и я не буду в состоянии выполнить данной мне задачи.
Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на Гродекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение для дальнейшего наступления. При этом я предполагал, что если на Гродекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нами войска, то, по всем вероятиям, ввиду их деморализации после проигранного сражения, я их осилю; если же противник значительно усилится, то я перейду к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг нашего фронта будет, во всяком случае, более обеспечен.
Сохранение Львова в наших руках имело, по моему мнению, громадное нравственное значение, помимо главной цели – лучшего обеспечения операции ген. Рузского.
Эти соображения я по телеграфу сообщил ген. Алексееву, настоятельно испрашивая разрешения на их выполнение, однако при одном непременном условии – возвращение мне 12-го армейского корпуса. Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул вверенную мне армию вперед, отдав вместе с тем приказание командиру 8-го корпуса взять возможно быстрей сильно укрепленный Миколаев[45], имевший, по моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии, имевшейся в 8-й армии.
22 августа мною было получено донесение командира 24-го корпуса, что сильно укрепленный Галич, почти без всякого сопротивления, был им взят с захватом всей тяжелой артиллерии и разных запасов, которые были там сосредоточены. Это мне была громадная радость, ибо обеспечивало мой тыл и освобождало 24-й корпус; одновременно с этим 2-я сводная казачья дивизия заняла Станиславов[46] и направилась на Калуш-Болехов и Стрый.
Сильно укрепленный Миколаев, вслед за сим, после хорошей артиллерийской подготовки, был также взят почти без потерь, а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил. Таким образом, и левый фланг моей армии, расположившийся против Гродекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии из Бобрки переехал в г. Львов во дворец наместника.
Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли Гродекскую позицию и продолжают на ней спешно совершенствовать свои укрепления; вместе с тем, от нее же получались сведения, что по железной дороге подвозятся подкрепления и заметны пехотные колонны, двигающиеся от Перемышля к Гродеку.
Градоначальником г. Львова был мною назначен полковник Шереметов, занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора, которому была дана инструкция требовать лишь одного – соблюдения полного спокойствия и выполнения всех требований военного начальства, и предписывалось сохранить возможно большую нормальность жизни города.
Явившейся ко мне депутации от городского управления и всех сословий я объявил: «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны; это – все дела, касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия: сидеть спокойно на месте, выполнять все требования военного начальства и жить возможно более мирно и спокойно.
Наши войска мирных жителей трогать не будут; за все, что будет браться от жителей, в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу, определенному Верховным главнокомандующим. Предваряю, однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут выказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. Никакой контрибуции на город накладывать не буду, если его жители будут спокойны и послушны».
Депутация заявила свою благодарность за сказанные мною слова и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лояльности по отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный генерал-губернатор Галиции[47] вступил в исполнение своих обязанностей, предприняты были с нашей стороны разные политико-религиозные меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году; но генерал-губернатор Галиции е был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела.
Униатский митрополит граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас, по вступлении русских войск во Львов был, по моему приказанию, предварительно арестован домашним арестом. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет; в таком случае я брал на себя разрешить ему оставаться во Львове с исполнением его духовных обязанностей.
Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за сим начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего. Состоявшему при мне члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, поступившему при объявлении войны вновь на военную службу, мною было приказано осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофильство.
Граф Бобринский чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин. Не помню цифр, но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены; уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора.
Итак, войска вверенной мне армии были двинуты к западу от Львова с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой Гродекской позиции, причем было приказано 24-му корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем идти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус успел занять свое исходное положение для участия в Гродекском сражении.
К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было известно, что противник, отступивший от Львова, т. е. остатки войск, дравшихся против наших 3-й и 8-й армий, остановились на Гродекской позиции на правом берегу реки Верешицы и что к этим войскам подошли значительные подкрепления, но в каком размере – мне было неизвестно.
Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными и что противник, конечно знавший, что 3-я армия пошла на Раву-Русскую, а у Львова осталась лишь 8-я армия, вероятно, сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на реке Верешице, разрушенные вначале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись, устраивались новые переправы, и несколько сильных авангардов перешло на левый берег Верешицы.
Являлся вопрос: при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой? По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было хотя бы мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой.
В крайности, я всегда мог перейти потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук. Такой образ действий, как в этом случае, так и в дальнейшем ходе кампании, мне значительно помогал, ибо при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно – и его намерения.
В действительности, австрийцы 28-го того же августа также перешли в наступление, и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте 8-й армии силы противника, по сравнению с нашими, оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг – на 12-й корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве; казалось, что противник предполагает наносить свой главный удар именно на этот фланг.
Я, однако же, думал, что это – не что иное, как демонстрация, дабы заблаговременно притянуть туда наше внимание, а следовательно, и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против 7-го и 8-го корпусов, а в особенности на левом фланге против 24-го корпуса, были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли, и все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов.
Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно было считать, что против 8-й армии находится не менее семи корпусов, т. е. почти вдвое большие силы, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, форты которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно вылез вперед и охватывался австрийцами.
Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое на случайных позициях и понесли уже значительные потери (в резерве у меня оставалась всего одна бригада пехоты), я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Миколаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что по французской поговорке – «ce n’est que le premier pas qui cote»[48], раз войска подадутся назад, то, пожалуй, у Львова им не удержаться; поэтому я окончательно решил: правому флангу и центру оставаться на своих местах, а левому флангу, в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Миколаева, и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой; центром же и правым флангом действовать активно.
В этом решении не отходить мне помог выказанной им радостью состоявший при мне для поручений Генерального штаба генерал-майор Байов[49], которому я тут же выразил мою благодарность за нравственную поддержку. Вместе с тем мною было приказано спешно вести через Галич ко Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславову. Затем я телеграфировал командующему 3-й армией требование немедленно мне вернуть бригаду 12-го корпуса, которую он, вероятно по недоразумению, потащил с собой к Раве-Русской.
От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения, по 1000 человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей дивизии, находившейся у г. Стрыя, также было отдано приказание форсированным маршем прибыть к левому флангу армии, у Миколаева переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшие указания для действия от командира 24-го корпуса.
Таким образом, я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов, и не терял надежды, что, дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо у нас в качестве подвижного состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника.
Но часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным, и потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены и подошли свое-временно, за исключение, к сожалению, моей бригады, упомянутой ранее, которую ген. Рузский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой.
Тогда я просил направить мне какую-либо другую бригаду, так как если бы я не устоял, то и ему у Равы-Русской пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши прежние удачи, воздействовать со своей стороны на 3-ю армию. Тем более что по имевшимся у нас сведениям силы противника, противостоявшие 3-й армии, были небольшие; но все мои заявления по этому поводу остались гласом вопиющего в пустыне.
В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить приказ об осторожном расходовании огнестрельных припасов и этим обес-кураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место мне об этом думать.
В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная связь штаба 24-го армейского корпуса со штабом армии была нарушена и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле; телеграфная же связь была восстановлена лишь к полудню следующего дня.
Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить ее немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как с рассвета бой, несомненно, начнется усиленным темпом и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии.
На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал: «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас и предаю вас суду». И тут же приказал начальнику штаба армии немедленно передать мое приказание генералу Байову ехать в штаб 24-го корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6–7 часов утра, что ни моего разрешения, ни моего запрета уже больше не требуется, ибо к его приезду бой будет в самом разгаре; я приказал передать ему также, что я крайне возмущен, что его начальник штаба им так мало дисциплинирован.
На второй день боя мой правый фланг держался на месте, и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день; в центре 7-й и 8-й корпуса, хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах; но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щерик в полном беспорядке и потеряла 28 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, что армия была бы поставлена в критическое положение.
Я направил на поддержку 24-го корпуса 12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве; к тому же времени прибыла и 2-я сводная казачья. Чтобы остановить напор противника, ген. Каледин спешил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский полк и один эскадрон белгородских улан; 2-я же сводная казачья дивизия заполнила разрыв, который оказался между 8-м и 24-м корпусами. Так как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии, очевидно, не могли остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности ген. Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов, которые самоотверженно и бешено кинулись на врага.