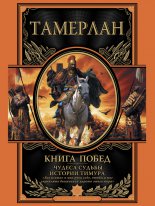Мои воспоминания. Брусиловский прорыв Брусилов Алексей

После Февральской революции он был вызван в Петроград Временным правительством, которое назначило его главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На этой должности он ничего сделать не мог и просил вернуть его в действующую армию. Его назначили командующим 8-й армией. Он тотчас же подружился с Борисом Савинковым, который состоял его комиссаром, и повел интригу против главкоюза ген. Гутора.
Свалив его и заместив, он начал вести интригу против меня, Верховного главнокомандующего, и благодаря дружбе Савинкова с Керенским вполне успел и заместил меня.
Но тут он свалился сам, решив повалить Керенского и провозгласить себя диктатором.
Считаю, что этот безусловно храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров. Благодаря своей горячности, он без пользы губил солдат, а провозгласив себя без всякого смысла диктатором, погубил своей выходкой множество офицеров.
Но должен сказать, что все, что он делал, он делал, не обдумав, не вникая в глубь вещей, но с чувством честного русского патриота. И теперь, когда он давно погиб, я могу только сказать: «Мир праху его», как и всем, подобным ему пылким представителям нашей бывшей России. От души надеюсь, что русские люди будущего сбросят с себя подобное вредное сумасбродство, хотя бы и руководимое любовью к России.
Как известно, он был арестован и со своими сподвижниками был отправлен для содержания под арестом в Быхово. Во время Октябрьского переворота он убежал оттуда, чем окончательно погубил Духонина, и в сопровождении Текинского конного полка отправился на юг, в Донскую область, где соединился с Алексеевым и Деникиным.
Возвращаясь мысленно к прошлому, я часто теперь думаю о том, что наши ссылки на приказ № 1, на «Декларацию прав солдата», будто бы главным образом развалившие армию, не вполне верны. Ну а если эти два документа не были бы изданы, – армия не развалилась бы? Конечно, по ходу исторических событий и настроения масс она все равно развалилась бы, только более тихим темпом.
Прав был Гинденбург, говоря, что выиграет войну тот, чьи нервы крепче. У нас они оказались наиболее слабыми, потому что мы должны были, вследствие отсутствия техники, восполнять этот недостаток излишне проливаемой кровью. Нельзя безнаказанно драться чуть ли не с голыми руками против хорошо вооруженного современной техникой и воодушевленного патриотизмом врага. Да и вся правительственная неразбериха и промахи помогли общему развалу.
Нужно также помнить, что революция 1905–1906 годов была только первым актом этой великой драмы. Как же воспользовалось правительство этими предупреждениями? Да, в сущности, никак: был лишь выдвинут вновь старый лозунг «Держи и не пущай», а все осталось по-старому. Что посеяли, то и пожали!..
9 мая 1917 года
Приказываю ввести в жизнь армии и флота следующие согласованные с § 8 декларации военнослужащих:
1) Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан. Но при этом каждый военнослужащий обязан строго согласовывать свое поведение с требованиями военной службы и военной дисциплины.
2) Каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза.
3) Каждый военнослужащий вне службы имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды.
4) Все военнослужащие пользуются свободой совести, а потому никто не может быть преследуем за исповедуемое им верование и принуждаем к присутствию при богослужениях и совершению религиозных обрядов какого-либо вероисповедания. Участие в общей молитве не обязательно.
5) Все военнослужащие в отношении своей переписки подчиняются правилам, общим для всех граждан.
6) Все без исключения печатные издания (периодические или непериодические) должны беспрепятственно передаваться адресатам.
7) Всем военнослужащим предоставляется право ношения гражданского платья вне службы; военная форма остается обязательной во всякое время для всех военнослужащих, находящихся в действующей армии и в военных округах, расположенных на театре военных действий. Право разрешать ношение гражданского платья военнослужащим в некоторых крупных городах, находящихся на театре военных действий, предоставляется главнокомандующим армиями фронтов или командующим флотом. Смешанная форма ни в коем случае не допускается.
8) Взаимоотношения военнослужащих должны основываться на строгом соблюдении воинской дисциплины, на чувстве достоинства граждан свободной России и на взаимном доверии, уважении, вежливости.
9) Особые выражения, употребляющиеся как обязательные для ответов одиночных людей и команд вне строя и в строю, как, например, «так точно», «никак нет», «не могу знать», «рад стараться», «здравия желаю», «покорно благодарю» и т. п. заменяются общеупотребительными: «да», «нет», «не знаю», «постараемся», «здравствуйте» и т. п.
10) Назначение солдат в денщики отменяется. Только в тех случаях, где нет возможности найти на стороне прислугу, разрешается офицерам, военным врачам, чиновникам и духовенству иметь вестового для личных услуг, назначенного по обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с платой по соглашению, но не более одного вестового на каждого из указанных лиц.
11) Вестовые для личных услуг не освобождаются от боевой службы.
12) Обязательное отдание чести как отдельными лицами, так и командами отменяется. Для всех военнослужащих взамен обязательного отдания чести устанавливается добровольное приветствие. Примечание 1. Отдание воинских почестей командами и частями при церемониях, похоронах и т. п. случаях сохраняется. Примечание 2. Команда «смирно» остается во всех случаях, предусмотренных уставами.
13) В военных округах, не находящихся на театре военных действий, все военнослужащие в свободное от занятий службы и нарядов время имеют право отлучаться из казармы и с кораблей в гавани, но лишь осведомив об этом соответствующее начальство и получив надлежащее удостоверение личности.
В каждой части должна оставаться рота или вахта, и, кроме того, в каждой роте, сотне, батарее и т. п. должна оставаться еще и ее дежурная часть. С кораблей, находящихся на рейдах, увольняется такая часть команды, которая не лишает корабля возможности, в случае крайней необходимости, немедленно сняться с якоря и выйти в море.
14) Никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда. Но в боевой обстановке начальник имеет право под свою личную ответственность принимать все меры, до применения вооруженной силы включительно, против не исполняющих его приказаний подчиненных. Эти меры не почитаются дисциплинарными взысканиями.
15) Все наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего, а также мучительные и явно вредные для здоровья не допускаются. Постановка под ружье отменяется.
16) Применение наказаний, не упомянутых в уставах дисциплинарных, является преступным деянием, и виновные в нем предаются суду. Точно так же должен быть предан суду всякий начальник, ударивший подчиненного в стою или вне строя.
17) Никто из военнослужащих не может быть подвергнут телесному наказанию, не исключая отбывающих наказания в военно-тюремных учреждениях.
18) Право назначения на должность и, в указанных законом случаях, временного отстранения начальников всех степеней от должностей принадлежит исключительно начальникам. Точно так же они имеют право отдавать распоряжения, касающиеся боевой деятельности и боевой подготовки части, ее обучения, специальных ее работ и инспекторской и хозяйственной части. Право же внутреннего самоуправления, наложения наказаний и контроля в точно определенных случаях принадлежит выборным войсковым организациям. Объявляя настоящее положение, предписываю принять его в основание пересмотра уставов и законоположений, определяющих внутренний быт и служебную деятельность военнослужащих, а равно дисциплинарную и уголовную их ответственность.
Военный и морской министр А. Керенский
Я больше 50 лет служу русскому народу и России, хорошо знаю русского солдата и не обвиняю его в том, что в армии явилась разруха. Утверждаю, что русский солдат – отличный воин и, как только разумные начала воинской дисциплины и законы, управляющие войсками, будут восстановлены, этот самый солдат вновь окажется на высоте своего воинского долга, тем более если он воодушевится понятными и дорогими для него лозунгами. Но для этого требовалось время.
Этим я заканчиваю мой 1-й том воспоминаний. Если Бог жизни даст, постараюсь вспомнить все подробности моей жизни при новом режиме большевиков в России. Из всех бывших главнокомандующих я остался в живых и на территории бывшей России – один. Считаю своим священным долгом писать правду для истории этой великой эпохи. Оставаясь в России, несмотря на то, что перенес много горя и невзгод, я старался беспристрастно наблюдать за всем происходящим, оставаясь, как и прежде, беспартийным. Все хорошие и дурные стороны мне были заметнее.
В самом начале революции я твердо решил не отделяться от солдат и оставаться в армии, пока она будет существовать или же пока меня не сменят. Позднее я говорил всем, что считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило. Одно время, под влиянием больших семейных переживаний и уговоров друзей, я склонялся к отъезду на Украину и затем за границу, но эти колебания были непродолжительны.
Я быстро вернулся к моим глубоко засевшим в душе убеждениям. Ведь такую великую и тяжелую революцию, какую Россия должна была пережить, не каждый народ переживает. Это тяжко, конечно, но иначе поступить я не мог, хотя бы это стоило жизни. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал и не считаю для себя возможным и достойным.
В заключение мне хочется сказать, какое глубокое чувство благодарности сохранилось в душе моей ко всем верившим мне моим дорогим войскам. По слову моему они шли за Россию на смерть, увечья, страдания. И все это зря… Да простят они мне это, ибо я в том не повинен, провидеть будущее я не мог.
Часть II
Перечел я все, что успел продиктовать и что торопилась жена моя переписать, лечась в Карлсбаде, в течение семи недель. Конечно, это производит сумбурное впечатление, но что же делать! Выбора нет. Да ведь это же не литературное произведение, а только отрывки воспоминаний, которых у себя дома я не могу написать при нынешней политической обстановке.
Конечно, это сырой материал, требующий отделки и более тщательной разработки. Может быть, это мне или жене когда-нибудь и удастся сделать. Необходимо все написать одной орфографией, а то жена пишет по старой, а переписывает документы и с печатных материалов по новой. Одним словом, путаница большая и необходимо привести все это в порядок и дать стройную систему, но времени для этого у нас нет.
Оставляю все это за границей, у друзей, которые, надеюсь, это сохранят от чужого взгляда, дабы эти записки не могли быть использованы в печати преждевременно. Конечно, нас всех там могут расстрелять за эти воспоминания, но не в этом дело. Молясь ежедневно, как православная церковь учит, чтобы избегнуть «наглыя смерти», я все же полагаюсь на волю Божию, и если и нам суждена эта наглая смерть в подвалах на Лубянке, то да будет Его святая воля.
Но я опасаюсь, что все, что я вспоминаю на этих страницах, что я пережил за эти годы, будет уничтожено в Советской России. Они слишком много лгали, пользуясь моим именем. А я бы хотел, чтобы в новой России наши потомки знали правду, и прошу сохранить до моей смерти все, что успел продиктовать.
Пусть знает история, как я любил Россию и что пережил во имя ее.
А. Брусилов 12 июня 1925 г.(Карлови-Вари, Карлсбад по-чешски)
Окончив диктовать кратко свою автобиографию в первый том моих воспоминаний, приступаю к самому тяжкому и сложному периоду своей жизни. Вполне сознаю, что все, что я пишу, не имеет стройной последовательности или, тем более, литературной отделки.
Я не следую повальной моде русских людей писать свои воспоминания, наоборот, я этого не хотел, но многие друзья настаивали на этом и я согласился продиктовать, что вспомню. Но это выходит несколько беспорядочно: то я забегаю вперед, то возвращаюсь к старому. Я стар и болен и да простит мне будущий читатель все мои промахи в стиле и форме этих набросков.
В бытность мною главнокомандующим Юзфронтом во время Германской войны большевики и ранее и после Февральского переворота сильно агитировали в рядах армий. Во времена Керенского у них было особенно много поползновений проникать в армию. Мне помнится один случай. Когда Керенский был на фронте вместе со мной, мне докладывал мой начальник штаба ген. Сухомлин следующее: несколько большевиков прибыло в штаб в мое отсутствие.
Они заявили ему, что желают проникнуть в армию для пропаганды. Сухомлин, очевидно, растерялся и разрешил им ехать. Я же это, безусловно, не одобрил и велел их вернуть обратно. Приехав в Каменец-Подольск, они явились ко мне, и я заявил им, что ни в каком случае допустить их в армию не могу, так как они желают мира во что бы то ни стало, а Временное правительство требует войны до общего мира, заодно со всеми нашими союзниками.
И тогда же я выслал их из пределов мне подвластных. Но помимо этого случая в самой армии было много большевиков, которые, конечно, уже давно занимались ловко скрытой пропагандой. Был случай, когда в одной из дивизий во время присяги Временному правительству солдаты отказались приносить присягу под своими знаменами, а требовали красных знамен. Стоило большого труда уговорить их приносить присягу под своими боевыми, веками освященными, знаменами.
Кроме того, по всему фронту мне известно было, что войска в той или иной степени сообщались с неприятелем, и были «любители», которые специально занимались перебежкой к нему для переговоров о братаниях на почве большевизма. В это же время в Каменец-Подольске был собран съезд депутатов от всех полков вверенной мне армии. В нем одним из деятельных представителей был прапорщик Крыленко[96], который назывался у большевиков товарищем Абрамом. Он играл большую роль, и все его речи были направлены против войны, насколько это было возможно в то время.
Мне было очевидно, что вся моя моральная работа пропадает. Обращения с воззваниями, мои многолюдные беседы с депутатами от армии производили желательное для меня впечатление; я видел отклик в глазах и выражении лиц у людей, я слышал громкие одобрения моим словам и мыслям!.. Но все это сейчас же рушилось и направлялось иначе товарищем Крыленко.
Это была легкая задача для него, так как в тайниках своих [душ] солдаты страстно желали окончания войны и присоединились к революции лишь в надежде на близкий мир. Я же призывал к тяжелому долгу относительно Родины. Это, впрочем, моя участь была одна со всеми офицерами всей армии того глубоко трагического для нас времени.
В мае месяце я был назначен Верховным главнокомандующим, простился со всеми сослуживцами и войсками и уехал в Могилев. Необходимо сказать, что в то время я уже сильно сомневался в возможности дальнейшей войны и взял на себя эту тяжелую должность лишь в надежде добиться хотя бы того, чтобы русская армия продержалась до конца военных действий на Западном фронте, дабы дать возможность французам и англичанам победоносно закончить войну.
Чтобы ознакомиться с состоянием войск на наших Западном и Северном фронтах, я решился объехать эти части войск. Приняв управление всеми войсками Русского государства, я назначил Деникина главнокомандующим армиями Западного фронта, ибо на должность начальника штаба Верховного главнокомандующего он никуда не годился.
Его заменил генерал Лукомский по рекомендации Керенского. В Ставке, только что покинутой генералом Алексеевым, в Ставке, в которой так недавно жил «император всея Руси», мне сразу стало не по себе. Я не психолог и не привык разбираться в своих душевных переживаниях. Моя военная жизнь не давала мне ни возможности, ни времени для этого.
Видя развал армии, чуя, на какой наклонной плоскости стоит вся Россия, я не останавливался на личных переживаниях, я не думал о себе, я бился только о всевозможные препятствия, чтобы спасти армию, я надеялся на помощь моих сослуживцев, таких же генералов, как и я. Но в Ставке, повторяю, я сразу почувствовал недоброжелательную ко мне атмо-сферу. Я не мог понять, в чем тут дело, но фальшь, лицемерную натянутость, недоброжелательность лично ко мне ясно сознавал.
Впоследствии, когда пришлось читать некоторые воспоминания в то время, казалось, близких мне людей, это вполне подтвердилось. Единения в моей работе с моими сослуживцами не было. Должен лишь прибавить, что тогдашнее положение армии было настолько тяжело, что едва ли, даже при полном единении у нас, возможно было бы чего-нибудь достичь. Нужно помнить, что армия сразу разложилась и солдаты ни в каком случае воевать более не желали.
Как на Западном, так и на Северном фронтах я нашел войска, безусловно, небоеспособными. Они желали лишь одного – мира, чтобы отправиться домой, ограбить помещиков и жить свободно, не платя никаких налогов, ни податей, не признавать никакого начальства. Вся солдатская масса потому и ударилась в большевизм, что она была убеждена, что только именно в этом состоит программа большевистской партии.
Ни о каком коммунизме, ни об Интернационале, ни о делении на рабочих и крестьян они не имели ни малейшего понятия и представляли себе, что каждый из них, ограбив своего ближайшего помещика, ближайшую фабрику или завод, заживет свободным гражданином и никаких тягот нести не будет. Эту анархическую свободу – вольницу – они и называли большевизмом. Из эсеров они сразу переменили кличку и стали называться большевиками.
Толпы солдат всяких наименований удирали с фронта частью по железной дороге, частью на лошадях, иные даже пешком уходили домой, захватив с собою винтовки.
Вот при каких условиях я получил свое злополучное «верховное командование».
На Западном и Северном фронтах бывал я на солдатских митингах, осмотрел часть войск и пришел к заключению, что на этих фронтах войска еще в худшем положении, чем на Юго-Западном. В некоторых местах офицеры совсем бросили свои части и более ими не командовали по вине безудержной распущенности нижних чинов, которые все равно их не слушались. Случаи самоубийств офицеров умножались.
Я лично знал случай, когда несколько офицеров случайно услышали разговор солдат со злобными восклицаниями: «Всех их изничтожить нужно!» И один из этих бедных юношей в ту же ночь застрелился, сказав: «Зачем ждать, чтобы меня убили, лучше самому с собой покончить!»
Нужно сказать, что это был один из многих тех юношей, которые добровольно со студенческой скамьи шли в армию с горячим сердцем, с любовью глубокой к Родине и русскому солдату. Часть солдат, как я раньше уже говорил, отсутствовала, так как они оставили свои полки и бросились домой, а те, которые были налицо, никого слушать не хотели и постоянно общались с германцами. Вообще положение армии было ужасающее.
Помнится мне случай, когда при мне было донесено главнокомандующему Северным фронтом, что одна из дивизий, выгнав свое начальство, хочет целиком уйти домой. Я приказал дать знать, что приеду к ним на другое утро, чтобы с ними переговорить. Меня отговаривали ехать в эту дивизию, потому что она в чрезвычайном озверении и что я едва ли выберусь от них живым. Я тем не менее приказал объявить, что я к ним приеду и чтобы они меня ждали.
Встретила меня громадная толпа солдат, бушующая и не отдающая себе отчета в своих действиях. Я въехал в эту толпу на автомобиле вместе с главнокомандующим ген. Клембовским и командующим армией и, встав во весь рост, спросил их, чего они хотят. Они кричали: «Хотим идти домой!» Я им сказал, что говорить с толпой не могу, а пусть они выберут нескольких человек, с которыми я в их присутствии буду говорить.
С некоторым трудом, но все же представители этой ошалелой толпы были выбраны. На мой вопрос, к какой они партии принадлежат, они мне ответили, что раньше были социал-революционерами, а теперь стали большевиками. «В чем же заключается ваше учение?» – спросил я. «Земля и воля!» – кричали они. «А что же еще?» Ответ был короткий: «А больше ничего!» – «Но что же вы теперь хотите?» Они чистосердечно заявили, что воевать больше не желают и хотят идти домой для того, чтобы разделить землю, отобрав ее у помещиков, и свободно зажить, не неся никаких тягот.
На мой вопрос: «А что же тогда будет с матушкой Россией, если вы никто о ней думать не будете, а каждый из вас заботиться будет только о себе?» На это они мне заявили, что это не их дело обсуждать, что будет с государством, и что твердо решили жить дома спокойно и припеваючи. «То есть, грызть семечки и играть на гармошке?!» – «Точно так!» – расхохотались ближайшие ряды.
Итак, ни до чего я с ними договориться не мог, ибо хотя в то время главнокомандующие и назывались «главноуговаривающими», но уговорить их я не был в состоянии. Как и в других местах, они только обещали мне, что самовольно не уйдут со своих позиций и вернут обратно все свое выгнанное начальство. Большая часть их и выполнила данное обещание. Вспоминаю еще свое посещение 1-го Сибирского армейского корпуса, которым командовал генерал Плешков.
Это было на Западном фронте. Я потому упоминаю именно об этом корпусе, что в течение всей войны он отличался безусловной храбростью и великолепно себя вел. Я хотел посмотреть, что из этого корпуса вышло. Они меня встретили бесшабашной толпой, окружая то место, где была трибуна, с которой я должен был говорить.
На мое приветствие они громко рявкнули: «Здравия желаем!» Сейчас же объявились уже ранее выбранные представители, которые были уполномочены со мной говорить. На мои слова они ответили дружно и поклялись, что выполнят свой долг. При моем отъезде они меня провожали громким «ура!»… Но засим оказалось, что во время боя они сдали все свои позиции и ушли назад, не защищая их.
Встретил я также свою 17-ю пехотную дивизию, бывшую когда-то в моем 14-м корпусе, приветствовавшую меня восторженно. Но на мои увещания идти против неприятеля, они ответили мне, что сами-то пошли бы, но другие войска, смежные с ними, уйдут и драться не будут, а потому погибать без толку они не согласны. И все части, которые я только видел, в большей или меньшей степени, заявляли одно и тоже: «Драться не хотим», и все считали себя большевиками.
Из этих примеров видно, что армии в действительности не существовало, а были только толпы солдат, непослушных и к бою не годных. Когда Керенский приехал в Ставку, в качестве председателя Совета министров, стоявшего во главе Временного правительства, я ему заявил, что считаю армию более неспособной к боевым действиям и что ни я, ни кто-либо из других генералов не в силах будут вдохнуть в нее боевую мощь, без которой война невозможна. Но он не обратил внимания на мои слова. С этих пор я считал, что моя должность Верховного главнокомандующего излишняя, и, когда получилось известие о прорыве наших войск у Тернополя, я отнесся к этому довольно спокойно, ибо ничего иного не ждал.
Керенский предложил мне подписать вместе с ним приказ по армиям с объявлением о восстановлении полевых судов и смертной казни за отказ от боя. Приказ этот я подписал[97], но спросил Керенского: «Кто же будет его приводить в исполнение? При настоящем состоянии умов солдат не только ни один не согласится стрелять в своих, но они перебьют всех офицеров, находящихся в суде». – «Ну, там это будет видно, что из этого выйдет, а я думаю, что это будет все-таки порядочная острастка», – сказал он.
А я предполагал, что толку из этой угрозы никакого не выйдет, но не стал противиться настояниям его. Вскоре за тем Керенский вторично приехал в Ставку с требованием, чтобы я изложил мой план дальнейших действий на совещании, которое должно было у меня состояться по его же настоянию. Об этом совещании я уже говорил подробно в конце первого тома, упомяну только кратко, в чем оно состояло. Были приглашены генералы Алексеев, Рузский и главнокомандующие фронтами.
Я заявил, что никаких новых требований войскам я не предъявлял и что решение действий на фронтах было установлено еще ген. Алексеевым, но что, в общем, я убежден, что никаких предприятий мы не в состоянии начать и что в лучшем случае мы удержимся на местах. Тут неприличная схватка Деникина с Керенским поглотила все остальные вопросы и оставила чрезвычайно тяжелое впечатление у всех присутствовавших. По окончании совещания все пошли ко мне обедать.
Натянутость и фальшь в отношении меня были очевидны, хотя Керенский и старался затушевать свою интригу против меня, которая, впрочем, обнаружилась через сутки после его отъезда, когда я получил телеграмму о смещении меня с поста Верховного главнокомандующего и замене меня ген. Корниловым. Все подробности этого происшествия я описал в конце первого тома и теперь перейду к моим московским впечатлениям.
Тотчас по окончании обеда и отъезда Керенского в Петроград я начал укладываться, так как был убежден, что мое увольнение с должности не замедлится.
За несколько дней до этого совещания ко мне в ставку приезжал мой сын с молоденькой женой. Он только что тогда женился. Я писал в своей автобиографии подробно об этом несчастном браке. Теперь только скажу, что ко всем моим тягостным переживаниям того времени прибавилась еще тяжелая гирька от этого визита. Мне сразу тогда почуялась несуразность этого брака.
Проводы в Могилеве, когда я покидал Ставку, носили характер чрезвычайной натянутости. В некоторых лицах, русских по чувствам людей, как в генеральских, офицерских, так и в солдатских погонах, я читал вопрос, недоумение, растерянность и удрученность. В большинстве же других – насмешку и злую иронию.
Когда я еще был на перроне, а жена моя уже в вагоне у окна, до меня донесся ее громкий голос, обращенный к кому-то из знакомых: «Россия всегда при всех войнах много страдала от интриг в ее главных штабах и ставках, а теперь окончательно гибнет от них!» Я не мог не согласиться в душе с ее словами, но нашел их при данной обстановке бестактными, неловкими.
В Орше нас догнал автомобиль, в котором прилетели проводить нас с великолепными букетами цветов К. И. Величко и два брата Сучковы. Впечатление от короткого с ними разговора явно показало их монархические чувства. Впоследствии оба эти брата, честные русские люди, были расстреляны большевиками. Когда они были в «школе маскировки», умный Троцкий сказал впервые про всю это школу, что она подобна редиске: сверху красная, а внутри белая. А потом эту остроту много раз повторяли при всяких поводах.
По приезде в Москву я, казалось мне, достиг возможности отдохнуть после почти четырех лет мучительного горения на фронте. Квартира жены была приведена в порядок, обстановка кабинета, к которой я привык за десятки лет, комфорт и забота близких дали мне короткое забвение и отдых. Я ведь ни на один день с 1914 года отпуска не брал. Московская пресса и общество чрезвычайно сердечно отнеслись ко мне.
Являлись ко мне всевозможные депутации с иконами и адресами. На улицах и в театрах я был постоянно окружен толпой людей, желавших мне выказать, так или иначе, свою благодарность за мои победы. Шумные овации в театрах меня несколько смущали, но я за годы войны соскучился по театру и меня тянуло туда.
Являлись ко мне казачьи офицеры, входившие в состав казачьего комитета, и выбрали меня своим председателем. В состав Союза георгиевских кавалеров входило много солдат, и в этом союзе меня также выбрали председателем.
В это время собрался в Москве съезд общественных деятелей. Я выступал и объяснил подробно положение армии и дух ее. Причем не скрывал, что она находится в ужасном виде и положение ее безнадежно. В том же духе докладывали о положении дел на фронте и генералы Алексеев, Рузский, Юденич и Каледин. Кажется, в тот же день или на другой у меня обедали ген. Рузский и Каледин. Это было в последний раз, что я их видел, не подозревая об этом тогда.
Беседа наша, конечно, вертелась все на тех же тяжких вопросах. Каледин был в ужасно мрачном настроении духа. Помню, как жена моя заговорила о статье в одной из газет в тот день, озаглавленной «Выступление белых крестов», то есть нас, всех генералов с белыми, Георгиевскими крестами. Статья была очень благожелательная, в ней много говорилось о героических трудах наших на фронтах за эти годы. Алексей Максимович Каледин усмехнулся и грустно сказал: «Это заглавие статьи “Белые кресты” невольно заставляет думать о могильных крестах, в сущности, они нам только и остались!..»
Ген. Рузский рассказывал нам много подробностей о своем пребывании в царском поезде во время отречения Николая II в Пскове. У него была собственноручная записка государя, которую он ему прислал через час после отречения. Государь колебался и просил его остановить дело. Он писал, что вопрос о наследнике следует переделать.
Но было уже поздно, телеграммы были уже разосланы по всей России. Тяжко было и у Рузского на душе, но он не был так безысходно мрачен, как Каледин. Вскоре тут появилось воззвание генерала Корнилова, затем его приезд в Москву и шумиха, создавшаяся около него, произвела на меня горькое впечатление. Дутые лавры этого бедного фантазера отцвели, не успев расцвесть! Но потоки офицерской крови полились за ними непосредственно, как я и ожидал.
Не могло быть иначе, слишком несвоевременно было это воззвание затеяно. Государственное совещание Совета министров состоялось в Большом театре. Я на нем не был, так как личного приглашения не получил, да и вполне был убежден, что оно не поведет ни к чему доброму. О красноречивых разглагольствованиях Керенского кричала вся Москва в то время. Но все это проходило мимо меня, не заставляя меня реагировать на это, так как я находил все это совершенно бесполезным для тяжко больной Родины.
Я вполне был убежден, что большевистский переворот не за горами; и в то время, когда все это совершалось, я уже был уверен, что Временное правительство будет скинуто и власть возьмут большевики. Я не знал, на сколько времени они вступят в управление Россией, но вполне был убежден, что это на днях случится.
За несколько дней до совещания в Большом театре в одном из заседаний съезда общественных деятелей мне пришлось выступить с трибуны с объяснениями о безнадежности нашего фронта и, переходя к современному положению дел, я говорил: «Если вы все, русские люди, желаете играть роль в общественной жизни и иметь значение для России, вам необходимо вмешаться в толпу и повелевать ею, надо с оружием в руках выйти на улицу, тогда только так называемая «буржуазия» может повлиять на ход дел»[98].
Я предложил записаться на листе бумаги всем, желающим принять участие в схватках на улицах, и обещал стать во главе их. Мне бешено аплодировали, но в конце концов на выложенном листе бумаги оказалась одна подпись какого-то инженера из Коломны. Все остальные аплодировали, но никто не нашел возможным выступать в свою собственную защиту.
Дряблость духовная всех этих москвичей в этом сказалась.
Это мне дало понять, что в действительности в случае большевистского восстания, которое мне казалось неизбежным, никто не окажется на стороне правых партий. На Ходынском поле стояло несколько тысяч солдат, которых я легко мог купить за три миллиона рублей. Видя, что общественных деятелей собрать нельзя, так как они не расположены выступать сами, я проектировал купить солдат с тем, чтобы выступить с ними на защиту какого-либо порядка в России, и объездил нескольких московских тузов с тем, чтобы достать денег. Везде получил массу комплиментов, но без денег. Каждый думал о себе и о своей мошне, рассчитывая, что и так «авось дело обойдется».
Все это было в июле и августе, а когда в октябре началось восстание большевиков, то на стороне Временного правительства оказались: несколько сот юнкеров и кадетов военных корпусов. Из всех остальных обывателей, не исключая массы офицеров, живших в Москве, на улице никого не оказалось и тысячи три рабочих очутились хозяевами всей Москвы и диктовали свои условия тем несчастным мальчикам – юнкерам и кадетам, которые выступали на стороне правительства.
А впоследствии было зарегистрировано большевиками 42 тысячи офицеров, бывших в Москве. Во фронте с юнкерами оказалась только всего одна рота в 200 человек офицеров. Конечно, тысячи из них не желали выступать на стороне Временного правительства, будучи монархистами, и не верили мне. Они воображали, что большевики возьмут верх на несколько дней, и жестоко ошиблись.
Я оказался гораздо дальнозорче их, ибо несколько лет спустя большевик Н. И. Муралов[99] мне говорил, что в то время его положение было отчаянное: рабочие бросили оружие, Ходынка разбежалась по деревням и у него в распоряжении оставалось около девяносто солдат, которых он бессменно рассылал с винтовками на грузовиках во все концы города для устрашения обывателей. Буржуазная Москва и монархисты мне не поверили, не пошли за мной и проиграли свое дело. Что посеяли, то и пожали.
Уже в то время, когда на улицах гремела стрельба, ко мне прискакали Сытин[100], Астров[101] и еще кто-то третий (кажется, Коновалов), привезли мне сто тысяч рублей, но уже в то время и с такими деньгами ничего сделать было нельзя. Я искал в июле два-три миллиона, и мне их не дали…
Одновременно со всеми этими совещаниями и собраниями в Москве меня атаковали всевозможные кружки, союзы и общества городские, крестьянские и религиозные, которые одно за другим выбирали меня своим председателем. Я видел и понимал, что все эти люди мечутся, не зная, что предпринять, чтобы спасти положение. Я никому не отказывал, но сознавал, что болтовни в этом всем больше, чем дела. Помню одно заседание в Николаевском дворце с епископами Нестором Камчатским, Андреем Уфимским, митрополитом Макарием и с даровитым, сильным духом священником Владимиром Востоковым.
Это тот самый Востоков, который издавал одно время духовный журнал «Духовные отклики» и отчаянно боролся против Распутина. Его сильно преследовали в свое время, ссылали, запрещали его журнал и т. д. Я помню одну его фразу в беседе со мной: «Много-много нашей крови нужно пролить, кровь наша нужна как жертвоприношение за спасение Родины!..» И как он был прав.
На этом же заседании ораторствовал генерал А. М. Зайончковский, которому в то время я имел наивность верить. Речь его была блестящая, как и все, всегда и везде, что он делал и при царе, и при большевиках. Талантливый субъект, что и говорить. Жаль только, что в своих военных очерках он так много лжет. Я их коснусь особо.
В это время жена моя была занята усиленными хлопотами о празднике в пользу Союза георгиевских кавалеров, который для нее налаживали московские артисты Большого и Малого театров. Это была лебединая песня такого рода праздников моей жены. Много их бывало в ее жизни, но этот удался на славу и по результатам материальным, и по общему настроению. Спасибо А. И. Южину, М. Н. Ермоловой, покойному дорогому нашему О. А. Правдину, А. В. Неждановой, Е. В. Гельцер и особенно певцу Дыгасу, бесконечно хлопотавшему об этом празднике, так блестяще сошедшем.
В день его моя жена была на похоронах своей приятельницы с молодых лет. Это была удивительная труженица, умная, хорошая женщина. В. Г. Виталина-Айзикович была еврейка, и жена моя училась с ней в одесской гимназии. После тридцати лет разлуки она встретила ее уже давно крестившейся и работавшей в типографии «Русского слова». Смертельно заболев, она просила передать об этом моей жене, прося ее приехать в больницу.
Будучи хорошей, русской патриоткой, умирая, она говорила моей жене, что дела очень плохи и советовала уехать за границу. Жена мне это передавала, но тогда я еще не допускал мысли, что Россия гибнет. На похоронах этой женщины было много журналистов и типографских рабочих. Один из последних подошел к жене и спросил: «Вы жена генерала Брусилова?» И на утвердительный ее ответ пожал ей руку и тоже удивил ее: «Уезжайте за границу, скажите генералу, что здесь ему опасно оставаться!..» Жена поблагодарила его, но прибавила, что мы русские и никуда из России не уедем.
Наступили жуткие октябрьские дни. Грохот орудий и ружейная пальба под окнами в течение недели не давали покоя ни днем, ни ночью. Я был окружен семьей, состоящей из жены, ее сестры и брата. Все они, к счастью моему, были мужественны и спокойны. Прислуга, в числе двух женщин и трех мужчин, также были молодцами. Прискакал также мой конный вестовой, состоящий при моих высококровных верховых лошадях.
Я его с фронта отправил в деревню моего адъютанта князя Гагарина[102] в Рязанскую губ. по приглашению его семьи. Незадолго до того я получил письмо от моего Гуменного с извещением о том, что в деревне небезопасно, что крестьяне поговаривают о том, что скоро будут громить усадьбу и что он решил Меричку пристрелить, так как у нее сильно разыгралась болезнь ног, а отдавать ее озверелым крестьянам на муки он не желает.
На крепком же и сильном Гуне он прискачет в Москву. Так он и сделал. Я похвалил его за распорядительность и находчивость. Хороший это был человек и солдат, один из верных моих друзей. Впоследствии он уехал к себе в Киев. Писал мне оттуда отчаянные письма о беспорядках и затем замолк, вероятно погиб. Очень я его любил.
Кроме прислуги и Гуменного, ко мне пришли несколько человек георгиевских кавалеров, солдат и юнкеров. Генерал Зайончковский телефонировал мне в первый же день восстания, что многие георгиевские кавалеры нашего союза выражают желание придти ко мне на квартиру для охраны. Я отвечал им, что благодарю их, но не вижу в этом особенной нужды; если же они настаивают, прошу передать, что я согласен.
Итак, в моей квартире собралось довольно много людей и в продолжение недели под грохот орудий и ружейной стрельбы под окнами мы с ними сидели, как в осажденной крепости. Хорошо, что у жены оказался небольшой запас провизии и муки.
Дом[103], в котором мы жили, очутился в районе между огней двух вражеских сторон. Телефон все время действовал, и мы переговаривались с родными, друзьями и знакомыми. Когда в первый раз к нам ворвались вооруженные мальчишки, то из соседнего дома профессора Кузнецова нам по телефону кто-то отчаянно прошептал: «К вам лезут большевики!»
Из Александровского училища, в котором был штаб белых, мне несколько раз сообщали, что идет рота офицеров по направлению к нашему дому. Но мы ее так и не дождались. Вновь раздался звонок телефона, и кто-то, опять-таки из Александровского училища, заявил, что от них сносились со штабом большевиков, прося их разрешения вывезти меня на нейтральную почву из района перекрестного огня. Еще когда я не успел толково обсудить это предложение, я был разъединен с первым голосом, а вновь заговорил кто-то другой.
И на мой вопрос, кто говорит, отвечал: «Я Ногин, чего вы, собственно, хотите?»[104]– «Я ничего не хочу, а мне сейчас предлагали, что меня вывезут со всей моей семьей из района огня». Ногин отвечал: «Вас одного мы беремся увезти, но без семьи». Тогда я категорически отказался, и он резко ответил: «Как хотите!»
С этого же мгновения наш телефон замолчал. Мы оказались окончательно отрезанными от мира. К нам несколько раз являлись толпы рабочих и вооруженных мальчуганов с заявлениями, что от нас производится то какая-то сигнализация, то стрельба, делали обыски, хотя должен признать, что со мной все они были вежливы и приличны. Убедясь в ложности доносов на нашу квартиру, они уходили. Но из этого я видел, что дело обстоит плохо и что моим георгиевским кавалерам не сдобровать.
До сих пор их удавалось прятать нашему швейцару Семену. Я призвал их и, поблагодарив, доказал им, что они помощи мне оказать не могут, а рискуют своей жизнью. Я приказал их переодеть в свое штатское платье, благо, что у меня его было довольно, и уговорил уйти. Наш молодец швейцар Семен (раненый солдат) провел их ловко на нейтральные улицы.
Винтовки же их спрятал в подвале и калориферах. Впоследствии шофер мой, также большой молодец, вывез эти семь винтовок из дома, чтобы швейцар и наши люди не поплатились. Один только из юнкеров категорически отказался меня покинуть и остался с нами – лейб-гвардии, драгун и унтер-офицер Иванов.
В тот же день (2 ноября ст. ст.) около 6 часов вечера влетела в мою квартиру граната, разорвавшаяся в коридоре как раз в то время, когда я проходил в другом конце его. Разворотив пол, стены и потолок, осколки долетели до меня и попали мне в правую ногу ниже колена. Я слышал, как Ростислав (брат жены) крикнул: «Спускайтесь в нижнюю квартиру!..» И в то же время я, чувствуя, что в моем сапоге, как в мешке, болтается раздробленная нога, в свою очередь крикнул: «Я ранен!» – и на левой ноге проскакал до кресла ближайшей комнаты.
Мой денщик Григорий[105], спавший тут же в боковой маленькой комнате, счастливо избег опасности, но, услыхав мой голос и приказание Ростислава, схватил меня на руки и донес с помощью Гуменного, повара Якова, Иванова вниз, в квартиру отсутствующего хозяина дома. Вся семья Леденцовых была в то время в Сухуми. У них в квартире меня уложили, и какая-то весьма неискусная большевичка, сестра милосердия летучего отряда, попробовала меня перевязать, но у нее ничего не вышло.
Удалось только моим людям разрезать сапог, и ее, очевидно, напугала масса крови в нем. Притащили какого-то доктора, который без разрешения домового комитета не соглашался идти перевязывать «генерала». Но мои люди, очевидно, с ним по-своему поговорили, поэтому мое выражение «притащили» вполне правильно. И злополучный этот доктор отвратительно меня перевязал. Я чувствовал, что от боли могу потерять сознание, но крепился и призывал всю свою силу воли, чтобы не пугать жену.
Вскоре тут появился один из братьев Сучковых. Он стал распоряжаться, и не знаю, был ли он кем-либо уполномочен и почему тут оказался (с Орши я его не видел), но благодаря ему появились носилки и меня понесли в лазарет лицея, что находился на Остоженке, недалеко от нас. Помню, что пальба ружейная еще продолжалась, пули летали свистя и жужжа. Меня несли через какие-то дворы и закоулки. Моя бедняга-жена шла возле меня, и я молил Бога, чтобы она уцелела, чтобы ее не ранили и не убили.
Как я ее ни просил, чтобы она оставалась дома, но она не согласилась и пошла за мной. Со всех углов доносились окрики: «Кто идет?» – и Сучков отвечал: «Свои!», и кажется мне, что говорил какой-то пароль, но ручаться не могу, ибо сильно страдал и был мгновениями в полубредовом состоянии. Впоследствии я еще раз или два видел этого молодого офицера; гораздо позднее мне говорили, что его большевики расстреляли.
Но ни тогда, ни теперь не могу понять, откуда и как явился он ко мне в такой страшный день моего ранения. Когда меня принесли в лицей, то Н. Н. Сучков хлопотал, чтобы мне дали отдельную комнату, но из этого ничего не вышло, так как солдаты требовали полного равенства и никаких исключений не допускали. Меня поместили в каком-то малюсеньком закоулке.
Директор лицея – профессор Александр Никитович Филиппов – сделал для моего удобства все, что только мог сделать. Лицеисты прибегали на меня смотреть, любопытство и растерянность их бросались в глаза. Ночью один из солдат (запасный бородач) подошел к дверям и обратился к моей не спавшей ни минуты жене: «А у твоего генерала хлебушко есть?!» И протянул ей краюху присланного ему из деревни хлеба. Жена поблагодарила, взяла и вновь села возле меня. Я наблюдал за этой сценой и думал свою горькую думу.
В квартире моей нас было около пятнадцати человек и четыре собаки, и никто не только что не был убит, но даже и ранен не был. Одного меня осколок гранаты изувечил, будто именно меня нужно было выбить из строя. Я фаталист и много думал об этом впоследствии. Случайности я не допускаю в данном случае. Да и вообще, что такое случайность?! А ведь не будь я ранен, я, вероятно, уехал бы на юг, к Алексееву. И все приняло бы другой оборот в моей жизни. Хорошо ли, дурно ли вышло, но я в том неповинен.
Рано утром прибежала жена моего сына и сказала, что заключено перемирие и можно ходить по улицам. Но это было не перемирие, а полная победа большевиков над юнкерами и кадетами, которых, спустя некоторое время, обезоруженных целой гурьбой вооруженные рабочие провели куда-то по Остоженке мимо лицея.
Все бросились к окнам смотреть на это печальное зрелище. Несколько десятков здоровых, упитанных лицеистов выразили много любопытства у окон. Моя жена, бледная, подошла ко мне и сказала: «Мне почему-то мелькнули строки из лермонтовского стихотворения: “А вы что делали, скажите, в это время, когда в полях чужих он гордо погибал?..”»
Я понял жену; стихотворение о Наполеоне, обращенное к толпе французской, – это одно, а другое – положение одиноких, неорганизованных юношей, бьющихся насмерть среди густонаселенной Москвы и никем не поддержанных. Я понял мысль жены: «А вы что делали?» Вы, все, кто впоследствии так жестоко пострадал, вся буржуазия, все монархисты, лицеисты, офицеры, аристократия, купечество? Где вы были? Я вас звал еще в августе… Вы берегли свои кубышки, да надеялись на «авось».
Что посеяли, то и пожали, друзья мои, хорошо ли, дурно ли выйдет для будущего России – не знаю. Но вы меня оттолкнули, не приняли моей руки. И я остался один… Ни правых, ни левых, ни белых, ни красных в душе моей не было… Была далекая, широкая, великая матушка Россия в целом. Но копошащихся людишек, с их политическими и эгоистическими волнениями, партиями, интригами, борьбой не было в душе моей!..
Варвара Ивановна (жена сына) мигом слетала в лечебницу доктора Руднева и оповестила всех, кого нужно было, о моем положении. В то же время мой шофер[106] с денщиком Григорием преодолели все препятствия, чтобы найти хирурга доктора Алексинского. С. М. Руднев приехал ко мне сию же минуту, перевязал мне ногу. И когда я ему сказал, что хочу, чтобы меня поместили в его лечебницу, он сел, провел рукой по лбу и, тяжело вздохнув, сказал: «Об этом не может быть и речи! Сейчас же перенесем вас на носилках!..»
Взглянув ему при этом в глаза, печальные, задумчивые, я почувствовал в нем русского человека и понял его скорбные мысли. Это было первое мое знакомство с ним. И мне кажется, что я его тогда же полюбил. Последующие девять или десять месяцев я не выходил из-под его наблюдения, он спас мне ногу и был врачом и другом-собеседником во все эти тяжелые месяцы.
По его отъезде из лицея мои люди и несколько солдат вынесли меня из лазарета и как покойника понесли по Остоженке, Пречистенке и переулкам на Арбат в лечебницу его, находящуюся в Серебряном переулке. Путь был довольно далекий. Близкие мне люди шли возле меня. Сучков исчез, а его заменил генерал Спиридович[107], непонятно для меня откуда-то появившийся с повязкой Красного Креста на руке. Он всем распоряжался, шел впереди процессии, расчищая путь от извозчиков и грузовиков.
Народ все прибавлялся, меня несли, чередуясь, то солдаты, то студенты, то штатские люди. Я слышал рыдания и гул разговоров. Многие думали, что я убит, но, заглядывая мне в открытые глаза, целовали мне руки и уступали место следующим русским людям, хотевшим убедиться, что это меня несут искалеченного по улицам родной Москвы, тогда как три года на фронте вражеские гранаты меня щадили!..
Я был глубоко благодарен толпе, выражавшей мне столько сердечного участия. Мне казалось, что я присутствую на собственных похоронах. Да, может быть, в переносном значении, для России оно так и было: Москва хоронила своего прославленного победами генерала Брусилова, а остался жить искалеченный, измученный старик.
По прибытии в лечебницу меня встретил ассистент Руднева, женатый на его дочери доктор Т. С. Зацепин. Кажется, сейчас же меня внесли в операционную, я увидел докторов Руднева и Алексинского. Затем уже от хлороформа ничего не помню. Да, я забыл, что до операционной меня вносили в темный кабинет для снимка рентгеновскими лучами моей раздробленной ноги.
После операции меня нисколько не тошнило от хлороформа. Врачи удивлялись моему сердцу и утверждали, что для моих лет оно исключительно крепко. Также и кости мои, и весь мой организм они одобряли. Я им говорил, что, будучи всю жизнь кавалеристом и военным человеком, я любил всякий спорт, много тренировался, ходил пешком, ездил верхом. Все это закалило меня, и ко времени ранения на 65-м году жизни я оказался еще очень крепким и выносливым «молодцом», по выражению хирургов.
Потянулись долгие дни, недели, месяцы. Меня стало посещать бесконечное количество людей всех рангов, каст и положений, русских и иностранцев. Зная меня как очень верующего человека, ко мне приезжали все митрополиты, епископы и множество священников. Патриарх Тихон[108] навещал меня еще до моего ранения, на квартире, в то время он был еще митрополитом. Затем приезжал ко мне в лечебницу. С ним мы были знакомы заглазно очень давно, потому что старшая сестра моей жены Вера Владимировна Джонсон еще в Нью-Йорке была очень хорошо знакома в то время еще с епископом Тихоном.
Она работала в «Американском православном вестнике», участвовала в делах церковных школ, хора певчих в соборе и во всевозможных хлопотах для американской бедноты – не только русской, но и сербской, польской, русинской. Там ведь много славян всегда было. Для них благотворительность около нашего собора и духовенства была прекрасно поставлена. Вера Владимировна во всем этом принимала большое участие, дружила с семьями отца Александра Хотовицкого[109], отца Ильи Зотикова и других священников.
Она в переписке с сестрами постоянно описывала свои дружеские сношения с ними и епископом Тихоном. Поэтому-то я и говорю, что мы заглазно давно и хорошо были знакомы. Когда ко мне, раненому, в лечебницу он опять приезжал, то по моей просьбе разрешил навестить меня и помолиться вместе со мною схимнику старцу Алексею из Зосимовой пустыни.
Старик приехал, служил молебен около меня и благословил руки моих докторов и фельдшериц. Я после этих молитв был совершенно уверен, что нога моя благополучно срастется, и так оно и вышло. Я тем более был убежден в этом, что незадолго до Октябрьского переворота мой новый знакомый по съезду общественных деятелей В. С. Полянский передавал мне, что в Москве есть очень почитаемый старик монах Аристоклий (Афонского подворья), который очень хочет меня видеть, но настолько стар и слаб, что никуда не выезжает.
Мы с Полянским поехали к нему куда-то на Замоскворечье. Старик произвел на меня чрезвычайно отрадное и сильное впечатление. Он благословил меня иконой Божьей матери, очень древней, и при том говорил, что эта икона когда-то была кем-то разрублена пополам, но на глазах у многих вновь срослась.
Он несколько раз повторил, глядя прямо мне в глаза: «Раскололась и срослась, раскололась и срослась!..» Я приложился к иконе, поблагодарил старика и уехал с мыслью о том, что хотел он этим сказать? Я чувствовал, что в его словах был какой-то пророческий смысл. Я поделился своими мыслями с Полянским, и мы оба решили, что это относится к России, что если она и расколется на мелкие государства, то опять срастется.
Может быть, оно так и будет, но когда нога моя через несколько дней действительно раскололась на четырнадцать кусков, то я подумал, не об этом ли говорил старик: тогда, вероятно, не нужно будет ампутировать ногу – она срастется[110]. Через несколько месяцев старик Аристоклий умер, и по моем выздоровлении мы с женой ходили поклониться его гробу. Он долго стоял в подвальной комнате дома, где он жил, и ее превратили верующие люди в часовню. Похоронить с подобающим благолепием и торжеством тогда уже было невозможно.
Моя нога сильно меня мучила и когда срослась, то врач золотой, мастер поразительный своего дела, Сергей Михайлович, нашел нужным ее вновь расколоть. Очень я на него тогда несправедливо сердился и ворчал, так как эта вторая операция была очень мучительная, но, конечно, необходима, раз он ее делал. После ее дело пошло на поправку гораздо скорее.
У меня стали бывать часто Спиридович (который, впрочем, вскоре уехал в Киев, и больше я его не видел), Зайончковский, Форштетер[111], Игорь Кистяковский[112], Кривошеин, Свистунов и многие другие. Много иностранцев. Мне привозили деньги, которые я поручал доставлять на юг ген. Алексееву. Я получал письма и словесные сведения с юга. Ко мне приезжали без конца офицеры, сестры милосердия с рассказами и поручениями от Алексеева и других генералов.
Но все это было настолько бестолково, хаотично и иногда даже смахивало на шантаж и ловкое вымогательство, что очень скоро я стал задумываться: прав ли я, отдавая неведомым мне людям множество денег, мне поручаемых для русского дела? Доходили ли они все до Михаила Васильевича? Этого я никогда не узнаю. Жена моя выдавала всем офицерам, отправлявшимся на юг, небольшие субсидии из тех денег, что жертвовали ей лично.
Большая шкатулка с их расписками наполнялась быстро, и только гораздо позднее она их сожгла. Мы затевали многое, совещались, проектировали разные способы спасения России. Я лежал, измученный физически, и голова у меня шла кругом от моральных переживаний. Что-то ныло в моей душе все время: «Не то, не то, что-то нужно сделать, но это не то!» И вскоре я оборвал все сношения с югом – и по своему решению, и по сложившейся обстановке.
В это время я стал видеть много внимания от поляков, бежавших от немцев из Варшавы, от многих иностранцев, приезжих или застрявших в Москве. Американский консул, женатый на русской, дочери тамбовской помещицы Горяйновой, выказывал мне бесконечную заботу. Каждый день являлся старик лакей с белым хлебом, вареньем, всевозможными печеньями и вином. Все это тогда уже доставать было почти невозможно.
Жена моя и ее сестра давно, еще с Японской войны, знали двух сестер Горяйновых. Богатые девушки много работали в лазаретах и в благотворительных обществах для инвалидов. Это были настоящие русские женщины, сильные духом и убеждениями. Одна из них вышла замуж за офицера Цурикова, другая за молодого американского консула в Москве.
Внезапная смерть последнего поразила тогда всех нас. Говорили, что он был отравлен большевиками, как вредный элемент… Также ко мне постоянно приезжали представители американского Всемирного союза христианской молодежи. Они еще на фронте очень энергично устраивали питательные пункты, чайные, библиотеки для солдат и старались влить культурные лучи в темную, бушующую массу. Особенно мне был симпатичен Джером Дэвис. Они и мне, и семье моей, и многим другим тогда помогали. Что сталось с ними после – не знаю!
Подошло время трагической кончины глубоко любимого мною Ник. Ник. Духонина. Телеграммы о том, как зверски он был убит, были тяжким ударом для нас всех. Тут начались обыски и всякие допросы. Ко мне в лечебницу приезжали какие-то вооруженные подозрительные лица с заявлениями о том, что «нам не нужно генералов, у нас есть солдат Муралов». Но я полагаю, что Николай Иванович ничего о них не знал и не уполномочивал их тревожить больного человека.
Обыски эти объяснялись еще тем, что в этой же лечебнице лежала с больной ногой Мария Саввишна Морозова, затевавшая всякие конспирации и созывавшая всю дамскую Москву на свои заседания. Моя жена тоже принимала в них участие, но вскоре стала мне говорить, что толку от этих затей не может выйти, что Мария Саввишна Морозова производит на нее впечатление ненормальной.
И впрямь, несколько лет спустя она очутилась в сумасшедшем доме. Да и немудрено: в таком революционном шквале многие этим кончали, а в семье Морозовых это ведь был семейный недуг – отец и брат Марии Саввишны были сумасшедшие.
На юге собирались русские люди, мои бывшие сослуживцы и подчиненные, бушевал океан разгоревшихся страстей, а я лежал и лежал, и думал и передумывал, вспоминая все случившееся, все пережитое. Как калейдоскоп, как кинематографическая лента проходили перед глазами картины петербургской жизни, фронтовой… Лица царской семьи, государя и всей его свиты, министров, деятелей Государственной думы! Я думал… и мысленно посылал им упреки за погубленное дело войны, за безрезультатный исход всех моих трудов на фронте во имя России!..
Приблизительно в это же время читали мы о киевских событиях, в связи с выступлением так называемого «гетмана» Скоропадского. Но, зная психологию масс и хорошо мне знакомую обстановку и состояние умов того края, я знал заранее, что ничего из этого не выйдет. Мучился только мыслью о том, сколько хороших и дорогих мне людей там погибнет. И так оно и вышло… Жертв было столько, как я и не ожидал…
Старая Россия исчезла. Идут новые люди, кто они?! Я их не знаю. Что из этого всего выйдет?.. Хоть бы скорее на юге соорганизовались силы, хоть бы скорей подошли они к Москве, хоть бы скорей можно было бы собрать Земский собор или Учредительное собрание, но нужно знать, чего хочет сама Россия, согласна ли она с навязываемыми ей лозунгами этих новых, чуждых, неведомых людей. Но я лежал с раздробленной ногой и ничем-ничем не мог быть полезен стране.
С этого времени и даже ранее в газетах начались и не прекращались до конца самые разнообразные обо мне сообщения и интервью со мной, в которых частью искажались мои слова, частью и просто выдумывались небылицы. Конечно, я виноват в том, что, не предвидя возможной путаницы, говорил с некоторыми журналистами.
А к этому впоследствии придирались люди, подобные Деникину, и, сгущая краски, освещали приписываемые мне слова в желательном для них свете, писали за границей свои «исторические» сочинения о русской смуте. Сдается мне, что история по репортерским статьям не пишется. Не зная ни причин, ни мотивов, ни обстановки, нельзя ему было бросать камнями в меня, да и во многих тех, кто остался в России, как это делали и многие эмигранты.
Они все упускали из виду, что обстановка и взгляды могут быть иные, но страдание за Россию – одно. Но эмигранты многого не понимали, многого не знали того, что мы, кипевшие в котле российского террора, переживали и переносили; во имя Родины иные, а иные во имя семей и крошек детей своих – или во имя и того и другого вместе.
Но я опять забегаю вперед. Вернусь в лечебницу. Ко мне из Одессы приезжал Елачич[113], бывший комиссаром от Временного правительства при мне в Ставке. Это был симпатичный, но не очень умный, хотя в высшей степени корректный человек. Ранее он служил в Земском союзе. Он рассказывал мне о своих впечатлениях на юге, и отрадного ничего я не услышал от него. Он был меньшевик по своим убеждениям, и для него, не любившего «старой правительственной гнили», теперь творились новшества, совершенно непонятные и неожиданные.
Я трунил над ним: «Что, дождались сюрпризов? Разве революцию можно удержать в желаемых границах?!» Он только печально смотрел и переводил разговор на другие темы. Жена моя его не любила, так как он критиковал печатно детскую литературу ее матери. Да, у В. П. Желиховской красной ниткой во всех книгах проходят: семейные начала, Родина и религия. Социалисту Елачичу это было не по вкусу. Ну и куда же, в какой тупик они завели русскую детскую литературу? А где теперь он и что с ним – не знаю.
На четвертом, кажется, месяце я стал понемногу сидеть, потом меня усаживали в кресло на колесах и я стал разъезжать по коридорам и соседним комнатам. Каждый день начинался с появления брата жены Ростислава. Он неизменно все эти месяцы методично, как на службу, являлся утром ко мне. Докладывал жене, что делается дома, катил мое кресло, читал. Квартиру нашу постепенно приводили в порядок, ремонтировали все беды, наделанные бомбой.
Меня навещали сестра жены, мой брат Борис с детьми, жена моего сына. Он также вскоре приехал с фронта, так как там уж окончательно нечего было делать. Тут вскоре начались нелады между ним, его женой и ее бабушкой Варварой Сергеевной Остроумовой. Странные это были женщины, и вспоминать их мне очень тяжело. Хотя в то еще время я видел много участия и забот от них обеих. Нелады же с сыном от меня пока еще скрывались, хотя они были настолько серьезны, что он переехал ко мне на квартиру и жил с Ростиславом и Еленой Владимировной.
Навещал меня в лазарете в разные часы с женой своей. Великая княгиня Елизавета Федоровна в то время была еще в Москве у себя на Ордынке, в Марфо-Марьинской обители. Она постоянно справлялась по телефону о моем здоровье, вызывая мою жену или Сергея Михайловича.
У моей жены еще с Японской войны был особенный культ этой исключительно хорошей женщины, и она все собирается написать подробно для истории о своем знакомстве с нею и все, что знает про нее. Поэтому, когда нам сообщили, что великую княгиню внезапно выслали из Москвы, увезли в какие-то отдаленные места, и неизвестно какие люди, жена моя страшно огорчилась… Но это были цветочки, ягодки пришли потом.
В мае, кажется, я начал понемногу ходить с палкой. Костылей мне доктор Руднев не давал, находя их вредными. Я выходил на улицу, сидел на стуле или медленно двигался под руку с женой или Ростиславом.
Тут мне хочется сказать несколько слов о том бесконечном милосердии, внимании и заботах, которые мне оказывали доктор Руднев, Зацепин и весь персонал этой лечебницы. Особенно любил я трех фельдшериц: Елену Ивановну, Софью Львовну и Евгению Михайловну. Судьба последней ужасна. Она впоследствии уехала к родным, проведать мать и брата, кажется, в Курскую губернию, и там была зверски убита вместе с матерью бандитами.
Не могу без содрогания душевного вспоминать эту кроткую, милую работницу у кроватей больных и об ужасной ее смерти. Дежурили по ночам около меня сестра жены Лена, княжна Маматова, М. А. Лютер и многие другие мои печальницы-друзья, милосердные сестрицы.
Когда я стал уже ходить, многие поляки предлагали мне выехать с ними в специальных эвакуационных поездах в Варшаву. Вообще поляки относились ко мне с полным доверием и еще в Галиции отношения у нас были прекрасные. Будучи сами исключительными патриотами, они, вероятно, ценили во мне те же чувства. Они знали, как я одобрял план действий великого князя Николая Николаевича и как стремился к осуществлению его воззвания на деле[114].
Гораздо ранее, еще до большевистского переворота, итальянцы меня приглашали в Италию и намеревались мне поднести виллу в благодарность за спасение Италии от нашествия австрийцев и немцев в 1916 году. А теперь в лазарет ко мне являлись какие-то инженеры, не помню их фамилий, с предложениями везти меня в специальном поезде в Кисловодск на воды, для излечения моей ноги грязевыми ванными. Я всех благодарил, но знал в глубине души моей, что никуда не уеду, не хочу и не могу уехать, так как все надеялся, что буду нужен здесь.
В июне месяце меня выписали из лазарета. Мы с женой переехали наконец домой. Опять я думал, входя в свою квартиру, что отдохну немного… Но опять ошибся… Морального отдыха мне судьба больше не дала.
С. М. Руднев стал приезжать ко мне ежедневно на перевязку моей ноги. Так продолжалось около месяца. Все даты я могу путать. В это время мы прочли в газетах страшную весть о расстреле, вернее о зверском убийстве-истреблении всей царской семьи. Этому позорному, бессмысленному злодеянию я и тогда, и долго потом еще не вполне верил. Знал лишь твердо, что они сосланы куда-то в Сибирь, и полагал, что большевикам нужно, чтобы в России их не считали живыми. Но фактическое истребление всей семьи по чудовищности своей как-то не укладывалось в моем мозгу.
В самом начале августа меня пригласил доктор Руднев для переговоров с каким-то американцем, с приглашением ехать в Самару по поручению меньшевиков. Я на это согласился, надеясь так или иначе добиться какого-нибудь порядка в стране, хотя очень сомневался, смогу ли я ехать при моей еще не зажившей ране. Через несколько дней после моего разговора с американцем (фамилию его мне не назвали) ко мне пришел один из братьев Фриде для решения окончательно этого вопроса.
Вскоре затем оба эти брата были расстреляны. Насколько я помню, он был у меня ранним вечером 12 августа. Мне были предложены деньги для переезда, но я отказался от денег, заявив, что когда на другой день удастся выехать, то тогда и получу их сколько будет нужно на дорогу. Около двенадцати часов ночи этого же дня раздался энергичный звонок, и брат жены Ростислав пошел отворять входные двери.
До меня донеслись громкие голоса в передней, и затем вошло несколько человек вооруженных, предъявивших мне ордер на обыск и арест меня и всех военных, находящихся в моей квартире. Так как налицо оказался военный один – брат жены, то меня и его арестовали. Нужно сказать, что обыск длился до 6 часов утра тщательно, но весьма нелепо. На многое, чрезвычайно интересное для большевиков, не было обращено никакого внимания, а несколько кусков мыла, ножи и вилки, не имеющие цены, и частная переписка моей семьи были увезены на Лубянку.
Впрочем, это все вскоре вернули. Безвозвратно пропала для меня только моя шашка, бриллиантовое оружие. Они запечатали мои седла, ящик с погонами, генерал-адъютантскими аксельбантами, старыми военными журналами и газетами. Все это простояло запечатанным около пяти лет. И когда ГПУ соблаговолило по моему заявлению распечатать эти ящики, то седла были испорчены молью, папаха тоже, книги и журналы слиплись и частью истлели.
Остались мне на память только аксельбанты и почерневшие погоны. Шашку же, как я не бился, мне не вернули, несмотря на то, что впоследствии такие «высокие» лица, как главком С. С. Каменев и начальник штаба П. П. Лебедев писали заявления о необходимости вернуть мне мое золотое оружие. Помимо исторической ценности, шашка эта с массой бриллиантов и золота могла бы прокормить многих во времена голода.
Итак, нас с Ростиславом в автомобиле повезли на Лубянку вместе с моей дорогой моему сердцу шашкой. Там мне сказали, что как только меня освободят, то ее мне вернут. Но этого не случилось. Впоследствии мне говорили, что ее дали в награду какому-то красному герою за доблесть, выказанную в Крыму против белых. Насколько этот слух верен – не знаю!
На Лубянке нас продержали недолго и свезли в Кремль на гауптвахту. Смотрел я на Успенский собор и другие древние святыни старой Руси и невольно усмехался: вот уж не ожидал такого пассажа, когда был на фронте, что за всю мою работу во имя Родины попаду под арест под надзором нескольких латышских и еврейских юношей. Были среди моих часовых и австрийцы, взятые мною же в плен, и русские красноармейцы также были из моей армии.
И нужно сказать правду, что все они, и русские и австрийцы, относились ко мне с большой почтительностью. Со мною вместе было несколько других арестованных, все больше социалисты, меньшевики. Из них я запомнил еврея Иоффе и совсем мальчика эсера Мальма. Оба они очень сердечно ко мне относились, исполняли за меня все работы, подметали пол, мыли посуду. Также сидел со мной эсер Саблин[115], о нем мне придется вспоминать позднее. В Кремле одновременно со мной сидели англичанин Локкарт[116] и эсерка Мария Спиридонова[117]. С ней я как-то на прогулке даже разговаривал.
Прошел день и еще одна ночь с момента моего ареста. Меня беспокоила мысль о жене. Когда нас увозили из дома, она была в ужасном состоянии. Кроме того, нога моя оставалась без перевязки и вдруг рана посинела, могла образоваться гангрена. Но, слава Богу, оказалось, что жена не дремала, разыскивая меня, и на третий день явилась продовольственная передача и был допущен ко мне доктор – второй ассистент Руднева С. К. Лесной. От него я узнал, что Сергея Михайловича должны были арестовать в ту же ночь, как и меня, но он скрылся, вероятно бежал на Украину, и его большевики не нашли.
Доктор Лесной ежедневно являлся для перевязки моей ноги в Кремль, и я стал оправляться. Через несколько дней Ростислава выпустили домой, а мне разрешены были свидания с женой. Из советских газет, которые мне давали, я узнал, что меня обвиняют в том, что я стал во главе офицерской организации, которая якобы собиралась в Москве.
Я написал Дзержинскому письмо, как народному комиссару по внутренним делам, о том, что прошу его объяснить мне, в чем меня обвиняют и за что я арестован. Письмо это привожу по памяти, может быть не вполне точно, так как сохранился только обрывок черновика его. Конечно, в нем я принужден был несколько кривить душой, не мог же я открыть ему своих настоящих чувств.
«Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.
В “Известиях ЦИК” было объявлено, что я обвиняюсь в принадлежности к союзу белогвардейцев. Считаю долгом заявить, что я, безусловно, ни к какой партии, организации или союзу не принадлежу, а о существовании союза белогвардейцев даже никогда и не слыхал. Я хорошо понимаю, что мое заявление может считаться голословным, но и обвинения, не основанные на фактах, столь же неосновательны. Я знаю, что ничего подобного мною совершено не было. Насколько я твердо держался правила не противиться воле народа, можно видеть из нижеприведенных действительных фактов.
1) Я был смещен Керенским с поста Верховного главнокомандующего и заменен Корниловым, который через две недели выступил против Временного правительства. Не имея документов, не могу входить в бездоказательные подробности, но не наводит ли Вас эта смена на какие-либо мысли о моей роли в этом происшествии?
2) Во время октябрьских боев в Москве я, волею судеб, оставался нейтральным на своей квартире. Я был ранен у себя дома тяжелой гранатой в ногу 2 ноября вечером, то есть под самый конец боя, так как 2-го вечером бои были закончены. Меня ежедневно навещали красногвардейцы, каждый раз видели меня и производили безрезультатные обыски.
3) Несколько бывших генералов и офицеров, когда я лежал уже тяжко раненным, спрашивали меня: допускаю ли я возможность служить Советской республике? Я им неизменно отвечал, что считаю обязательным каждому здоровому человеку служить русскому народу (конечно, и тут я не мог признаться гражданину Дзержинскому, что я полагал полезным всем оставшимся в России офицерам быть на случай переворота на своих местах в Красной армии).
4) Когда я стал в конце весны несколько поправляться от раны, врачи и моя жена настаивали на отъезде моем на лиман в Одессу для лечения моей тяжко пораженной ноги. Я наотрез отказывался от этой поездки, рискуя здоровьем, лишь для того, чтобы отвратить подозрения в моем желании убежать из Советской России. Я великоросс и желал оставаться со своими братьями по крови, а не воевать против них.
В заключение должен сказать, что я, раненный очень серьезно, пролежал в больнице свыше восьми месяцев, а затем переехал к себе на квартиру долечиваться. В настоящее время я еще далеко не оправился, рана вновь открылась, а лечиться при таких условиях крайне тяжело. Я не чувствую за собой решительно никакой вины перед Советской республикой и никак не могу понять, за что я страдаю и в чем меня в действительности обвиняют.
Я был бы очень признателен, если бы меня вызвали, чтобы выяснить это недоразумение, ибо я иначе не могу назвать мой неожиданный для меня арест. На фронте все войска хорошо знали, что я друг, а не враг народа. Я лично имущественно совершенно не заинтересован в перемене правления, ибо у меня нет ни капиталов, ни дома, ни завода, ни имения, а обладаю лишь обстановкой моей квартиры, которую у меня никто не отнимает.
Если мое пребывание в Москве по каким-нибудь причинам считается нежелательным, то разрешите выехать в какую-либо нейтральную по отношению к Советской России страну, по Вашему выбору, с семейством, дабы я мог там спокойно и рационально лечить свою больную ногу. Не считая себя ни в чем виноватым, я сам, без разрешения, ни явно, ни тайно выезжать не желаю, даже если б был на свободе, что уже и доказал.
А. Брусилов».
В ответ на это Дзержинский сам приехал ко мне на другой же день и сообщил мне, что меня лично никто ни в чем не обвиняет, но что я арестован потому, что они прочли письмо военного английского агента Локкарта, который в нем писал своему правительству о том, что он надеется произвести переворот в Москве и захватить все Советское правительство. Он писал, что может подкупить командира одного из латышских полков, согласившегося на это дело.
Локкарт, считая меня очень популярным в народе, полагал полезным заменить мною большевиков и провозгласить меня диктатором. На все это я ответил Дзержинскому, что с Локкартом я не знаком, никогда его не видел и с ним не говорил[118]. Дзержинский мне заявил, что все равно они сами меня считают для себя опасным, потому что при моей популярности я могу и единолично совершить переворот, чего они допустить не могут.
И потому, хотя и нет у них оснований меня в чем-либо обвинять, большевики считают полезным для своего дела держать меня под арестом, пока не выяснится полностью обстановка. На это я его спросил, когда же приблизительно он считает, что меня можно будет выпустить на свободу, тем более что положение моей раны ухудшается. На это он пожал плечами:
– Как вы хотите, чтобы я вам сказал, когда и я сам этого не знаю? Надо ждать. Пишите свои воспоминания о прежней армии, ругайте бывшее правительство и царскую семью, этим вы можете ускорить свой выпуск.
– Я не берусь писать моих вынужденных воспоминаний, ругать никого не стану и при данной обстановке, на гауптвахте, писать ничего не могу.
На этом наша беседа и кончилась.
Недели две спустя после моего ареста меня перевели в подвальное помещение Судебных установлений в Кремле же. Со мною также были переведены туда и несколько эсеров, бывших моими соседями по койкам. Нас перевели в то помещение, откуда за день до того увезли царских министров на расстрел. Помещение было тесное, темноватое, но, к счастью, было более чистое, чем на гауптвахте, где изобиловали клопы, блохи и черные тараканы.
Всех там живших до меня министров расстреляли в ответ на выстрел еврейской девицы эсерки Каплан в Ленина. Логики тут мне казалось весьма мало. Очевидно, я не подвергся той же участи лишь вследствие моей популярности в народе. Для меня становилось ясным, что они хотят в будущем эксплуатировать в свою пользу и меня, и мою популярность. Так оно и вышло. Но это потом.
Пока я находился в лечебнице, у меня чередовались в голове различные планы. Я вел беседы с разными лицами. Между другими ко мне приходил генерал Дрейер[119], когда-то служивший у меня в Люблине в 14-м корпусе. Он и другие передавали мне свои разговоры будто бы с представителями немецкой армии.
Все это было так неопределенно и в то время я был настолько еще болен, что сейчас не смогу точно отдать себе отчет, в чем, собственно, состояли их планы. Знаю только, что я метался, не зная за что ухватиться, только бы найти путь к спасению все ухудшавшегося положения в России.
Для иллюстрации этого хаотичного времени считаю не лишним привести выдержки из записок моей свояченицы, которые она впоследствии уничтожила при участившихся вновь обысках среди нас окружающих друзей. Сохранилось два-три листа вне дома, у друзей.
«…Когда Алексей Алексеевич лежал еще в лечебнице, к нему стал приходить В. Н. Дрейер. Его послал какой-то немец для переговоров по поручению какого-то большого немецкого генерала (чуть ли не Людендорфа, наверное не помню). Разговор шел, кажется, о возможном занятии Москвы немцами. Я догадывалась об этом, но наверняка ничего не знала. Когда Алексей Алексеевич был арестован, нам передавали, будто это сделано по настоянию немцев.