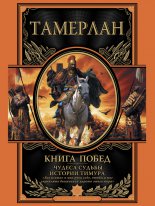Мои воспоминания. Брусиловский прорыв Брусилов Алексей

Всех бы не убили и не расстреляли. Я понимаю, что это жесточайшее недоразумение произошло от смуты душевной и горя, от отсутствия определенного плана. Я никого не обвиняю, всем глубоко сочувствую… Но принужден констатировать факт: у семи нянек дитя без глазу… Мне очень тяжко, но я даже не решаюсь пенять на тех, кто клеветал на меня и позорил меня за границей и даже у нас в России.
Все они несчастны, как и я. Они не понимали того, что делали! И не знали того, что я переживал во имя наших общих интересов. Отчасти видимость была на их стороне. А главным образом, они не знали, как мне необходимо было сохранить доверие рабочих и крестьян, и, что я на все шел ради того, чтобы иметь возможность им же открыть глаза, им же помочь впоследствии.
Затем, наступившей осенью, ко мне как-то опять внезапно приехал Медянцев и просил ехать с ним как можно скорее к Склянскому[154], который по поручению Троцкого имеет очень большое дело ко мне. Я поехал. К чести Медянцева должен сказать, что он только частью присутствовал при нашем разговоре. Говорю – к чести, так как не хочется мне допустить мысль, что и он причастен к той исключительной подлости, которую со мной проделали.
Чутье сердечное у женщин поразительное; жена моя и сестра ее со слезами умоляли меня не верить ни одному слову их, не попасться опять в ловушку. Склянский мне рассказал, что в штабе и даже в войсках Врангеля происходит настоящее брожение. Что многие войска не хотят сражаться с красными, ни тем более бежать за границу, что их заставляют силою драться и покидать родную землю, что состав офицеров определенно настроен против распоряжений высшего начальства.
Он задал мне вопрос: соглашусь ли я принять командование врангелевской армией, если она останется в России без высшего начальства? Я отвечал ему, что очень мало склонен теперь принимать какую-либо армию, что стар и болен. Но, что, если это будет необходимо, я приду на помощь русским офицерам, солдатам и казакам, постараюсь быть для них руководителем и согласовать их действия с планами Советской республики.
Конечно, опять-таки всякий поймет, что я так отвечал на основании моих мыслей, чувств и надежд, о которых я писал на предыдущей странице. Склянский мне говорил, что предлагает мне, чтобы на случай полного бунта в войсках армии Врангеля было заранее у меня готово мое воззвание о том, что я принимаю командование ею, а пока до того, что окончательные сведения об этом ими получатся, когда мне придется спешно выехать на юг, чтобы я составил свой якобы штаб и указал, кого я беру с собой…
И вот, должен признаться к великому своему горю, что они меня подло обошли. Я воодушевился, поверив этому негодяю. Я думал: армия Врангеля в моих руках, плюс все те, кто предан мне внутри страны и в рядах Красной армии. Конечно, я поеду на юг с пентаграммой[155], а вернусь с крестом и свалю этих захватчиков или безумцев, в лучшем случае.
Я пригласил в этот же вечер нескольких людей, которым вполне верил, но с которыми очень редко виделся, чтобы распределить роли. Мы все обдумали. Не называю лиц, так как они все семейные и все там, в плену, в Москве. Я пишу эту последнюю часть моих записок вне досягаемости чекистов и завещаю их напечатать после моей смерти или переворота в России, но все же подводить под какую-либо случайность их не имею права. Они сами себя назовут, если захотят, и когда для них будет возможно.
Итак, мы все обдумали, распределили должности… И ждали, день – другой – третий. Склянский ничего не давал знать. А гораздо позднее он сообщил мне, при случае, что сведения были неверные, бунта никакого не было и что все таким образом распалось. А еще гораздо позднее друзья, приезжавшие из Крыма, рассказывали нам, что когда после последней вспышки у Перекопа красные его взяли и пошли дальше на Крым, когда началось поголовное бегство, белые спасались на пароходы, чтобы не попасть в руки озверелых коммунистов, то там распространялось воззвание, подписанное моим именем, которое в действительности я никогда не подписывал, что воззвания расклеивали на всех стенах и заборах и многие офицеры верили им, оставались на берегу и попадали в руки не мои, а свирепствовавшего Белы Куна (еврей Коган), массами их расстреливавшего. Суди меня Бог и Россия.
Право, не знаю, могу ли я обвинять себя в этом ужасе, если это так было в действительности? Я до сих пор не знаю, было ли это именно так, как рассказывали мне, и в какой мере это была правда? Знаю только, что в первый раз в жизни столкнулся с такой изуверской подлостью и хитростью и попал в невыносимо тяжелое положение, такое тяжелое, что, право, всем тем, кто был попросту расстрелян, – несравненно было легче.
Если бы я не был глубоко верующим человеком, я мог бы покончить самоубийством. Но вера моя в то, что человек обязан нести все последствия вольных и невольных грехов, не допустила меня до этого. В поднявшейся революционной буре, в бешеном хаосе я, конечно, не мог поступать всегда логично, непоколебимо и последовательно, не имея возможности многого предвидеть, уследить за всеми изгибами событий; возможно, что я сделал много ошибок, вполне это допускаю.
Одно могу сказать с чистой совестью, перед самим Богом: ни на минуту я не думал о своих личных интересах, ни о своей личной жизни, но все время в помышлениях моих была только моя Родина, все поступки мои имели целью помощь ей, всем сердцем хотел я блага только ей.
Вот это случай, когда распорядились моим именем по-большевистски, без церемонии, самый скверный и самый значительный, но мелких было без числа, а россказней вокруг моего имени тем более. То я на Красной площади принимал парад вместе с Троцким и в умиленном восторге целовался с ним. То я уехал с ним на юг инспектировать войска…
– Как, вы разве в Москве? – восклицали при встрече со мной на улице знакомые.
– Да где же мне быть?
– Да ведь писали, что вы уехали с Троцким на Украину.
– Я Троцкого видел два раза за все время и из Мансуровского переулка не уезжал никуда.
– Но вас видели в вагоне у него!
– Тот, кто видел, вероятно, страдает галлюцинациями – и т. д.
А раз был очень комичный случай, его стоит рассказать подробно. Я говорил уже ранее, что у меня было много друзей крестьян в подгородных селах. Как-то я гостил в селе Дьяковском в избе Прохора Петровича. Недалеко оттуда в селе Коломенском, в бараках, прежде обслуживавших летом кадетские корпуса, большевики устроили колонии для коммунистической молодежи и для детей.
Там часто появлялись всевозможные лекторы с агитационными целями, конечно. Как-то один из таковых очень красноречиво рассказывал всевозможную политическую галиматью и, между прочим, объявил: «В данное время на Украине бывший генерал, а теперь один из видных коммунистов Брусилов собрал двухсоттысячную армию для сопротивления Антанте и белогвардейцам…»
Случайно присутствовавший при этом наш добрый знакомый доктор вдруг не выдержал и крикнул через головы слушателей: «Послушайте, товарищ, что вы врете! Вон, дойдите-ка через овраг к избе Прохора Петрова, там на завалинке сидит Алексей Алексеевич и вишни ест!..»
Общий громкий хохот весьма огорошил советского агитатора, он поспешил скрыться. Конечно, уже больше не рисковал попадаться на глаза крестьянам в этих селах. Но ведь это тут, под Москвой, где меня знали в лицо почти все… Ну а по всей матушке России, по всем медвежьим углам ее что врали, какую дребедень валили на мою несчастную голову!
Насчет всевозможных интервьюеров в русских и иностранных газетах, так это уже и говорить нечего – и огорчаться так, как многие мои близкие огорчались, решительно не стоило. Один только раз меня очень задела проделка некоего Саблина. Он был прежде эсер, сидел вместе со мною в Кремле под арестом.
Потом сделался большевиком. Я его считал идейным и порядочным человеком, разговаривал с ним, как со знакомым, а не как с журналистом. Как-то на Пасху, помнится, 1922 года он пришел ко мне в день, когда много знакомых у меня перебывало, и я его принял просто за визитера. Вышло так, что, по случаю болезни моей жены, около ее кровати за двумя шкафами сидело несколько ее друзей и ее сестра. А в первой половине комнаты сидел я с Саблиным. Жена моя и все, кто был за шкафами, слышали каждое наше слово – и потому мои показания имеют свидетелей. Мой гость этого не учел. Он все время у меня выспрашивал мои мнения о разных политических вопросах и, между прочим, спросил:
– Что вы думаете о Генуэзской конференции?
– Пока я ничего сказать не могу, цыплят по осени считают. Посмотрим еще, что из всего этого выйдет!.. – отвечал я.
Он ушел как добрый знакомый и столкнулся в дверях с Д. Н. Лагофетом. Тот еще его спросил:
– Поздравляли Алексея Алексеевича с праздником?
– Да, как же!
Дмитрий Николаевич напомнил мне, что Саблин взялся писать в «Известиях» военные заметки, что он вообще довольно талантливый молодой человек, но несколько некорректный в своих приемах. Мне до этого, в сущности, не было никакого дела. Вспомнил же я эти слова Лагофета на другой день, когда открыл газету и мне бросилась в глаза моя фамилия в заметке, подписанной Саблиным. Наврал он с три короба, приписал мне выражения и фразы, которых я не говорил; мысли, которые он сам вчера говорил и с которыми я не соглашался, выдал за мои.
Он приписал мне фразу: «Я с восторгом слежу за Генуэзской конференцией, с трепетом душевным читаю речи товарища Чичерина!» Или: «Два раза битый Врангель не сунется больше!» Теперь уж не вспомню точно всех фраз, давно это было. Но такая гадость со стороны Саблина меня поразила. Я тотчас же написал письмо в редакцию: «Товарищ редактор, в № 86 издаваемых вами «Известий», к моему крайнему удивлению, напечатано интервью со мной от 20 апреля по поводу Генуэзской конференции.
Должен вам сообщить, что я никакому вашему корреспонденту никакого интервью не давал и разговора для печати ни с кем не вел. Я политикой не занимаюсь. Не откажите напечатать в вашем органе об этом недоразумении со мной. Уважающий вас А. Брусилов».
На другой день ко мне прибежал Саблин, прося меня не печатать этого опровержения; и, видя, что я на это не иду, попробовал меня запугать: «Это произведет на коммунистов для вас невыгодное впечатление, будто вы со мной говорите одно, а для печати другое!..» Я сдержался и спокойно попросил его раз и навсегда оставить меня в покое, и в тот же день опять написал письмо в редакцию, прося опровергнуть то, что было напечатано.
Стеклов[156] мне отвечал, что вполне со мной согласен, что это печальное недоразумение необходимо выяснить, что в ближайшем номере мое письмо будет напечатано. Но этого ближайшего дня я так и не дождался. Да и немудрено, потому что сам редактор «Известий» не хотел печатать моего опровержения, так как ему не удалось меня спровоцировать: он настаивал, чтобы я ему определенно указал, с чем я, собственно, не согласен в заметке Саблина.
Я же ему отвечал, что не признаю самый способ обращать в интервью частный разговор и что потому не согласен с заметкой Саблина от первой до последней ее фразы. Мне позднее рассказывали, что результатом всего этого было то, что группа честных молодых коммунистов обсуждала этот вопрос и вынесла свое порицание Саблину за шантаж с моим именем.
Но насколько это верно, не знаю. Теперь, оглядываясь назад, признаю, что, конечно, совсем не следовало и разговаривать с такого рода кавалерами. Но, с другой стороны, как я мог всегда думать, что так много русских, на вид порядочных людей, в такой мере оподлилось. Да и говорил я, не говорил – все равно кто хотел, тот и врал все, что хотел. Вон, недавно, как я прочел в «Известиях», на суде в Париже (1925 г.) коммунист Садуль[157] объявил: «Мой друг Брусилов», а я его в жизни не видел.
Он был на юге России, когда я из Москвы не выезжал. И еще недавно был такой случай: приходил по делам домоуправления какой-то еврей к нашему заведующему домом Никит. Мих. Чигореву и в разговоре с моей женой вдруг говорит:
– Я с вашим супругом познакомился в Кисловодске прошлым летом!..
– Мой муж не был в Кисловодске и за все семь лет революции из Москвы не выезжал! – говорит моя жена.
– Помилуйте, меня познакомили с ним и я говорил с ним!..
Что на это сказать?! Многие мне рассказывали, что они выдавали кого-то за меня, что мною гримировали кого-то! Но я не мог этому верить и только поражался, что это все за комедия! Все это вздор и комедия, но тем не менее все это рисует нравы, способ действий и манеру агитаций всей нашей современной публики.
Несколько раз меня просили, и я читал лекции здесь в Военной академии и в Петрограде в Думе[158]. Первые мои лекции в Москве прошли с большим подъемом, аплодисменты были шумные. Я чувствовал, что заинтересовываю всю аудиторию. Тема была все одна и та же, дорогая моему сердцу: Галиция и 1916 год, мой Луцкий прорыв. Но чем дальше шло время, тем сильнее в душе моей сказывалась безрезультатность всей моей работы, всех моих начинаний, мне переставало хотеться иметь общение с молодежью, охоты не было читать какие бы то ни было лекции.
Да и уставал я сильно, старел и болел. Когда я ездил в Петроград на несколько дней как-то в одну из весен, чтобы прочесть лекцию, я посетил могилы в Александро-Невской лавре моей первой жены и брата Льва. Недалеко от моих родных могил я случайно набрел на могилу А. А. Поливанова. Я не знал, что тело его из Риги перевезли в Петроград. Постоял я у его могилы и, по правде сказать, позавидовал ему.
Гораздо раньше я два года подряд читал лекции в 1-й кавалерийской школе (когда Д. Н. Лагофет там был начальником) о теории езды и выездки лошадей[159].
Это, в сущности, был необходимый заработок для семьи моей; была такая дороговизна, что не хватало никаких денег. Гонорар за лекции был пустяшный, но лишний паек и дрова были важны. Когда Лагофет умер, я оставил эти лекции, так как совсем другой дух стал в школе. Вот тогда же, когда я ездил в Петербург, и Д. Н. Лагофет тоже был там в командировке. Ему отвели ночлег в бывшем Николаевском кавалерийском училище, и там его угостили зараженной сыпняком вошью.
Вернулся он в Москву уже сосем больным и вскоре умер. Это был прекрасный человек, и многие его горячо оплакивали. Умный, глубоко образованный, талантливый военный писатель, бесконечно добрый человек. Моя жена горячо чтит его память, потому что он многим «бывшим» генералам и офицерам выхлопатывал службу. Между прочим, и брату ее Ростиславу он устроил последнюю его службу по коннозаводству в Туркестанском представительстве.
А ранее хлопотал и о сестре Елене Владимировне, устроив ее в Военной академии. Многим-многим помогал этот прекрасный русский человек, служа в Красной кавалерии, якобы служа Советскому правительству. Много мы, бывало, разговаривали с ним вечерами, просиживая вместе: он, брат жены Ростислав и я. И оба эти мои собеседника давно лежат на кладбище Новодевичьего монастыря, и это я считаю большим счастьем для них, ибо они были с честью, торжественно, по-православному похоронены, а не растерзаны, не замучены в подвалах Чрезвычайки, как тысячи и тысячи честных русских людей за эти годы.
Мы, все трое, мистики, все трое одинаково понимающие положение России, все трое скорбящие о ней. Смерть Дмитрия Николаевича была для нас большой потерей. Его друзья-генералы, тоже «бывшие» по чувствам люди, но служившие в Красной армии, это А. В. Новиков, А. Е. Снесарев, П. А. Козловский. Их всех, из одного теста слепленных, я не променял бы во имя России на многих дряблых эгоистичных эмигрантов.
Когда мне предложил Н. И. Раттель быть главным военным инспектором по коннозаводству и коневодству, я согласился. Ввиду необходимости создания лошадей для кавалерии и артиллерии, было основано учреждение по названию «Гукон», т. е. Главное управление коннозаводства и коневодства. Во главе его был поставлен Н. И. Муралов. При мне было двадцать семь инспекторов, все бывшие офицеры, которых я рассылал по всей России, и мы старались с ними спасать конные заводы и остатки кровных лошадей.
Говорю остатки, так как до революции в России было много миллионов их, а теперь мы единицы их разыскивали с трудом. Из моих сотрудников главным помощником был И. М. Ильенко, который много потрудился для восстановления скачек и бегов. Вначале Коммунистическая партия совсем на них не соглашалась, считая, что бега и скачки – принадлежность барского дела и им они совсем не нужны. Они не понимали, конечно, что без скачек и бегов развитие конской породы невозможно.
Было по этому поводу несколько заседаний, и на них в конце концов я сумел взять верх и провел утверждение этого дела, причем Муралов мне в этом много помог. Не обходилось и без курьезов. Помню, как одна из ярых дам-коммунисток на одном из заседаний яростно доказывала, что кавалерия может скакать на крестьянских сивках-бурках, причем вдруг всех удивила, истерично выкрикнув:
– Мы уничтожили людскую аристократию, извели человечью белую кость, к чему лошадиная?..
Как известно, первым командующим войсками Московского округа вслед за большевистским переворотом был Муралов. Затем его назначили на Восточный фронт, потом он опять вернулся в Москву и был назначен начальником Гукона. Но вскоре снова стал командующим войсками Московского округа и покинул Гукон. А вместо него в Гукон был назначен Франц, одновременно с тем, что все это учреждение причислили к Наркомзему (Народный комиссариат земледелия).
В этом Наркомземе было много у меня сослуживцев и начальства, людей неведомого происхождения, с подозрительными фамилиями, которые впоследствии попадали под суд за гешефты, растраты и всякие художества. Тут начались сокращения штатов, но эти господа не сокращались, а мои офицеры вылетали один за другим. Наконец, я остался один, без своих помощников, и стал усиленно проситься в отставку. Но меня не пускали, несмотря на то что коммунисты непременно хотели уничтожения Гукона. В конце концов они этого и достигли, сделав из него не самостоятельное дело, а только отделение Наркомзема.
Я решительно стал отказываться от службы в этой компании, совершенно без своих людей. Даже моего личного секретаря С. А. Ладыженского[160] – и того хотели меня лишить. Я перестал туда ездить, тем более что по чьему-то распоряжению за мной перестали посылать экипаж. А путешествовать во всякую погоду с больной ногой на Варварку, в другой конец города, мне далеко не улыбалось. Так прошло некоторое время. Затем мне стали передавать, что в штабе говорили о желательности организовать отдел ремонтирования [пополнения убыли лошадей] армии. Вскоре мне предложили за это взяться.
Мне это улыбалось, потому что я вновь мог пристроить на паек и жалованье нескольких генералов и офицеров. Ко мне стали приходить многие из них. Мы составляли списки кандидатов. Это тянулось очень долго. Наконец, когда вопрос этот был решен окончательно, то совершенно неожиданно для меня вышел приказ о назначении меня инспектором кавалерии, а отдел ремонтирования был мне подчинен, но во главе его поставили Сакена, тоже бывшего офицера, но совершенно мне незнакомого и, кажется, коммуниста.
Он производил на меня впечатление очень виляющего человека, и большинство моих офицеров к нему относилось недоверчиво. Уж одно то, что он не помог мне устроить на службу бывшего своего начальника, а теперь очень бедствующего Владимира Александровича Толмачева, рисует его скверно[161].
Странное впечатление на меня произвели первые же шаги в инспекции кавалерии. Я хотел было выпустить приказ с объяснениями, что и как делать. Приказ этот на всех тех, кто его читал, произвел большое впечатление. Молодежь радовалась и говорила: «Старым брусиловским духом повеяло». Но главнокомандующий, бывший полковник Ген. штаба Каменев, с содержанием приказа согласился, но при условии, что он будет подписан им, а не мною. На что, я, конечно, не согласился.
Тогда этот злополучный приказ и совсем не был выпущен. Далее, я хотел устроить военную игру для того, чтобы ознакомить командный состав с положением дела. И на это главнокомандующий не согласился[162]. С тех пор я сложил руки и ровно ничего не делал, за исключением текущей переписки. Терпел я это глупое положение только опять-таки из-за своих сослуживцев и подчиненных, у которых таким образом были пайки и содержание. Мало-помалу моя канцелярия обратилась, по шуточному выражению моих молодых сослуживцев, в контору для приискания мест «бывшим людям».
Каждый день ко мне приходило по несколько человек с просьбами рекомендовать их на то или другое место. Я горячо их рекомендовал и дело это шло очень удачно, все получали места. Конечно, импонировало мое имя, но и печать штабная, и бланк инспектора кавалерии немало содействовали успеху дела. Куда-куда я только не давал своих рекомендаций: и на бега, и на скачки, и в игорные дома контролерами, и в родильные дома служащими, и на бойни городские, и в магазины, и в больницы, и в гостиницы, и в различные конторы.
И отрадно констатировать факт, что все эти сотни бывших офицеров, мне лично часто совсем неизвестных, меня не подводили и не конфузили. Единственный раз только какой-то Кесслер, тоже бывший кавалерийский офицер, прокрался, истратил казенных сто червонцев и позанимал у сослуживцев, помнится, около тридцати червонцев. Мне об этом сообщили, и я был очень сконфужен, ибо в своем письме его рекомендовал как своего хорошего знакомого.
Я сообщил в это учреждение, что возьму эту растрату на себя, хотя выполнить это для меня было весьма трудно. Мне ответили, что за казенную растрату его будут судить и это меня не касается, а что те деньги, которые он набрал взаймы у своих сослуживцев-бедняков, меня просят возместить. Я отвечал согласием и стал постепенно вносить эти деньги, точно не помню сколько. Но вскоре я получил письмо за подписью трех лиц, которые мне возвращали три червонца.
«Месткомом сотрудников нам было объявлено, что вы любезно приняли на себя возмещение материального ущерба, понесенного нами ввиду известных Вам поступков гражданина Кесслера. Мы, нижеподписавшиеся, не считаем для себя возможным воспользоваться Вашими деньгами, ибо полагаем, что за доверие, которое мы оказали гражданину Кесслеру, нести ответственность помимо его самого никто не может…»[163]
Это, может быть, и верно, но если для советского труженика, да еще «бывшего буржуя» десять рублей вещь серьезная, то я рад, что имел возможность возместить этот убыток: мне ведь, в свою очередь, помогли друзья.
На это письмо я, конечно, отвечал благодарностью. Привожу этот, в сущности, мелочный факт, потому что мне отрадно сознание, что в числе сотен и сотен лиц, совершенно мне неизвестных и рекомендованных мною только из желания добра людям вообще, я нарвался на нечестного человека всего один раз. А ведь бывало, что и не одним интеллигентам приходилось давать рекомендации, а вплоть и до безграмотных простолюдинов и красноармейцев-коммунистов. Один раз пришел ко мне безногий, сильно израненный красноармеец с Красным Знаменем и другими знаками отличия.
Уж куда-куда я не писал прошений о нем, вплоть до самого Троцкого. Моя канцелярия особенно старалась изощрять свое красноречие именно потому, что он пострадал на красном фронте под Варшавой. Но ничего не вышло, нигде помощи он так и не нашел и бранился так, как только один, кажется, русский умеет браниться. Это меня очень удивило, я думал, что о них хоть заботятся, так как о печальной судьбе так называемых «николаевских отбросов», т. е. наших, оставшихся от императорской войны калек, я давно знал! Они обречены на голодное вымирание в громадном большинстве.
Итак, это было уже в 1923 году. Мне все более и более нездоровилось и надоедала эта канитель. Я подавал рапорты и в 1922 году из Гукона и в 1923 году из инспекции кавалерии – просил уволить меня в отставку, но меня все не пускали[164].
Вначале мы были помещены в штабе в бывшем Александровском училище на Знаменке, где зимой хоть было тепло. Но в 1923 году канцелярия инспекции и ремонтирования армии была переведена на Басманную, в особняк какого-то когда-то очень богатого человека; но теперь его совершенно не отапливали и я буквально замерзал, сидя в полушубке, в валенках в комнате – и главное, без всякого смысла, ибо, приезжая туда к 12 часам, уезжал в три часа – и все это время читал газеты или переговаривался со своими сослуживцами.
Бедненькие машинистки, которым все же давали какие-то бумаги переписывать, наживали опухоли и нарывы на пальцах от холода. Да еще их заставляли дежурить по ночам в этой ледяной атмосфере, по общему правилу.
И только в 1924 году меня невольно спас Буденный, ибо для него понадобилось место инспектора кавалерии и нужно было вновь сокращать и чистить все учреждения от «белой кости», и тогда моя инспекция была совсем расформирована для того, чтобы возобновить инспекцию кавалерии под флагом Буденного.
Сам по себе вахмистр Буденный ко мне относился всегда очень почтительно, только жаль, что еле-еле умел подписывать свою фамилию и за него писали статьи и приказы другие, даже и офицеры-академики, сумевшие затушевать свою «белую кость» и подладиться к коммунистам. А моих сослуживцев всех прогнали, и я еле-еле некоторых из них устроил на различные частные места, но большинство и до сих пор голодает и нищенствует ужасно. Если б не это, то своей отставке я был бы очень рад.
А теперь мне хочется продиктовать, чтобы не забыть, один инцидент, и весьма печальный, бывший еще в конце 1922 года.
Как-то зимой пришел ко мне молодой человек с калмыцким лицом и отрекомендовался князем Тундутовым, бывшим гродненским гусаром. Вглядевшись в него, я действительно вспомнил его.
– Как вы попали сюда, князь? – спросил я его.
– Да вот приехал из-за границы с очень большим поручением.
И рассказал он мне следующее; да, впрочем, лучше внесу сюда целиком его рапорт, который я просил его мне подать для дальнейших шагов.
«Атаман войска Астраханского
г. Москва 3.XII. 1922 года
Бывшему верховному главнокомандующему
Алексею Алексеевичу Брусилову
Рапорт
Прибыв из-за границы, где пробыл с середины 1919 года, по поручению офицеров, казаков и калмыков вверенного мне ранее войска, считаю своим долгом доложить картину положения строевых чинов Астраханского казачьего войска, а равно и чинов белых армий, эвакуированных Деникиным и Врангелем, причем сообщаю те сведения о политической жизни эмиграции, кои я мог собрать за свое пребывание за границей.
1) Германия: лагерь «Лихтенгорс», так называемая Красновская колония в Ганновере. 1 и 2-й Донские казачьи полки «Сводного состава» – до 1400 казаков-калмыков, во главе негласный начальник штаба Краснова полковник Карташев. Лагерь представляет собой общежитие-бараки. Офицеры и казаки получают по наряду Карташева сельскую работу в германских экономиях. Заработная плата колеблется от 3 до 5 тысяч марок в неделю. Всякая связь с внешним миром идет через полковника Карташева. Каждый поступающий в лагерь дает подписку о выполнении приказа Краснова. В общем, положение материальное удовлетворительное.
2) Польша: лагерь «Тухоля» у Данцига. Общее число офицеров, казаков, калмыков около 2 тысяч, во главе полковник Духопельников. Положение, благодаря безработице, крайне тяжелое. В последнее время шла переброска этой группы частично в лагерь «Лихтенгорст».
3) Чехо-Славия[165]: казачество, сведенное согласно письму Краснова в станицу, возглавляется станичным атаманом, кроме того в Праге работает Союз возрождения казачества. Членами Союза являются казачьи деятели правой С. Р. Председатель Союза – Водма Уланов. Все паспорта отобраны у казаков Союзом, который направляет их на сельские работы под своим непосредственным контролем. Общее число эвакуированных достигает до 2 тысяч. Работа тяжела, не обеспечивает жизни и в последнее время наблюдалась утечка людей в пределы Венгрии.
4) Венгрия: казачество организовано согласно письму Краснова в станицу, во главе полковник Ершов. Во главе же врангелевских солдат – представитель Врангеля Иловайский К. Д. Люди работают на свиных заводах. Заработок от 3 до 4 тысяч венгерских крон в неделю. Между казаками и добровольцами идут прения, что еще более усугуб-ляет тяжелое положение людей. Общее количество до 1500 человек.
5) Сербия: казачество возглавлено генералом Яловым, который последнее время старался взять подряд на постройку Адриатической жел. дор., но пока эти старания не увенчались успехом, и в связи с прекращением правительственной субсидии в 250 динар ежемесячно положение казачьей массы около 7000 человек становится со дня на день все тяжелее. Добровольцы служат на пограничной сербской службе по охране границ, получают по 350 динар и при обмундировании. Офицер на положении сержанта.
6) Болгария: казаки (Донской корпус Абрамова). Люди работают на шахтах и в поле. Положение крайне тяжелое. В последнее время, особенно добровольцам, помогает Акц. об-во с К. И. Щегловитовым, владельцем газеты «Русское дело» (во главе), устраивая работы и субсидируя отдельные части при аренде земельных участков.
7) Константинополь: во главе казачества, организованного в 7 казачьих станиц, полковник Греков и генерал Калинин. Живут в общежитии в Силимие и Буик-Дере. Заработка никакого. Положение ужасное. Общее количество до 3000 человек.
В политическом отношении жизнь эмиграции представляет собой крайне многообразное течение: в Берлине – Высший монархический совет во главе с Марковым 2-м и бароном Таубе. Эта группа проводит Дмитрия Павловича – как престолонаследника и Николая Николаевича – как главнокомандующего. В Баварии отколовшиеся от берлинских монархистов – партия генерала Бискупского и Шейбнер-Рихтер (председатель Баварского общества «Ауфбау»).
При помощи князя Голицына-Муравлина проводила Кирилла, что выразилось в известном его обращении к русскому народу. Высший монархический совет имеет повсеместно свои отделения под названием Монархических объединений. Средств у Выс. монарх. совета нет, если не считать субсидии, получаемой им от Кеннена, и небольших средств, выделенных ему Венгерским монархическим объединением.
Монархическая партия проводит на пост походного атамана Краснова, как лицо популярное среди строевого элемента. По издании своего обращения, Кирилл обратился к Краснову с личным письмом, прося его сотрудничества, но благодаря тому, что Кирилл не располагал средствами, нужными, по мнению Краснова, на организацию армии, сотрудничество его отпало.
Правое Эс.-Р. течение проводится в казачьей массе Союзом «Возрождения казачества», организацией явно враждебной к политике Краснова. Союз «Возрождение» в мае сего года получил субсидию на политическую работу от чехословацкого правительства в 10 000 000 крон. Казачьи войска – Кубанское, Терское и Донское – в лице своих атаманов Пабаевского, Науменко и Вдовенко управляются Объединенным советом, в который входят войсковые атаманы и представители правительства. Средства имеются у Терского войска, которое успело продать нефтяные войсковые участки за 30 000 000 франков. Остальные войска средств не имеют, получают от Терцов деньги недостаточные и их еле хватает на содержание многочисленной администрации, так что в массу казачью доходят изредка жалкие крохи.
Благодаря этому, а также агитации Краснова, казачьи правительства потеряли всякое влияние на казачьи массы.
Главнокомандующий русской армией Врангель явно враждебен Объединенному казачьему совету и Краснову, видя в последнем конкурента. Рядовое офицерство, казачество и добровольцы ценою лишений и страданий на чужбине, изверившиеся в своих вождях, в массе стремятся домой. Только благодаря давлению Врангеля и отсутствию точных сведений о том, что их ждет в России, репатриация до сих пор дает сравнительно малый результат.
На основании вышеизложенного я имею честь от имени офицеров, казаков и калмыков, желающих вернуться на Родину для честного служения России, покорнейше просить Вас возбудить ходатайство перед Российским Советским правительством о беспрепятственном возвращении чинов белых армий.
А равно ходатайствую о воззвании Вашем, согласно моему рапорту, обращенном к чинам казачьих и добровольческих армий. Твердо верю, что несчастные русские люди, томящиеся на чужбине, чтут Ваше слово, как бывшего Верховного главнокомандующего, который подкрепит колеблющихся и раз навсегда прекратит попытки белых вождей сохранить строевой элемент для будущих военных авантюр.
Бывший Астраханский войсковой атаман выборов 1917—18–19 гг.
Дмитрий Тундутов».
Одновременно с этим он подал мне заявление с просьбой принять его на службу в инспекцию кавалерии. По соглашению с ним, я направил этот рапорт к Троцкому[166] при следующем моем личном заявлении:
«Главнокомандующему всеми вооруженными силами Советской Федеративной Республики.
Представляя Вам настоящий рапорт, докладываю, что хотел бы откликнуться на просьбу этих оторванных от родной земли, от семей своих, исстрадавшихся людей, хотел бы помочь им вернуться домой, но для этого было бы необходимо:
1) Разрешить мне написать обращение, составленное по моему рецепту. Конечно, оно должно быть рассмотрено Вами и утверждено высшей властью.
2) Совершенно необходимо не только обещать, но и полностью выполнить обещание полной амнистии. Надо точно оговорить, кто из воинских чинов белой армии не подлежит амнистированию, ибо я должен поручиться моею честью, что обещание Советского правительства будет безусловно выполнено.
3) Необходимо послать, кроме автора этого рапорта, еще эмиссаров по моему выбору для распространения моего ответного обращения, и, конечно, выбор мой должен быть одобрен ГПУ.
4) Эта посылка эмиссаров должна быть тайной, ибо иначе они могут быть уничтожены тем или иным путем.
Только при строгом соблюдении вышеперечисленных условий я мог бы прийти на помощь нашим бедным, измученным оторванностью от Отечества, людям. Если же эти условия неприемлемы, принужден буду оставить этот рапорт без ответа.
А. Брусилов».
Затем прилагаю написанное мною письмо (ответное), которое я предполагал послать за границу через Тундутова и эмиссаров, назначенных правительством и мною. Троцкому этот проект ответа я пока не послал.
«Дорогие друзья! Мне, Вашему старому главнокомандующему, Ваше поручение передано. Тяжко Вам жить на чужбине, вдали от семей и родных. Я об этом давно догадывался. Но чем же я могу Вам помочь? Только могу просить и выхлопотать разрешение спокойно и безопасно вернуться на Родину, и, вернее, что если я не был бы уверен и не заручился бы обещанием Советского правительства, что ни один волос с головы Вашей не упадет, то я Вам этого письма не послал бы.
Но надо помнить твердо, отдать себе вполне отчет о положении Вашем относительно нашей многострадальной России. Я не хочу никого и ни в чем обвинять, но Вы же знаете, что я не согласен с Вашими нынешними вождями. Они издали не могут судить о современном положении России и во многом ошибаются. Я не бросил Родины, остался в России. Когда мать больна, ее не бросают. Мы все переживаем тяжелую болезнь вместе с Родиной – матерью нашей.
Мы все были сбиты с толку массой тяжелых недоразумений между всеми нами. Трагическое положение русских людей за границей и здесь воистину ужасно. Одно я знаю верно: мы, люди, живем десятки лет, а жизнь страны считается веками. И не в первый раз Россия переживает большие потрясения, я глубоко верю, что ее ждет великое будущее. Я не участвовал в гражданской войне и в пролитии братской крови не повинен, я не боюсь ни клевет, ни кривотолков ни со стороны белых, ни со стороны красных, но я должен Вам сказать, что к старому возврата нет.
За эти годы, что Вы пробыли на чужбине, в России многое изменилось, и надо с этим считаться. Вы не узнаете своих детей, они выросли из своих рубашонок, но вместе с тем у них открылись глаза, и они многое видят и понимают, о чем прежде и понятия не имели. Так вот и знайте, что в старом было столько дурного, что народ наш, значит, Ваши же братья, бросились к новому правительству и поддержали его.
Я наблюдал это вблизи. Разве Вы не понимаете, что иначе ничего нельзя было бы сделать, если бы не было этой могучей народной поддержки. Идите же к братьям и семьям Вашим, возвращайтесь на родную землю и старайтесь понять, в чем тут дело и какой выход можно найти, чтобы прекратить междоусобицу и преступное пролитие братской крови. Жизнь сама научит Вас и вольет в берега разбушевавшуюся стихию.
Но для этого надо помогать друг другу, вникнуть глубоко в причину всего происшедшего и происходящего и верить, что крепкая любовь и вера в Родину все переживут и дадут бодрость духа, необходимую для достижения счастья Русской земли. Мир и плодотворная, созидательная работа – вот что нам нужно на многие годы.
Возвращайтесь же домой и будьте верными сынами своего Отечества. Все знающие меня знают, что я никогда не был коммунистом и никогда им не буду, но я подчинился стихийной воле народов, населяющих землю Русскую, и полагаю, что не ошибся. Россия, которой угрожал при Временном правительстве и при вторжении чужеземцев полный распад, – теперь через пять лет существует! Россия, которую я люблю превыше жизни!
Границы наши, несмотря на отделение некоторых окраин, все же громадны. И ныне Россию защищает Красная армия. Идите, становитесь в ее ряды, если хотите, и делайте то же самое или же возвращайтесь к мирным, сельским работам, к семейной трудовой жизни. Я старик, мне ничего не надо лично для себя, но я люблю свою Родину и хочу для нее в будущем великого блага. Мои кости истлеют, а земля Русская будет процветать.
Не наше с Вами дело учить Провидение, ведущее все народы. Во многих бедствиях не оно, а мы сами виноваты и должны перенести данные нам испытания. Наши дети, внуки и правнуки только поймут, для чего все это нужно было нам пережить. Вот все, что считал долгом Вам сказать.
И да поможет Вам Господь вернуться благополучно домой. Я же беру на себя трудную миссию выговорить Вам это право без малейшего риска для жизни Вашей. Говорю: трудную, так как для нашего правительства доныне Вы были врагами. Я же, седой и больной Ваш бывший главнокомандующий, люблю всех русских людей, все народы, населяющие Россию, одинаково, считаю Вас жертвами великих недоразумений и потрясений и приложу все усилия, чтобы всех Вас примирить, прекратить междоусобное пролитие крови и дожить до мира и благоденствия в страждующей стране нашей».
Перечитав теперь этот проект письма, я теперь только вижу, насколько еще в 1922 году я был слеп относительно нашего правительства. Ну да что уж об этом и говорить!..
Через несколько дней ко мне приехал посланный от Троцкого очень элегантный молодой, бывший офицер по виду. Он мне сказал, что Лев Давыдович поручил ему передать, что благодарит меня, но что это теперь несвоевременно[167]. Тундутова же ни под каким видом принять на службу нельзя.
Тундутов еще раз или два заходил ко мне. Я ему сказал, что ничего не выходит. Он как-то привел свою жену, очень хорошенькую не то немочку, не то англичаночку. Через некоторое время она прибежала одна и рассказала, что их обоих арестовали, но ее скоро выпустили, а он сидит в тюрьме.
Я наводил справки, расспрашивал, в чем дело, но никто в штабе мне ничего толково не сказал. Спустя еще некоторое время я слышал, что Тундутов с женой выслан за границу; а другие говорили, что выслана только одна она, а он будто бы расстрелян, так как большевики имели неопровержимые доказательства, что он служит в английских войсках и приехал в Россию, как английский шпион. Правда ли все это и в чем тут зарыта собака, до сих пор не знаю. Я с первого свидания с ним советовал ему уезжать скорее, удивлялся, как он решился привезти молоденькую жену в такую революционную страну. Я бы очень хотел знать, жив ли он? И правда ли все то, что мне рассказывали?![168]
Весной 1923 года приезжал в Москву А. В. Свистунов, но не под своей фамилией, а под видом агента какой-то торговой фирмы. Я слышал, что он был на юге, когда еще белые не покидали России, но потом потерял его из виду. Поэтому, когда он приехал, я был рад его видеть, но очень просил скорее уезжать, не шутить с огнем. Он мне отвечал, что столько раз был между жизнью и смертью, что ничего теперь не боится.
Он говорил, что приехал по поручению Кирилла Владимировича и разослал много прокламаций или, скорее, манифестов его. Помню, что я ему определенно сказал, что Кирилл – это не то, что нам нужно теперь в России, и что если говорить о монархии, то, кроме Николая Николаевича, я ни за кем бы своею волею, охотно, не пошел. Но если бы случилось такое, по-моему, чудо, что Кириллу удалось бы прогнать наших захватчиков, то, конечно, я бы счел своим долгом быть полезным русскому делу под какой угодно фирмой.
Свистунов еще раз или два заходил ко мне, и мои близкие все очень волновались за него и просили его уезжать. Он обещал прислать открытку, когда переедет границу, подписавшись «Шура». Но этой открытки мы не получили, и я очень боюсь за него, выбрался ли он живым от наших большевичков? Ничего не знаю.
В 1924 году я очень болел. Мне дали, наконец, отставку и назначили пенсию. Волокита была ужасная, опубликовали о назначении пенсии в 30 червонцев в марте, а начали выдавать, кажется, в июне или июле. Одновременно дали отставку и назначили такую же пенсию Павлу Павловичу Лебедеву. Это человек, который действительно работал много, будучи несколько лет начальником штаба Красной армии, и, в сущности, создал все дело и поставил на рельсы весь механизм ее.
Это чрезвычайно умный человек, и, собственно говоря, работал он, а главнокомандующий Каменев, как очень недалекий человек, был пешкой в его руках. Насколько оба они были корыстны, как говорили, этого я не знаю. Для того чтобы решиться уволить от дел такого человека, как Лебедев, нужны были серьезные причины[169]. Одновременно с ним был уволен, а затем арестован его правая рука Георгий Николаевич Хвощинский.
Должен сказать, что это исключительно энергичный и добрый человек, много помогавший «бывшим людям». По поводу их увольнения рассказывали, будто бы за их поручительством был устроен какой-то гродненский гусар, который оказался шпионом белых. Вообще, должен сказать, что так называемая «белогвардейская» пресса за границей много вредила своей болтовней тем, кто оставался в России.
Постоянно арестовывались люди по ее намекам, а иногда и прямым указаниям. Одновременно с этими арестами и сокращениями много говорили о каких-то секретах, выданных за границу. Это повторялось периодически, арестовывалось множество людей, иногда без всяких видимых оснований.
В один из таких разов похватали целыми группами в Петрограде и в Москве бывших преображенцев, между ними знаю, что свиты его величества генерала Гадона, князя Ширинского-Шихматова и Штера сослали, а бедный старик Навроцкий так и умер в тюрьме. С Ширинским-Шихматовым мы встречались часто до этого, то в церкви Левшинской, где он был усердным псаломщиком, то с тачкой на улице, перевозившим какие-то тяжести.
В последнее время я как-то услышал от княгини Натальи Петровны Оболенской, что ему посылают посылки, что он пишет очень бодрые и интересные письма, просит денег ему не посылать, так как там они не нужны, а блестящие пуговицы, бусы, битые зеркала очень нужны, так как идут в обмен на рыбий жир и съестные продукты с местными жителями, чуть ли не дикарями.
В то же время, как расформировали инспекцию кавалерии, расформировали также несколько военных учреждений и школ. Сократили, «вычистили» множество народу, все бывших офицеров и генералов. Всюду их заменяли неучами «краскомами». (Красный командир. Крас-ком – это кавалер, который грамоте выучился, превзошел все военные, элементарные и высшие науки в три года. Права, которые в наше время давались после семи лет кадетского корпуса, двух лет военного училища и трех лет академии, краскомы получают в три года!)
В штабе никого из прежних не осталось, а представителей от ГПУ значительно прибавилось.
Во всей Москве стон стоял и царило отчаяние, так как не только в военном ведомстве, но и во всех решительно учреждениях выгоняли на мостовую, на полный голод множество людей. Эти сокращения штатов назывались «чисткою», так как считалось, что партия очищалась от буржуев и вообще бывших людей. Но так как все новые люди были полные неучи или юркие жидочки, то всюду царил беспорядок и застой в делах.
Объясняли всю эту катавасию тем, что у правительства не хватает средств содержать всех служащих и одновременно вести всемирную пропаганду. Русские народные богатства и деньги уплывали по карманам коминтернов, а давать жалованье самим русским не хватало средств. Я слышал о случае, когда две старые венгерские коммунистки были присланы в одно из учреждений. Им дали сразу места и большое содержание.
Они языка русского не знали. Да еще других служащих заставляли учить их русскому языку даром, в порядке служебной дисциплины. Эти дамы приходили с портфелями, сидели и молчали. Грязные, противные, все время чесались и скреблись. Когда служащие обратили на это внимание, то они объяснили:
– Мы много лет сидели в тюрьме и завшивели!..
И вот, русских, знающих, толковых людей, лишали мест, а заменяли их такою дрянью.
И много-много приходилось слышать возмутительных подробностей из современной обывательской жизни.
На улицах интеллигентных русских лиц почти не встречалось. Все евреи, китайцы, японцы, кавказцы, всевозможные заезжие с Востока и Запада коммунисты или аферисты.
Физиономия Москвы превратилась в какой-то калейдоскоп чуждых нам людей.
А москвичи или арестованы, или перебиты, или разъехались, или сосланы, или запуганные сидели по домам, вернее по своим углам и койкам. Если кто хотел их видеть, то нужно было идти в церкви, все они были переполнены молящимися.
С пенсиями тоже происходили странные вещи: то давали их, то переводили пенсионеров на социальное обеспечение, то совсем отнимали и ничего не давали. Черт знает, какая путаница, несправедливость, произвол царили всюду. Мне вначале удавалось выхлопатывать многим лицам пенсию, потом их отнимали и, когда я вновь начинал хлопотать, мне обещали, но не исполняли. Несколько раз я писал письма по поводу того или другого лица, мне просто не отвечали. Все это я пишу, чтобы подчеркнуть, насколько мне тяжело и противно было получать эти несчастные триста рублей в месяц, которые мне назначили «за особые заслуги». Это тоже было подчеркнуто, для радио вероятно!
Курьезная вещь и тут произошла: спустя некоторое время я получил бумагу, в которой мне сообщалось, что я в отставку все же не выпущен и остаюсь при РВС с кличкой «по особо важным поручениям». Никаких поручений мне не дают, никогда я там не бываю и решительно не понимаю, зачем это им понадобилось. Знаю только, что по декретам, сообразно с большой персональной пенсией, жилищное товарищество тянет с меня за мою бывшую гостиную, разделенную аркой (считается две комнаты), со всеми «коммунальными услугами»: электричество, вода, отопление, всякие налоги – до 150 рублей в месяц, мне с семьей остается только 150 рублей, а иногда и меньше. Кто-то даже сострил:
– Собственно, кто же пенсию получает – А. А. Брусилов или жилищное товарищество этого дома?!
Рядом, по коридору, в комнате живет рабфаковец (студент рабочего факультета), он платит, кажется, 60 копеек за комнату, положим меньше моей, а в нижнем этаже есть еще пролетарии всех сортов, то по 50 коп., по 70 коп. платят там, где я десятки рублей плачу. Это, конечно, для пролетариев очень хорошо и я ничего против этого не могу иметь. Но не надо только кричать, что я получаю громаднейшую пенсию, когда ее половину назад отбирают.
Все преимущества и выгоды социалистическое безумное и преступное правительство дает для видимости пролетариям и рабочим, тем кружит им головы, а громаднейшую часть всевозможных выгод и преимуществ под шумок загребает себе. Живет сладко, развратничает, пьянствует и возмущает даже своих же честных, идейных товарищей и сотрудников. Все сделано, чтобы устроить не рай, а ад на земле. Всех ограбили, всех измучили, всех перессорили в свою личную пользу. Кажется, рабочий начинает соображать, в чем тут дело, крестьяне в ближайших селах тоже.
Знаменитые жилищные товарищества и управдомы после того, как повыгоняли всю интеллигенцию, заменили ее всех сортов неучами, – сделались очагом раздоров и возмутительного произвола. Умнейший и хитрейший человек их изобрел, так как более удачно насадить гражданскую войну для вящего торжества советской власти в каждом доме – мудрено. И ведь в каждом жилищном комитете существуют знаменитые «тройки» от ГПУ.
Никому, даже ребенку в постель сделать, и то втихомолку нельзя, все известно, о каждом шаге все доносится, каждое слово и движение взвешивать нужно. Противно и тошно жить при сознании, что в Отечестве нашем такая масса подленьких, дрянных людишек! А расфранченные, раздушенные дамы и хлыщи, служащие в ГПУ!..
Да разве ж можно было в прежнее время додуматься до такого ужаса, догадаться, что живем мы среди такой мерзкой публики! Но нужно сказать, что когда ГПУ в последнее время стало насильно массами вербовать своих агентов-осведомителей, то находились и исключения.
В зиму 1924/25 года ко мне раз пять или шесть прибегали в ужасе молодые люди, мужья с женами и т. д. Рассказывали они, что им ставят условия жизни или смерти, в лучшем случае ссылки, требуя стать агентами ГПУ. Я успокаивал их насколько мог. И нужно сказать правду, что, очевидно, это была уловка только, проба! Их оставляли потом в покое, когда они решительно отказывались от этой комбинации. А другие трусили, шли на эту удочку, а потом втягивались в сладкое житье и душили в себе совесть.
Отвлекшись в сторону и перечитывая последние страницы, вижу, что я совсем не коснулся большого события зимы 1924 года – смерти Ленина. Но дело в том, что лично меня это событие совершенно не коснулось. Ни на каких демонстрациях по поводу этой смерти я не был. Я только сидел дома, на службу не ездил, морозы были большие. По вечерам ко мне, как всегда, стекалась публика, и я слушал все рассказы и впечатления ее.
Возмутительных, преступных выходок со стороны большевиков было без конца. Детей замораживали и простужали, держа целыми часами на улицах в шеренгах, в очереди на поклонение «Ильичу». Гнали всех силком, и военных, и гражданских служащих. С риском потери службы и ареста люди шли поклониться новоявленным мощам. Но ругались, чертыхались, проклинали этого «Ильича» до полнейшего скандала. И агенты ГПУ, и милицейские, все одинаково с буржуями и бывшими людьми, все замерзали на улицах и ругались:
– Вот не вовремя сдох, черт бы его побрал! – так и слышалось ото всех одинаково. На стенах ночью появлялись всевозможные стихи, и пасквили, и остроты. Об этом обо всем большевики не писали в своих газетах, а лгали без конца, преувеличивая, раздувая его популярность и значение[170]. И нужно признать, что сила внушения и гипноза сыграла большую роль. Подряд ежедневно, с тех пор по сей день, долбят, кричат, вопят на всех углах, во всех газетах, журналах и книгах, во всех магазинах, собраниях – портреты, стихи, статьи, речи… Многие люди слушали-слушали и в конце концов поверили.
В газетах читают и другим рассказывают: «Все граждане готовы были замерзать по шести часов на улице, только бы поклониться праху великого вождя». И теперь неинтеллигентный люд освоился с этим, привыкли люди к мысли, что Ленин – великий человек. Народ заставили поверить, что «Ильич» – это их защитник и спаситель. Я, по крайней мере, совершенно поражен, почему его считают великим человеком.
Идеи его, в сущности, не его, а мировые, давно известные истины, он ловко компилировал и красноречиво выхватывал понемногу от всех мудрецов и философов, живших до него. Идеи, что и говорить, великие, но неприменимые к повседневной, реальной жизни нынешнего человечества. То же, что принадлежало лично ему: «Грабь награбленное» или «Всякая кухарка может управлять государством», – это или преступление, или детская нелепость.
Ему везло, он ловко попал, вовремя появился, когда почва была подготовлена, и, кроме того, – он был нужен! И императору Вильгельму, для разрушения нашей армии, и врагам христианства, и большевикам, и коммунистам, и просто аферистам. Он многим в то время был необходим, чтобы заварить кашу, которую Россия еще многие годы не расхлебает.
Денег у правительства для русских нужд нет, а не только на сногсшибательное лечение, с выписыванием мировых светил медицинских, прилетающих на аэропланах, и похороны, а еще на мавзолей и паноптикумы, т. е. восковую куклу его. Какая масса денег ушла! Недаром недавно баба одна, жена рабочего, подняла скандал и крик за то, что жалованье больному ее мужу не выдавали:
– Вы нас голодом морите, а сколько миллионов на свою падаль потратили, черт бы вас подрал с вашим «Ильичом»…
Ее, однако, не арестовали.
Анекдотов столько рассказывалось, что, вероятно, со временем целая книга выйдет их. Бывали очень остроумные. Мне запомнился рассказ, как старуху одну просвещали:
– Ильич умер, а идеи его живы!
– Ох, батюшка, то-то и беда, что он-то помер, а иудеи-то его остались живы!
Вот тут-то весь корень зла, и ничего с этим не поделаешь. Это слишком глубокая мысль, и в этом разберется только следующее незараженное поколение.
Врагам Христа Ленин необходим будет еще долго, и сообразно с этим рекламировать они его будут по-своему усмотрению, так как антихристианство «Ильича» всем очевидно, если только он не был чьим-то слепым орудием…
Ко мне являлись в те дни журналисты и просили и меня сказать что-нибудь о Ленине.
– Да я его не знаю, никогда не видал!
– Ну все же, хоть словечко! – не отставали они от меня.
Я написал: «Я по своим убеждениям националист, но относился с уважением к широким идеям покойного. Я никогда его не видел, никогда с ним не говорил, имел дело во время своей службы только с Л. Д. Троцким, С С. Каменевым и П. П. Лебедевым. Я ценил возможность работать на пользу русского народа, невзирая на то, что не принадлежал к политической партии Ленина, так как во всю мою долгую жизнь я никогда политикой не занимался, это не моя сфера.
Я признаю заслугой его и его партии то, что под каким бы то ни было названием Россия не была расчленена и осталась единой, за исключением нескольких западных губерний, которые рано или поздно должны будут с нею вновь соединиться. Совершенно очевидно, что при дряблом Временном правительстве этого никогда не могло бы быть!..»
Но этой крохотной заметкой, вероятно, остались недовольны, так как она в печать не попала… и тем лучше!
Вот все, что вспомнил об этом времени. «Организовывать не соорганизованных масс» мне не приходилось, и я стоял вне всей этой шумихи. А это выражение, насмешившее меня, принадлежит одному юнцу, которому вместе с другими «товарищами» дали такое невыполнимое поручение во время похорон «Ильича». Юнец, бедняга, замерз, охрип, но ничего у него не вышло, и он забрел к нам, где его моя жена отпаивала чаем.
А теперь рассказывают, будто на спиритических сеансах Ленин сообщает, что за ним Петр Великий с дубинкой гоняется и что он умоляет вновь переименовать Ленинград в Петроград; что душа есть и загробный мир существует. И грустно, и смешно от всех этих глупостей, вернее трагических нелепостей, которыми тешились москвичи.
Да как не смеяться: вон, поэт современный Есенин в пьяном виде, говорят, подал правительству прошение о том, чтобы все сочинения А. С. Пушкина подписывались его именем, основанием чего указывал на переименование Петрограда в Ленинград. Это, конечно, логика одна!
Ведь большей нелепости никто никогда с сотворения мира придумать не мог.
Конец 1924 года и весь 1925 год я сильно болел. В такой мере мне было скверно, что весной 1924 года, после того, как мы похоронили Ростислава[171], жена стала волноваться за меня и выхлопотала для меня с нею отдых в санатории «Узкое». Это вот в чем дело: Комитет улучшения быта ученых (КУБУ) – прекраснейшее учреждение, одна из светлых точек на темном фоне большевизма. Множество прежних людей: профессоров, артистов, художников, писателей, учителей, преподавательниц находили поддержку материальную (выдавались небольшие пенсии), отдых и заботу о повседневных их мелочах жизни в этом учреждении.
Я знаю, что есть два санатория под Москвой и еще в Крыму и на Кавказе. Кто инициатор этого дела, не сумею сказать (кажется, средства частью от американцев идут), но знаю, что санаторий «Узкое» – это образцовое учреждение. Это бывшее имение князя П. Н. Трубецкого. Когда-то в нем жил и умер Владимир Сергеевич Соловьев[172].
Фантомы прошлого витают в этом громадном доме. Чудный парк, пруды, прогулки в лесах и полях самые разнообразные. В доме библиотека, большая зала, гостиная. Для молодежи теннис, кегли, для любителей – бильярд. Кормили нас прекрасно. Забот и внимания мы видели со стороны заведующих, доктора, всего персонала бесконечно много. После многих лет революционной тирании, когда жены наши должны были сами готовить, стирать, убирать комнаты, конечно, такой культурный угол, как этот санаторий, нам показался раем земным и дал много отдыха.
Я очень окреп и поправился за тот месяц, что мы провели там. Постоянные лекции, концерты, всевозможные развлечения чередовались ежедневно. И, что очень было приятно, что одновременно с нами было много милых, симпатичных, талантливых, глубоко образованных людей. Со многими мы продолжали видеться и в городе всю зиму.
Но наши с ними совместные прогулки и долгие беседы дали и мне, и жене много нравственного удовлетворения. Мы сохраним память о них самую добрую. Конечно, много значит и то, что с этими людьми у нас было общее огромное горе за Россию и общие личные переживания в эти годы.
Как-то перед самым отъездом в «Узкое» по телефону меня попросили какие-то представители какого-то благотворительного общества, как я понял, принять их. Я отвечал, что «милости просим, приезжайте!». Я был уверен, что вопрос идет о десяти рублях или о чем-нибудь в этом роде.
И так как мне только что сообщили, что и я и жена моя приглашаемся в санаторий на целый месяц, совершенно бесплатно, то и подумал, что не грех мне, в свою очередь, дать несколько рублей в пользу доброго дела. В назначенный час явились двое молодых людей. Они пояснили мне, что они основывают «Общество помощи жертвам интервенции» и просили меня записаться членом этого общества. Я отвечал согласием и спросил, сколько мне надо внести для этого.
– Всего один рубль, но об этом не стоит говорить… Нам важно ваше имя и мы очень просим вас быть членом комитета.
Тут вошла жена и решительно запротестовала, заявив, что врачи мне предписали полный покой, что я серьезно болен, еду в санаторий и т. д. и т. д. Но они не успокоились:
– Помилуйте, мы беспокоить вашего супруга не будем, нам только нужно, чтобы его имя было в нашем правлении.
Тут уж и я запротестовал, мне мелькнула мысль, что уж не «для радио» ли это опять?
– Простите, пожалуйста, но я привык всякое дело делать так, чтобы не одно мое имя было в нем, но и работа. Жена права, я болен. Погодите немного, может быть, окрепну, вникну, что это за общество будет у вас, и тогда посмотрим…
Еле-еле мы от них отвязались. Но прошло несколько дней, мы отдыхали в санатории, газет не читали. К нам как-то приехала на два дня сестра жены и привезла номер «Известий» (кажется, от 30 июня или несколькими днями позднее), в которых было напечатано, будто я был на собрании комитета «Общества помощи жертвам интервенции», что состою одним из членов-учредителей его и что общество это будет требовать от «Антанты и белогвардейцев» возмещения всех убытков от их злодейств (у красных будто злодейств как не бывало!!!) – и тому подобная тенденциозная, специфически большевистская ложь.
Мы с женой показывали этот номер газеты всем в санатории, ведь все там знали, что я в этот день и все это время был там и в Москву не ездил, и что все это вранье. Мы посмеялись тогда еще одной нахальной выходке со стороны этих наших всероссийских заправил последнего времени, но ведь те, кто читал это и не знал, что все это ложь про меня, опять были введены в заблуждение.
Я было думал послать опровержение в газеты, да потом махнул рукой – все равно не напечатают. Бедный патриарх Тихон как-то говорил моей жене: «У нас одна участь с вашим мужем: травят и лгут на нас со всех сторон, кто и что захочет. Ну а поди-ка, докажи, что это не так и ничего подобного не было!..»
Да, бедный наш святейший, затравленный, замученный. Всех близких ему, действительно преданных, имеющих громадную популярность и значение для православных людей и вместе с тем для него самого бывших нравственной поддержкой, всех повысылали, кого на Соловки, кого в Нарымский или Туруханский край, а кого гноят в тюрьме; а кого и попросту поубивали. Его верный человек келейник Яков был убит налетом бандитов, будто бы желавших украсть шубы.
Это ложь, все это было подтасовано, все это устроили бандиты из ГПУ; и никаких шуб им не надо было, а Яков им во многом мешал, они хотели поместить около патриарха в самую интимную жизнь своего человека, а Яков был не их и не шел им навстречу. Он ведь еще с Америки, лет 30 был при Тихоне. Митрополит Илларион давно уже был сослан на Соловки, епископ Феодор, из Даниловского монастыря, томился в тюрьме, протоиерей Александр Хотовицкий – в Нарымском крае, и т. д. и т. д.
Властвовало красное духовенство, вернее беспринципные негодяи, ни в Бога, ни в черта не верящие, а делавшие выгодное ремесло из религии. Я знал, что и прежде в православной церкви были такие подленькие душонки, но что их так много – не подозревал! Когда всевозможные мракобесы и кликуши новой церкви течением времени были сведены со сцены и большевики поняли, что из этой их ставки на Введенского, Красницкого и К° ничего не выйдет, народ за ними не пойдет, то они создали Синод и через свою всемогущую прессу старались внушить всем, что все обстоит по-прежнему и Синод их – совсем настоящий Синод!
Но и тут ничего не вышло. Раскол продолжался. Печатались всякие письма и воззвания за подписью патриарха, иногда только искажая смысл того, что он хотел сказать, иногда и вовсе выдумывая и фабрикуя их в своей собственной канцелярии на Лубянке. Господин Тучков из ГПУ (не знаю, кто он – русский или иностранец, но негодяй первой пробы) много повинный перед бедным патриархом Тихоном.
В Москве почти все не верили и поклепам, и небылицам о нем. Все шли за Тихоном. И в церквах, в которых он служил, всегда были тысячи народу. Это был как бы молчаливый протест общества и народа. Но в далекой провинции много православных людей сильно были смущены этими проделками негодяев, желавших дискредитировать имя патриарха.
Из нового юродствующего духовенства, мне говорили, что епископ Антонин был лучше других, честнее, умнее, искреннее. Я слышал, что он давно был ненормальным человеком и еще до войны лечился в психиатрической больнице. О нем я помню два рассказа, которые настолько забавны, что мне хочется их записать. Первый: рассказывали, когда патриарха только что освободили из заключения и весь народ кинулся к нему с полным доверием и почитанием, Антонин рассердился, поехал к Калинину и говорит:
– Что же это вы делаете? Велели мне насаждать новую церковь, а сами патриарха выпустили! Неразвитой народ так и прет за ним!..
– Да не все ли нам равно, – будто бы ответил ему Калинин, – надоела нам эта возня и захотелось сделать эксперимент, что из этого произойдет. За кем больше пойдут, за вами – или за Тихоном?!.
Антонин уж совсем рассердился: