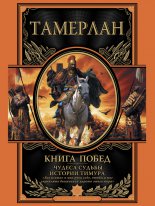Мои воспоминания. Брусиловский прорыв Брусилов Алексей

– А, вот как! Так если вы такие любители рискованных опытов, экспериментов, как вы изволите выражаться, отчего же вы не выпишете великого князя Николая Николаевича, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, за кем народ хлынет? За ним или за вами?!
Товарищ Калинин, вероятно, не сумел ему ответить на этот вопрос, если вообще этот разговор и впрямь был.
А второй рассказ об Антонине следующий. Как-то Луначарский на каком-то диспуте два часа доказывал, что Бога нет, души нет, все это поповские сказки для сбора денег. И закончил оратор свою веселую речь следующими словами: «И вот, товарищи, весь мир я изъездил, где я только не был, и в Европе, и в Америке, и в Африке – и нигде я души не встречал».
Антонин попросил слова, ему дали десять минут, он и говорит: «Очень занятно было слушать талантливую лекцию товарища Луначарского, только вот когда он помрет, начнут его анатомировать и все найдут: и сердце, и печенку, и почки, и кишочки, и косточки, и мозги, ну а вот ума-то его, несомненно существующего… и не найдут! Это как души он нигде не встретил, так и ума у него не найдется». Остроумный епископ наш Антонин, жаль только, что еретик.
Насчет их антибожеских диспутов рассказывал один весьма назидательный случай. Как-то на Пасхальной неделе несколько ораторов подряд несколько часов пространно доказывали, что не только никто не воскресал, но и никого даже подобного Христу и на свете не бывало.
Казалось, убедили публику своим красноречием, были очень довольны собою, никто им возражать не решался. Только под самый конец попросил слова старенький, маленький, худенький попик, пробирающийся из задних рядов. Ему дали, милостиво, за отсутствием времени, пять минут. Он взошел на кафедру, поклонился поясным поклоном и громко сказал только два слова:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес! – загудела, как один человек, могущественно, единодушно, величественно, вся громадная аудитория.
Убедили!.. Я это к тому рассказал, что глубоко верую и твердо знаю, что не этим сатанинским пигмеям вытравить Веру Христову из нас. Повторяю: одно поколение испакостить они смогут. А больше им ничего не удастся!
С осени 1924 года я стал болеть, затяжная инфлуэнция с осложнениями, главное бронхит меня мучил. Не выходил я из дому около двух месяцев. Нервы расходились сильно. По правде сказать, измучился я вопросом: как быть? Как спасти Россию? Где выход? И вот, в это самое время явился ко мне новый провокатор и сильно взволновал меня. Раньше их несколько было, а один так подряд несколько лет, как только случались какие-либо осложнения на горизонте, сейчас же являлся ко мне с разными вопросами.
Но почти всех этих молодчиков я разгадывал сразу. Теперь пришел молодой человек. Звонков у нас нет, все стучат на разные лады. Услышав очень робкий стук в передней, жена отворила дверь. Молодой человек, по виду крестьянин, очень бледный и симпатичный, спрашивает меня. Она говорит, что меня нет дома. Я вышел пройтись.
– Вот передайте письмо. Оно очень важное.
– От кого?
– От Алексея.
Жена чуть не лишилась чувств, так как подумала, что от моего сына Алексея, давно пропавшего. Взглянув на почерк, она сразу убедилась, что ошиблась.
– От какого Алексея?
– От наследника цесаревича.
– Господи! Что вы говорите, он давно убит.
– Это неправда. Мы его скрываем. Это у вас в городе верят, а крестьяне знают, что это неправда.
– И что же, они все живы?
– Нет, – государь, государыня, Татьяна, Мария – эти убиты, а Алексей, Анастасия и Ольга живы.
Жена моя стала читать письмо и у нее окончательно подкосились ноги.
«Алексей Алексеевич, дорогой крестный мой…»
– Почему крестный?
– Он и отца моего так зовет. Вся Маньчжурская армия его крестила в Японскую войну. Государь тогда всех их крестными отцами к сыну родившемуся назначил…
– Да, это правда, я помню. Но мой муж в Маньчжурской кампании не был.
– Этого Алексей может не знать, он младенцем в то время был.
– Да, это верно! – согласилась жена, и продолжала читать письмо. Почерк мелкий, вполне интеллигентный.
«Алексей Алексеевич, дорогой крестный мой, сообщаю Вам, что я жив и здоров, чего и Вам желаю, но нахожусь в самом плохом положении, и просьба моя не оставить меня, но боюсь дать Вам адрес, если Вы меня совершенно можете погубить навсегда. Но я надеюсь на Вас, как на папу, что Вы выручите мое проклятое имя Алексей.
Сестра Оля жива, если хотите, поговорите с подателем сего, но не делайте ему зла, и он Вам все расскажет. До свидания, слезно плачу, что нет среди меня никого. Жду ответа и помощи. Алексей. 6.XII.24 г. Хотя бы на этой бумажке напишите мне ответ».
– Он пишет по новой орфографии! – заметила жена.
– Это я его научил. Он по-английски и по-французски лучше умел писать, а по-русски плохо. Я его учил.
«“Слезно плачу, что нет среди меня никого – прямой перевод “ mon milieu”», – подумала жена.
– А где же он живет? Расскажите подробно.
– Живет у нас, в избе моего отца. Мы два года его скрываем, говорим, из беженцев застрявший – сирота. Кроме нас еще одна только семья в селе знает, кто он, и в Казани еще один человек знает.
– А как же ваш адрес?
– Село Алаты, Арского кантона, Казанская губерния. Зовут отца моего Аркадий Александрович Гохов.
– Как же он к вам попал?
– Их выкрали и увезли перед самым тем временем, как решено было их всех убить. Вот комиссар и испугался, что их всех увезут, и в ту же ночь поспешил всех остальных убить. И убили. Там была организация, поручик Варатуев выкрал Алексея и Анастасию, а Ольга раньше убежала. Алексей и Анастасия долго жили у Варатуева, он тамошний помещик. А погодя стало опасно их вместе держать. Анастасию устроили у одних людей в Самарской губернии, город Мелекесс.
А за Алексеем отец ездил и привез к нам, так как у нас глушь большая и не опасно. Он с Варатуевым давно дело имел, медом торговал. Алексей был сильно болен тогда, кровь шла, мы думали, что помрет. Но выжил, и с тех пор два года как у нас, ни разу не болел, окреп. А отец все беспокоится, что пища у нас простая, грубая.
– А Ольга где?
– Она в Казани под именем Александры Ильинишны Саратовой, мещанки из Баку, в доме для психически расстроенных, 5-е отделение. Мы с Алексеем были у нее, они узнали друг друга, очень обрадовались. Там заведующий лечебницей Гринберг знает, кто она, и знает, что она здорова, но там помещена для ее же безопасости. А когда следствие было по доносу и допрос, она отказывалась, отрицала, что она Ольга…
Жена моя все это слушала и не знала, что думать. Просила его зайти на другой день в час, когда мы все будем дома. Сестра ее вышла к нему, и тоже страшно взволновалась, но сразу стала говорить, что это провокатор, что он все врет. А жена находила, что все его рассказы очень последовательны и правдоподобны.
Когда я вернулся домой, все это выслушал и прочел письмо, то, вероятнее всего от того, что это было бы спасением для России, единственный выход из этого тупика, куда ее завели большевики, я страшно взволновался и обрадовался – и ждал его прихода на другой день с нетерпением.
На следующее утро этот Гохов звонил по телефону, что его обокрали, что он придет позднее, так как должен хлопотать по делу покражи. Это уж мне показалось подозрительным, ибо прием для вымогательства денег, рассказы о потере или покраже денег, мне хорошо и давно известен среди солдат. Но все же ждал его, и мысль о том, что Алексей Николаевич, если он жив, – теперь законный наш император, не оставляла меня. Мы все ждали его с нетерпением. Я обдумал каждое свое слово, которое скажу ему на случай, если он провокатор. И, когда он пришел, я сказал ему приблизительно следующее:
– Вы хорошо понимаете, что теперь монархия никому нежелательна, и если даже вы и правду говорите, и сами не ошибаетесь, или вас самих не ввели в заблуждение и это действительный Алексей Николаевич живет у вашего отца, то я лично могу отнестись к нему только как к глубоко несчастному сироте и постараться помочь ему уехать к родным его за границу. Может быть, даже с помощью властей, а не потихоньку!
Он испуганно взглянул на меня.
– Это никак невозможно, нас всех погубят за укрывательство…
– Ну хорошо, быть может вы и правы, попробуем сделать для него что-либо, что его спасет, а вас не погубит…
На этом мы и решили, что будем думать, и я сообщу его отцу, когда будет возможно приехать за Алексеем Николаевичем. Он ушел. Денег не просил. Казалось все очень правдоподобно. Я вызвал Владимира Сергеевича Воротникова, спросил его, как он думает, что делать?
Я пригласил его, потому что знал его мысли и убеждения, слышал от него много раз, что у него существует целая организация противоправительственная, что они ждут только, когда пробьет нужный час, чтобы им действовать, что они все на меня надеются, но не затягивают меня пока в это дело, боясь за меня и оберегая меня. Иногда я ему верил, иногда мне казалось, что он все сочиняет… Но в этот раз я подумал, что это будет хорошая проверка, на что способен этот человек и можно ли ему верить. Поэтому я очень обрадовался, увидев, как он воодушевился и сразу решился.
– Я сам поеду туда, это необходимо доподлинно проверить, ведь это же такое счастье, если наследник жив!..
Мы все обдумали. В Москве ведь живет Сергей Петрович Федоров – лейб-хирург, лечивший Алексея Николаевича; он должен подтвердить нам, что это он, а не самозванец: ведь за эти годы он мог так измениться, что нам, видевшим его мимолетно, его и не узнать. Материальная сторона была труднее всего. Где взять денег, чтобы переправить его за границу? Призвал я Владимира Васильевича Рожкова. Он сказал, что не верит такому счастью, но денег достанет столько, сколько нужно будет…
И вот обрядился Воротников в большие сапоги, в косоворотку и в короткую крестьянскую теплую куртку и поехал в Казанскую губернию на поиски: правда все это или ложь…
На тот случай, если бы все это была провокационная ловушка и он там нарвался бы на чекистов, жена написала отцу Гохова следующее письмо.
«Аркадий Александрович! Ваш сын недавно передал нам письмо на имя моего мужа от лица, давно убитого. По поручению Алексея Алексеевича пишу Вам, чтобы Вы были осторожны и понаблюдали бы за вашим сыном. Вероятно, он болен и его поступки и рассказы чисто бредового характера.
Я говорила Вашему сыну, что никто из нас не сделает ему зла, но невольно приходит в голову, что он может погубить себя, и всю свою семью, и все село. Он настолько симпатичен, что мне глубоко жаль его. Все знают, что муж мой горячо любит русский народ и сделать горе семье русского крестьянина ему было бы очень тяжело. Поэтому только он позволил мне написать Вам в целях предупреждения большего и совершенно излишнего кровопролития.
Не пускайте Вашего сына путешествовать по железным дорогам с такими письмами. Он может его потерять; или вот, он рассказывал нам, что его обокрали. Ведь случись это днем раньше, то и письмо, привезенное им, могло попасть в чужие руки. Я много думаю о Вашем сыне: если это письмо не им самим написано, под влиянием душевной болезни, а есть еще лицо, которое он называет именем убитого, – значит, тут дело идет об очевидном самозванце и это очень опасное и серьезное дело.
Повторяю, боясь большого горя для семьи русских крестьян, мы пользуемся тем, что наш знакомый, которому мы вполне верим, едет по делам кооператива в вашу сторону. Благодаря этому, я могу избегнуть почты. Мы его просим заехать к Вам и обсудить вместе с Вами все это дело, помочь Вам в таком серьезном вопросе: как лечить Вашего сына или как обезвредить того, кто называется именем убитого.
Вы вполне можете верить Владимиру Сергеевичу Воротникову. Он, как и мы, не сделает Вам вреда или горя, но только расспросив Вас обо всем подробно, вернувшись, расскажет нам в чем дело и мы обсудим: сможем ли своими силами предотвратить большую смуту народную, или нужно будет обратиться к официальной правительственной помощи? Последнее очень нежелательно, ввиду возможной большой опасности для Вашей семьи. Ибо за укрывательство не похвалят, это и Ваш сын сказал. Нужно постараться никому горя не делать, ибо мы были всю жизнь христианами – таковыми и умрем.
Помогай Вам Бог во всем. Надежда Брусилова».
Итак, моя жена и весь семейный и дружеский совет полагали, что всякие чекисты или агенты ГПУ из этого письма увидели бы, что ни мы, ни Воротников не допускаем мысли, что наследник жив. А что нас он интересует только со стороны возможности самозванца. Я же, по правде сказать, сильно надеялся, что это и есть Алексей Николаевич и что мы переправим его за границу, все наладим для свержения захватчиков – наглецов, царящих произвольно на Руси.
Больше недели отсутствовал Воротников, и вернулся очень огорченный. Оказалось, что никакого старика солдата Гохова нет и не было в селе, а есть заезжий «Аркашка», по выражению местных крестьян, служит в местном ГПУ, пишет крестьянам прошения и вообще всякими делами занимается.
Владимир Сергеевич раздобыл даже одно из прошений, написанных его рукой, и почерк оказался тот же, как и в письме, которое он выдавал за письмо наследника. Все его рассказы – ложь. Эдакий негодяй! Во всей этой истории одна хорошая сторона дела – это то, что я убедился в том, что Владимир Сергеевич Воротников, при всех своих недостатках, человек сильный духом и знает, чего хочет. Про него рассказывают много всяких некрасивых вещей, да и в семейной жизни, лично мне известной, похвалить его мудрено.
Но я знаю, что он много помогал обездоленным революцией русским людям, офицерам, духовенству. Рядом с этим кормил и поил множество своих знакомых, заказывал обеды и ужины с закусками и винами и ликерами. Когда у многих, и у нас первых, кроме мороженой картошки и куска, вернее корки сухой, черного хлеба, ничего не было.
Откуда он брал деньги?!
Он занимался всевозможными подрядами и коммерческими делами, и, говорят, не вполне чисто. Когда жена моя в моем присутствии спросила его об этом, он очень откровенно воскликнул:
– Ах, знаете ли, сколько бы большевиков ни надувать – они всегда у нас в долгу останутся. Они нас разорили, они искалечили нам жизнь, а мы будем с ними церемониться?
– Да не с ними, Владимир Сергеевич, а с самим собою! Мало ли что, если они подлецы, так разве можно уподобляться им и себя так унижать!
– Может быть, вы и правы, но у меня за время большевизма совершенно перевернулось мировоззрение и моя психология стала иная. У меня нет другого оружия, они мне гадость, я им вдвое…
Тогда я замял этот щекотливый разговор, он мне был неприятен по той причине, что из нас большевики не вышибли еще азбучных нравственных правил, но напоминать о них взрослому человеку было неудобно.
Вообще в нашем кругу люди скандально распустились. Дамы и барышни говорят такие слова и выражения, слушают такие анекдоты, которые в прежнее время никто бы не позволил себе произнести или рассказать даже в присутствии жены. Появилась манера называть друг друга в обществе маленькими именами, говорить друг другу «ты», чуть ли не с первого знакомства. Сходятся и расходятся с женами и любовницами, именуемыми тоже женами, как перчатки меняют.
Вот эта легкость взглядов и манер породила полную бесцеремонность и в делах. За что прежде исключали из полков, не принимали в порядочные дома – теперь считается чуть ли не геройством каким-то. И Воротников, говоря моей жене: «Они мне делают гадость, а я им вдвое!», незаметно для себя стал делать весьма некрасивые вещи, покатился по наклонной плоскости; сидел несколько раз в тюрьме, его судили, но оправдывали и выпускали.
Убил любовника своей жены, сам ей изменял самым откровенным образом. Но я его все же любил. Меня безотчетно влекло к нему. Собеседник, как умный и начитанный человек, он был незаменимый. И вот, в этой истории с провокатором, на него одного я мог положиться и он один выполнил мое поручение осторожно, умно, безбоязненно. Когда мне понадобилась серьезная услуга, с большим риском для него, я не усомнился к нему обратиться.
Он рвется за границу, мечтая собрать около себя движение эмигрантской молодежи против большевиков. Мечтает спасти Россию, свергнув их[173]. Боюсь, что он может ошибиться, так как громадное большинство русских юношей за границей, несущих тяжелый физический труд ради куска хлеба, изболевшихся голодухой и отчаянием, тоской по Родине, безвестно вымирает, а в них-то и должен быть настоящий русский дух, который нам нужен для будущей России; но, к сожалению, я их никого не видел, не мог с ними говорить, не мог им ничем помочь… И это мне горько.
Возвращаясь к прошлому году, не могу не упомянуть, что был тронут вниманием Н. Муралова. До назначения мне пенсии я очень нуждался. Узнав об этом, он очень сочувственно отнесся к этому и стал хлопотать о скорейшей выдаче пенсии. А потом, перед своим отъездом в Ростов, был у меня и беседовал по поводу многих современных осложнений; и у меня получилось такое впечатление, что он горой стоит за Троцкого и, вероятно, и его удаляют из Москвы, как «троцкиста», по крылатому выражению.
Да, в сущности, Троцкий по энергии, уму и организаторским способностям, конечно, выдающийся человек. Я этого Муралову не сказал, но вниманием его был тронут. Видя меня больным, он стал настаивать, чтобы мне с женой поехать в Кисловодск лечиться; и через несколько дней я узнал, что он действительно возбудил этот вопрос в штабе. Меня известили, что я и жена должны были пойти на освидетельствование врачей в госпиталь. Это оказался госпиталь, который помещался в реквизированной лечебнице доктора С. М. Руднева, в которой я когда-то пролежал восемь месяцев.
Грустно мне было в нее войти, невольно вспомнилось, как много в то время у меня еще было надежд и иллюзий насчет России… Господа доктора и персонал нынешнего госпиталя не потрудились даже ни мне, ни моей жене дать стула, и заставили ждать около двух часов в прихожей, на сквозняке от постоянно отворяющихся дверей на улицу. Я сильно тогда кашлял. Жена волновалась, уговаривала уйти, но я, придерживаясь своего правила, раз начав какое-либо дело, доводить его до конца, остался.
В конце концов доктора еврейского и армянского типа милостиво нас освидетельствовали и отпустили домой. Через месяц или два прислали бумагу с разрешением мне ехать лечиться в Кисловодск, но без жены. Ей категорически было отказано. Это, вероятно, за то, что она чуть ли не 20 лет, с Японской кампании, не выходила из военных госпиталей и лазаретов, пеклась о раненых солдатах, их женах и детях, создавая разные «Братские помощи», и т. д. и т. д.
При таких условиях я, конечно, на Кавказ не поехал, а удовольствовался только месячным отдыхом в санатории «Узкое». Но эта отсрочка серьезного лечения отозвалась на мне, а еще более на жене моей весьма пагубно. Вся осень и зима прошли у нас в сплошном кошмаре. Я лежал, кашлял, жена покрывалась вся нервной экземой на подагрической и нервной почве, измучившей ее до последней степени. Ближе к весне я стал задумываться – страдания жены слишком были тяжелы. Все доктора в один голос говорили, что если это и пройдет, то опять вернется.
Необходимо радикальное лечение: воды, ванны, массаж, прогулки, воздух, перемена обстановки. Для себя одного я никогда бы не стал ни о чем хлопотать. А тут решился. Тем более решился, что меня на это подбивал очень И. И. Гирса, представитель Чехословацкой республики в Москве. Тут мне нужно сказать несколько слов об этом человеке и его роли в нашей жизни последних лет. Быть может, не все знают, но ведь в Советской России за знакомство с иностранцами арестовывают, а за переписку, самую невинную, с заграницей, с эмигрантами ссылают в самые отдаленные места. И. И. Гирса хорошо знал все порядки советских деятелей, он ведь долго жил в Киеве и большевизм захватил его еще там.
Его арестовывали, держали в разных тюрьмах и лагерях, и он чуть не был однажды расстрелян. Затем, когда молодая Чехословакия вызволила своих граждан из лап диких и озверелых людей, чехи выбрались в свою родную свободную страну, то Гирса тоже очутился на родине. И его-то, как знающего обстановку и положение вещей в СССР, его-то и прислали представителем от Чехословакии в Россию. И это очень остроумно, так как его-то уж не надуют и пыль в глаза не пустят, как это имеют обыкновение делать большевики с иностранцами. И. И. Гирса давно и хорошо знал мою жену по ее благотворительным делам в Подольской губернии.
Во время войны он посылал ей много прекрасных вещей для ее лазаретов от имени братского народа. Я говорил уже ранее, что некий Ф. В. Павловский, чех, застрявший в России и случайно встретивший меня на улице, просил позволения прийти и затем оказывал моей семье много сердечных услуг. Когда он уехал, то как-то прислал посылку из Праги моей жене. Привез ее молодой человек, тоже чех, И. А. Шром. А вслед за тем Шром приехал ко мне уже с И. И. Гирсой. И с тех пор дружба наша стала крепнуть день ото дня. Таинственные визиты его всегда приветствовались у нас самым сердечным образом.
Говорю «таинственные», так как он никогда не приезжал к нам открыто в автомобиле миссии. Он заметал следы за собой, сев в трамвай, потом пересев на извозчика, и в конце концов доходил до нашего дома пешком. Он не хотел подвести меня и не желал компрометировать свою миссию дружбой с «генералом». А я ведь, забавно, остался в России один генерал, и извозчики, и солдаты, и крестьяне – все меня во время революции по-прежнему величали «генералом Брусиловым».
Итак, за последние четыре года раза два в месяц появлялся у нас «Осип Осипович». И всегда со всевозможными услугами и вниманием, и к нам лично, и к нашим родным, друзьям и знакомым. Нужно сказать правду, что ни одна миссия в Москве не пользуется такой популярностью и любовью населения, как чехословацкая. Это, конечно, следствие того, что народ чешский и правительство чрезвычайно широко откликнулись на бедствия русских людей во время революции и голода.
Но и громадная доля этого падает на личность представителя миссии и состава ее. Всегда внимательные, заботливые, вникающие во все мелочи семейные и тем более во всю громадность трагического горя, залившего Россию за это время. Такое впечатление производили все служащие в этой миссии, но, конечно, камертоном задавал тон И. И. Гирса. Тонкий дипломат, очень добрый человек, умный, страстный охотник.
А у меня в семье и я сам, и покойный брат жены Ростислав Яхонтов, и племянник ее Коля Яхонтов[174] – все с детских лет ярые охотники. Семья Яхонтовых на Кавказе известна была среди охотников как лучших стрелков и знатоков охотничьего дела. И вот на этом общем коньке Иосиф Иосифович находил нескончаемые разговоры в моей семье. А тем же временем вел бесконечные беседы с моей женой: кому помочь? Кому послать посылку?
Кому выдавать ежемесячно продовольственную помощь? И жена моя не могла нарадоваться тем, что сотнями стала считать людей, кому ей удалось помочь, благодаря чешской миссии. Вот потому-то и крепились наши добрые отношения, и потому Осип Осипович, видя, насколько я взволнован состоянием здоровья моей жены, а она моим, и стал говорить, что Карлсбад-то теперь их, чешский[175], и нужно непременно туда ехать нам всем. Сестра моей жены, Елена Владимировна, также сильно изболелась за эти годы, и оставлять ее мы не могли бы по многим причинам.
Итак, после многих размышлений, пошел я к Фрунзе, который, как известно, стоит во главе военного дела, после отъезда Троцкого. Мои все близкие и друзья утверждали, что меня не выпустят за границу и только арестуют, если я об этом заговорю. Но я все-таки решился. М. В. Фрунзе, по моему впечатлению, очень удивился… Но выразил полное сочувствие и желание помочь:
– Вы понимаете, Алексей Алексеевич, что это от меня не зависит, я должен доложить Совнаркому.
– Ну и доложите.
– А вы дадите мне честное слово, что вернетесь, что будете только лечиться?
Я подумал минуту и ответил:
– Да, конечно, дам вам слово.
– А если мы вам дадим какое-либо поручение?
Это уже было хуже. Бросать Отечество, народ, всех родных, друзей, единомышленников, родные церкви и кладбища – нет, я не мог бы сделать никогда. Но брать поручение от правительства, которое мне чуждо, которое, на мой взгляд, преступно – нет, этого я также не мог бы, не был в состоянии.
Сам Фрунзе и некоторые другие мне внушали симпатию и казались мне идейными, хотя и заблуждающимися, людьми, но все правительство большевиков – это для меня такой ужас и горе, что для них брать на себя какое-либо поручение в Европу не было мне под силу. Но что же делать, как выйти из этого положения? Я отвечал:
– Отчего же, возьму. Но ведь я стар и болен, и еду только для того, чтобы лечиться и лечить совсем больную жену!..
Вероятно, умный Фрунзе понял, в чем дело, ибо, слава Богу, никакого поручения мне не дали, ибо тогда нам не пришлось бы и ехать.
– А деньги у вас есть, чтобы ехать? – спросил он тогда же.
– Я прошу дать мне пенсию за три месяца вперед.
На это Фрунзе дал свое согласие. Через несколько дней мне принесли 900 рублей и еще единовременно на лечение 1000 рублей. От продажи ковров у меня было около 500 рублей. И вот все. Я понятия не имел о дороговизне в Европе, а судя по старым воспоминаниям довоенного времени решился выехать с такими маленькими средствами. И. И. Гирса мне передал от своего правительства «добро пожаловать», и я поехал.
Это были как раз те дни, когда приключился скандал в Польше с убийством Вечеркевича и Богинского. Как всегда, пресса у большевиков в таких случаях была сильно возбуждена и в Москве многие очень волновались вопросом, как это я решаюсь ехать через Польшу в такое время, тем более что поляки меня «ненавидят» за то, что я во время польской войны участвовал в Особом совещании; они могут меня убить!..
Я говорил всем, что поляки сами такие горячие патриоты своего отечества, что ненавидеть меня не могут за то, что я люблю Россию. На вокзале нас провожали многие друзья, а также приехали оба секретаря Фрунзе, Сиротинский и Савин, с добрыми пожеланиями и мне и моей семье. Они оба много хлопотали, чтобы наладить наш отъезд.
Польшу я проехал совершенно благополучно и был даже тронут вниманием многих людей.
Многие кондуктора, полицейские, таможенные чиновники, элегантные дамы и их кавалеры меня узнавали, кланялись или отдавали честь.
На одной из таможен служащий не стал открывать наших вещей и что-то говорил по-польски, мы не поняли, а какая-то женщина, рядом стоявшая, ломаным русским языком объяснила:
– Он говорит, что генерал много беспокоя у себя дома видал, теперь надо ему покой дать и сундук его не беспокоить!..
А рядом с этим был такой случай: с нами ехало несколько дипломатических курьеров от большевиков, один из них так приставал ко мне с разговорами, что, я думаю, был специально приставлен ко мне для этого. А другие ехали в разные страны, у них было несколько толстых книг. На границе Польши у них все отобрали.
– Но это я лично для себя везу! – протестовал владелец их.
Поляк даже не соблаговолил ему ответить, выразительно махнул рукой и приказал этим жестом своему служащему всю эту литературу изъять.
Я невольно взглянул на заглавие: два тома сочинений Ленина и ежемесячный журнал Бухарина «Большевик». Что за наивный курьер, как мог он думать, что такие книги пропустят через нашу зачумленную границу в культурные спокойные страны.
На вокзале в Праге о нас «любезно» позаботились те же курьеры и предоставили нам автомобиль с красным значком. Это мне было неприятно, так как я и в Москве никогда не ездил с красным значком. Тут же, когда мы уже сидели в автомобиле, к нам подбежал запоздавший молодой человек, присланный от брата И. И. Гирсы нас встретить и отвезти в гостиницу, в которой для нас уже были приготовлены комнаты.
И с этой минуты мы уже не выходили из-под опеки самой дружеской и деликатной, со стороны всех лиц, стоявших во главе Чехословацкой республики с президентом во главе. Прежде всего, приехав в Прагу, я подсчитал свои деньги и сообразил, что не только что лечиться два месяца, но даже прожить несколько недель я не в состоянии буду. Я совершенно не отдавал себе отчета в том, как в Европе после войны все вздорожало.
Но эти мои соображения были преждевременны, так как на третий день моего пребывания в Праге мне министр Гирса, от имени президента, дал сто тысяч крон – и тем было спасено мое положение. Гирса при этом сказал, что за мои победы над австрийцами давно нужно было мне дать от Чехословакии какой-либо орден, но это теперь для меня ни к чему, а деньги нужны. Я был глубоко тронут такой серьезной поддержкой.
Несколько дней, проведенные нами в Праге, показались нам яркой сказкой. Ведь мы семь лет жили в кошмарной обстановке, отвыкли от культурных людей и прежней нормальной жизни. Да и город этот исключительно красивый и симпатичный. Министр иностранных дел Бенеш[176] пригласил нас на очень элегантный, вкусный, прекрасно сервированный завтрак. Боже мой!
После гнилой, мороженой картошки, после всевозможных каш, даже после супа и рисовых котлет последних двух лет, на столе, покрытом старой и потресканной клеенкой, – все эти тонкие блюда, вино, хрусталь, серебро, спокойные, корректные, знающие свое дело лакеи во фраках; все это произвело на нас впечатление, будто мы взяли душистую теплую ванну после длинной и грязной дороги. Сам хозяин, министр Бенеш, умный, много работающий, совсем еще молодой человек.
Жена Бенеша в те дни была в Париже, и мы ее не видели. Эта молодая женщина, как нам говорили, тоже при австрийцах сидела в тюрьме. Мы обедали, много беседовали. Хозяин, его помощник Гирса с женой и нас трое. Они расспрашивали моих словоохотливых дам о наших впечатлениях в России, я же невольно думал о ней. Мне было тяжело по многим причинам, а в особенности потому, что мне только что сказали о кончине патриарха Тихона.
Русская церковь осиротела, и что из этого дальше выйдет, когда и без того такой раскол в ней самой, такое гонение на нее со стороны антихристовых детей, наших правителей! Что с церковью нашей будет?! Очень это для меня тяжелый вопрос. На другой день мы были на панихиде по нем. В церкви было много народу. Но мне было еще тяжелей. Странное впечатление на меня произвело то, что, в сущности, это не православная церковь, а костел; во-вторых, все, и духовенство, и молящиеся русские люди, показались мне более чужими, чем иностранцы-чехи.
Не знаю почему, но что-то неуловимое, какие-то флюиды невидимые, но сильные, стали барьером между нами. И как горячо я вдруг почувствовал, как близки мне все мои друзья, священники, все мои родные, знакомые и сослуживцы, оставшиеся там, мучающиеся, кипящие в революционном котле! О, как они мне все дороги, и какие они настоящие, русские люди, знающие многое и понимающие, закаленные горем и гонениями.
А эти, часто высокомерные, закостенелые в своих отсталых предрассудках, не желающие расставаться со своими прежними эгоистическими взглядами люди, – чужие нам и ненужные России. И когда мысль моя вновь обращалась к эмигрантам, мне хотелось сказать им: «Вы видите, я пришел с вами молиться, я хочу этим сказать, что только вера в распятого Христа, только помощь и милость Его может всех нас спасти…»
Но они с любопытством, а иногда и с высокомерием и злобой смотрели на меня и перешептывались. Я хотел им сказать: «Вы молитесь об упокоении души патриарха, а не знаете его страданий и всего того, что он пережил, вы были далеко, вы бросили его и нас. А наше сердце билось вместе с его сердцем, мы страдали так, как и он страдал. Еще недавно, перед отъездом сюда, мы видели его, и он благословил нас на нашу поездку:
– Поезжайте, набирайтесь сил, поправляйтесь!..
– А что сказать там кому-нибудь от вас, ваше святейшество? Может быть, передать на словах что-нибудь пожелаете?
– Скажите, что я прошу их всех меньше ссориться и больше думать о нас, о всех тех, кто остался на Родине!..»
Вот что мы слышали от него; и теперь, молясь за него вместе с эмигрантами и видя выражение многих их лиц, я понял, как был прав почивший патриарх. Они слишком много ссорятся друг с другом, осуждают ближнего и слишком много мнят о своей правоте, нисколько не допуская мысли о том, что другие, может быть, окажутся перед лицом истории гораздо правее их.
Дня через два я был приглашен вместе с женой и свояченицей к обеду в имение Zany, где постоянно живет президент с семьей. Прекрасный это был день во всех отношениях. Я знал Масарика[177] и раньше, он приезжал во время войны к нам, но в первый раз теперь видел его в новой роли, в новой обстановке. Представительный, разумный, симпатичный человек. Кроме нас и хозяев, т. е. президента Масарика и его дочери, были: министр Бенеш, сын нашего старого знакомого американца Крейна, Джон Крейн, который служит секретарем у Масарика, еще англичанин от Красного Креста и две дамы. И все время я чувствовал себя будто во сне: и замок этот в чудесном лесу, и люди, и обстановка, – я будто просыпался после долгого, страшного сна и вновь видел себя прежним человеком. Жена мне говорила, что я был очень бледен. Немудрено.
Когда мы уезжали, Масарик сошел вниз с лестницы к самому автомобилю и поднял руку, отдавая мне честь, а у ворот караул и несколько солдат и офицеров вытянулись во фронт.
Господь мой!.. Где Россия, где моя страна, прежняя армия?
Вот от чего я был бледен: мне тяжело было приходить в себя и сознавать, что России той, которой я принадлежал и за службу которой меня теперь так чтут, больше не существует!..
Я за обедом у президента им всем сказал, громко и определенно высказал свое глубочайшее убеждение в том, что вся старая Европа и весь мир танцует над пропастью, что наш русский вулкан бурлит и затопит своею лавой весь мир, что надо принимать самые решительные меры против нашей атеистической коммунистической заразы. Я помню взгляд, брошенный на меня одним из министров. «Выжил из ума старик», – прочел я в нем. Будущее покажет, кто был прав…
Нас отвезли в Прагу в том же автомобиле, в котором утром везли к президенту.
В Праге мы еще были у В. И. Гирса, который собрал всех легионеров, бывших в нашу войну под моим начальством, чтобы дать им возможность повидать меня. Все эти генералы и офицеры стремились быть немедленно у меня.
Но Гирса уговорил их не делать этого, чтобы не обратить внимания прессы и вообще не делать шуму около моего имени. Для того чтобы понять все это, нужно вернуться на много лет назад. Дело в том, что когда я был главнокомандующим Юго-Западным фронтом и брал в плен сотни тысяч австрийцев, то среди пленных было много славян – сербов, чехов и т. д. Государь и генерал Алексеев формировали сербские дружины и оказывали им много внимания.
Когда же я захотел покровительствовать чешским дружинам, то Ставка стала препятствовать и даже выражать недоверие к чехам, так как они все-таки австрийцы. Я очень рассердился и отстоял своим поручительством чехов[178]. Это мало кто знал, но, вероятно, это проникло в ряды легионов впоследствии, так как я видел много доблести, храбрости, выдержки во время войны от этого народа, а спустя много лет теперь вижу благодарную память и внимание от всех в этой стране, даже от самых младших легионеров, служащих городовыми на улицах, издали узнающих меня и отдающих мне честь.
Дисциплина и выдержка у этих людей на славу. Итак, целый вечер, за вкусным семейным ужином, в кругу моих старых боевых товарищей-легионеров, для меня был очень отраден. Посветлело на душе от этого радушия и внимания.
В Карлсбад мы поехали на автомобиле Гирсы, любезно нам предоставленном. Нас сопровождал состоящий при министерстве иностранных дел д-р Полячек, очень милый и любезный человек. В Карлсбаде было сумрачно, холодно. После светлой, теплой Праги нам показалось очень жутко, было настолько холодно, что даже шел снег. Уехав туда, мы чуть было не лишились служб Страстной недели и Пасхальной заутрени, так как там не оказалось священника. Церковь была закрыта, колокола и позолота с куполов были сняты еще во время войны с австрийцами. Очень это было печальное зрелище. Мы вернулись на три дня обратно в Прагу, но уже по железной дороге.
Отговелись[179], были у плащаницы и у Пасхальной заутрени. И опять, и опять любопытные и недоброжелательные взгляды, опять странное впечатление от моего присутствия в толпе русских эмигрантов. Знакомых никого, и слава Богу – чересчур грустно было бы их видеть.
В большинстве слишком много реакционеров среди наших эмигрантов, и жить с ними я бы не мог. Они не двигаются. Стоят на месте, они несчастны в своей односторонности. Положение их так ужасно! Ведь жить на счет иностранцев вечно нельзя, в особенности на счет такой маленькой страны, как Чехословакия, у которой и без них много безработных. И многое множество их бедствует, тоскует по России, но не может вернуться. Где выход? Меня гнетет этот вопрос за них, за наших русских эмигрантов, которые меня не любят, но которые мне все-таки дороги, как осколки родной нашей бывшей России, попавшие в такой трагический тупик.
В Карлсбад приехал американец Крейн, о котором я как-то писал. Его дочь замужем за сыном Масарика, а младший сын служит секретарем при нем. Молодой Джон Крейн был у нас в Праге и немедленно телеграфировал отцу в Константинополь, где он в то время был, о нашем приезде. Этот необычайно добрый человек сейчас же приехал в Карлсбад, чтобы с нами свидеться. Мы были этому несказанно рады, в особенности сестра жены, Елена Владимировна, она очень любит и благодарна ему за то, что он в память их старшей сестры, умершей в Нью-Йорке, с которой был очень дружен, оказывает ей много внимания.
Во время голодухи нашей в Москве он посылал ей такую массу продуктов через АРА, что буквально спас ее, нас, наших друзей и родных. Кроме того, моя жена и ее сестра расплачивались с докторами, дантистами, портнихами все теми же продуктами, которые присылал Крейн. И теперь он приехал и сию же минуту стал расспрашивать, что нам нужно, упросил сшить себе и купить платье, обувь, белье – все, что нам нужно, на его счет.
Он и здесь, и в Париже много помогает русским, страстно всегда любил Россию, ее музыку, пение, церковную службу. Путешествуя без конца по всему миру, он 23 раза был в России, сдружился со многими людьми, гостил в имениях около Москвы и Киева. И теперь, со времени революции, усиленно облегчает жизнь многим пострадавшим русским людям. Он очень был дружен вАмерике с патриархом Тихоном, со священником Александром Хотовицким и его женой Марией Владимировной. Он очень любит многих русских художников и музыкантов.
И теперь, здесь, как мы слышали от дочери президента Алисы Масариковой, он помогает ей осуществлять многие начинания ее в пользу эмигрантов. К нему в Карлсбад приезжали графиня В. Н. Бобринская[180] и княгиня Яшвиль, все по тем же вопросам. Мы постоянно приглашались им на обеды в его отель. Общество всегда было самое разноязычное, но всегда люди музыкального, художественного, литературного мира всех стран.
Но в этот вечер, когда у него были Бобринская, Яшвиль и дочь Масарика и много говорили о нуждах и жизни эмигрантов, он нас не пригласил. Конечно, это были хитрости моей жены, она просила его даже скрыть от меня, что они тут были. Не знаю, чего она боится. Но, впрочем, не она одна, ее поддерживали в этом и оба брата Гирсы и Крейн, и все. Они находили, что так как мне необходимо вернуться в Россию, то лучше с эмигрантами не видеться, чтобы большевики не могли придраться ко мне и сделать неприятность по возвращении в Россию.
Все это, может быть, и осторожно, и умно, но я очень сердился в этот раз на мою жену. Она утверждала, что доктора мне предписывали полный покой, а что эти разговоры меня страшно волнуют, и оправдывалась без конца.
Я очень сожалел, что из всех гостей Крейна я русских, кроме сына художника Васнецова, никого не видел, и не по своей вине, и нахожу это очень для себя обидным. Мне нечего бояться большевиков, я ничего против них не затеваю, но лица своего не терял и не хочу терять.
Теперь пришло время, когда пора и мне сказать свое слово (прежде чем умереть), пусть хоть будущая Россия знает, что если я не мог действовать, то всеми своими поступками показывал, что я думаю и чувствую. Я хочу, чтобы знали, как я ждал, что Россия проснется внутри, что нарыв должен созреть и прорваться. Что извне никакими интервенциями ничего не выходит, что хирургически уничтожить этот слишком глубокий нарыв невозможно.
Когда оскорбляли мощи святых, разгоняли монастыри, я все ждал и мучился вопросом: когда же, наконец, народ очнется?! Или его подменили, это не наш русский, верующий народ, или я ошибался в нем? Не знал его? Я хочу, чтобы знали, что теперь, в 1925 году, я увидел свою ошибку, я понял, что такое происходит в России. Если бы я знал, что большевики укрепятся, будут преследовать религию, объявив атеизм своей официальной религией не на пустозвонных плакатах только, как при Керенском, как я это думал в начале революции, – то, конечно, я не стал бы мешать полякам, а напротив, помог бы этому христианскому народу в чем только смог бы!
В то время я еще не понимал, что революции нашей, русской, уже нет, что не она нас прихлопнула окончательно, а дело нахлынуло совсем иное: всемирная борьба антихристианская, желающая уничтожить весь свет Христов во имя тьмы сатанинской. Совершенно для меня ясно, что не только многие большевики, но и множество евреев решительно не знают, в каком тупике очутились, на кого работают![181]
Кто-то верно сказал, что большевики очутились в темной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими руководит, и они сами не знают, кто дает им свои директивы. Не знаю и я, масоны это или сам сатана! Я понял только теперь вполне, как прав был Сергей Нилус[182], как глубоко и верно судил Шмаков, предупреждая нас об опасности. Незадолго до своей смерти, когда я еще был на фронте во время империалистической войны, а жена моя была в Москве, он, больной, задыхающийся одышкой, влез к ней на третий этаж и принес свои книги с трогательной надписью для меня; он просил жену мою переправить мне их, просил вникнуть в глубочайшее значение для России тех фактов и выводов, о которых он говорит в своих сочинениях.
Жена благодарила его, исполнила его просьбу, переслала мне его книги, мне было тогда некогда их читать, да и, кроме того, я давно, по сложившемуся в русской интеллигенции мнению, считал его юродивым и не снисходил до чтения его книг. Старый безумец я, как и безумна вся наша интеллигенция. Мы, сами мы сделали то, что погубило Россию. По беспечности, по глупости и по многим другим причинам, но мы сами все это подготовили. Особенная вина на нас, верующих людях, ибо неверующие – те не понимали многого, а мы, христиане, должны были понимать, «что близко, при дверях»[183], что творится около нас.
Мережковский совершенно прав, утверждая, что либеральная, атеистическая наша интеллигенция и большевики-коммунисты имеют точку соприкосновения, равнозначащую и одинаковую в смысле вины перед Россией, ибо разрушали церковь, веру в народе одинаково. Теперь я только понял, какие мы все были преступники, что вовремя не прислушались к Нилусу и Шмакову. А главное, не придали им вовремя того значения, какое следовало. У меня были завязаны глаза, я считал долго русскую революцию народной, выражением недовольства масс против старого порядка, которым сам был недоволен и оскорблен.
Теперь я прозрел… Это всемирная борьба белой и черной магии, вопрос, поставленный ребром обо всей христианской культуре всего человечества! Гонение на церковь, на лучших духовных лиц, развращение детей и юношества, искусственная прививка им пороков, приучение детей к шпионажу (в школах выспрашивание у малолетних, есть ли дома иконы, ходят ли родители в церковь, вспоминают ли старину?), разрушение семьи… Это все русскому рабоче-крестьянскому народу не нужно…[184] Это необходимо антихристовым детям, каковы и есть большевики-коммунисты, руководимые еще более высшей инстанцией черной силы врагов Христа.
Если в Европе люди хотят спасти порядок, семью, отечество – пусть поймут мою ошибку и не повторят ее у себя на родине. Пишу эти строки больше всего для чехословаков и всех славян.
Чехи! Не повторите нашей русской ошибки, не ссорьтесь между собой, те, кто истинно хочет блага своей родине. Наши политические партии спорили и ссорились до тех пор, пока общий враг не воспользовался этим и не погубил России!.. Помните это, чехи! В России народной революции нет, а есть борьба дьявола с крестом. Это мой завет всем русским и чехам, моя мольба понять и вспомнить все то, что писал наш провидец Достоевский и многие другие писатели.
Наша несчастная интеллигенция 1860-х годов, наши либералы, и кадеты, и эсеры, и меньшевики, думали ли они все, к чему их многолетняя работа приведет? Мне вспоминаются несколько строк Авсеенко[185], я перечитываю его старый роман «Млечный Путь». Эти строки настолько верны, что я даже их внесу сюда: «Мы всю красу, все содержание, весь цвет старой жизни принесли в жертву идеям равенства, свободы, братства.
Этот молох пожрал все то, чем жило старое, культурное человечество, все, что заставляло его верить чудесной сказке о Прометее, низведшем небесный огонь на землю. И с какой радостью мы совершали это жертвоприношение, и мы верили, что отойдем от жертвенного костра лучшими, более чистыми, честными и человечными, чем были наши отцы. А на поверку вышло… что же?.. Общество пересоздалось, а человек не продвинулся вперед».
Это много лет назад писал наш русский второстепенный романист.
А что бы он сказал теперь, когда человек назад пошел, приближаясь к зверю, а не вперед!.. И пришла непонятная нам стихия, которая сознательно и настойчиво губит все светлое, все, что так долго и с таким трудом достигалось человечеством, чтобы приблизить его к свету и удалить от звероподобия. Но нет…
Кажется мне, вернее чуется, что прав был Достоевский, указывая на великую миссию русского народа. На всех в России произведена примерная, «показательная» операция. Мы своими страданиями, на своих плечах несем весь ужас этот, для того чтобы весь мир узнал, что это такое, и отшатнулся от этих мракобесов. Но русский народ, как бы его ни развращали, ни сбивалис пути истинного, кажется, начинает прозревать.
Это, отчасти, доказала нам смерть и похороны патриарха Тихона. Вот, много лет подряд долбят коммунисты в газетах, школах, в книгах: «Бога нет, и не нужен он нам». Детей учат петь пошлости, вроде того, что «Не нужно нам монахов, не надо нам попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов!..»
А когда многотысячная толпа крестьян, рабочих и красноармейцев пошла поклониться гробу патриарха, то ни одна девчонка не осмелилась повязать голову красным, традиционным платком комсомолки, ни один юноша-комсомолец не осмелился выкинуть никакой дерзости. Толпа лавой тянулась к Донскому монастырю, где стоял гроб почившего, и вероятно, наши правители почесали себе затылки: дело-то не так просто выходит! Народ живет не годами, а веками!
Одно поколение изгадить, морально погубить возможно, но вытравить имя Христово из многомиллионного народа не так-то легко. Одна у меня мольба к Богу: избавить нас от антихристовых детей, одна надежда, что Христос не может быть побежден сатаною, и этого не будет!.. Но наказаны мы сильно по грехам нашим и должны еще многое претерпеть.
Уж скоро надо кончать мои размышления и воспоминания, но пока хочу внести в эту тетрадь одно субъективное впечатление.
Я русский полководец, всю жизнь работавший над военной наукой. Господь дал мне от рождения военный талант.
Я это всегда чувствовал и работал в этом направлении, и в последнюю войну это подтвердилось. Мои победы прогремели на весь мир. Но, по моему крайнему разумению, свелись на нет, благодаря несчастным, неумелым старшим вождям моего Отечества, и окончательно были заметены революцией. Теперь, приехав в Европу скромным незаметным больным стариком, я вдруг вижу, что множество глаз на меня устремлено, много выражений, симпатий. Почитания, преклонения встречают меня.
За горем своим, вследствие погибели русского дела, я не думал, не отдавал себе отчета в том, что мои победы над австро-германцами перекроили всю Европу, способствовали революции в Австрии, и вследствие этого много славянских народов устроилось по своему желанию, благодаря мне. И в них есть чувство справедливой памяти и благодарности относительно меня. Да и в самой Австрии есть много партий и течений. Вон, очевидно, социал-демократ – мой ушной доктор Мюллер, чистейший австриец, а весело хохочет, восклицая: «За то, что вы разбили Габсбургов, я вам поправлю слух!»
Забавный остряк и милый он человек, и действительно помог моему слуху.
А мне удивлялись в Москве, как я не боюсь ехать во вражеские страны – Польшу, Австрию!
Так вот в чем дело: мои труды, работа, силы всей жизни, которые я считал затраченными попусту, напрасно, – пригодились другим! Так многие здесь говорят. Ну, слава Создателю, что я не умер, этого не узнав. А ведь это могло быть, и очень легко! Я вообще удивляюсь, как я до сих пор жив…
Пока еще лечусь, гуляю и читаю. Прочел Деникина 3-й том. Господи, какая неразбериха! Что они сделали с бедным Алексеевым! Он совершенно изнемог, его рвали на части, и он умер раньше времени. Глубоко сожалею о нем. Прочел и книгу Данилова «Россия в мировой войне». В общих чертах он правильно судит, но нередко тоже уклоняется от истины и пишет так, как ему и его окружающим теперь удобно и приятно. Заканчиваю.
Я, в сотрудничестве с женой, тороплюсь, как на курьерских, окончить эти записки, пока мы тут, в Карлсбаде, ведь всем понятно, что в СССР я не мог бы ничего написать. Оставляю эти тетради на попечение дружественных людей за границей и прошу обнародовать их, никому не давать читать вплоть до моей смерти. Тогда жена должна будет уехать из России, чтобы иметь возможность напечатать их, если, конечно, мы не доживем до переворота в нашем несчастном Отечестве.
Закончу теперь, но не могу не сказать, как тяжело отозвалось в моей душе то, что, прожив два месяца в Карлсбаде, я так и не дождался, чтобы кто-либо из духовенства приехал отслужить хоть раз всенощную и обедню здесь в церкви. Мы ждали и на Вознесение, и на Троицу, и на Духов день, и все напрасно. Церковный сторож – чех, вместе с тремя русскими женщинами, убирали иконы в праздники цветами, зажигали свечи.
Приходило множество чехов, сербов, румын православных, несколько русских, кроме нас, и так службы и не дождались! Но что ж поделаешь, может быть, это и случайный факт, для которого есть какие-либо причины, но мне-то тяжело, и лучше уж ехать обратно в свою несчастную, обездоленную, но все же Россию, к своим настоящим друзьям – священникам без политики, к своим измученным, но понимающим меня русским людям…
А. Брусилов 10 июня 1925 года Карлови-Вари
Самолет «Илья Муромец» – четырехмоторный цельнодеревянный биплан, выпускавшийся на Русско-Балтийском вагонном заводе (РБВЗ) в 1913–1918 гг. Его проект был разработан авиационным отделом РБВЗ под руководством выдающегося авиаконструктора И. И. Сикорского. На первые самолеты этой серии устанавливались двигатели немецкой фирмы «Аргус», затем, с 1915 г. – двигатели РБВЗ-6 конструкции В. В. Киреева. «Илья Муромец» стал первым в мире пассажирским самолетом, на нем было установлено несколько рекордов грузоподъемности, времени и максимальной дальности полета. Свой первый вылет в качестве бомбардировщиков эскадра из четырех самолетов совершила в феврале 1915 г. Всего за годы Первой мировой войны в войска поступило 60 бипланов серии «Илья Муромец». Они совершили около 400 боевых вылетов и сбросили на позиции противника 65 тонн бомб. При этом всего один самолет был непосредственно сбит вражескими истребителями; еще три были подбиты, но сумели приземлиться.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Послужной список Генерал-адъютанта Брусилова
числящегося по Гвардейской кавалерии, командующего VIII армией Генерала от кавалерии, [186]
Составлен 27 августа 1915 года.
1. Чин, имя, отчество и фамилия.
Генерал от кавалерии, Генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.
2. Должность по службе.
Командующий VIII-й армией.
3. Ордена и знаки отличия.
Кавалер орденов: Св. Георгия 3 и 4 степеней, Белого Орла с мечами, Св. Владимира 2, 3 и 4 ст., Св. Анны 1, 2 и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 1 ст., 2 ст. с мечами и 3 ст. с мечами и бантом. Имеет медали: серебряную за Турецкую войну 1877—78 гг., в память царствования Императора Александра III, в память Св. Коронования Их Императорских Величеств, светлобронзовые: в память 100-летия Отечественной войны и в память 300-летия Царствования Дома Романовых. Имеет знаки: юбилейный Пажеского Его Императорского Величества корпуса. Имеет иностранные ордена: Французские: Почетного Легиона Командорского и Офицерского креста. Прусские: Орденский знак Короны 1 ст., Красного Орла 2 ст. Болгарский: Большого Офицерского креста ордена за военные заслуги и Большого офицерского креста ордена Св. Александра. Бухарский: Золотой звезды 2 ст. Персидский: Льва и Солнца 1 и 5 ст. Итальянский: Большой офицерский крест ордена Короны. Мекленбург-Шверинский: Большой крест ордена Грифа.
4. Когда родился.
19-го августа 1853 года.
5. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец.
Из дворян Орловской губернии.
6. Какого вероисповедания.
Православного.
7. Где воспитывался.
Общее и военное: в Пажеском Его Императорского Величества корпусе и в отделе эскадрон[ных] и сотен[ных] командиров офицерской кавалерийской школы «успешно».
8. Получаемое по службе содержание[187].
9. Прохождение службы.
Назначен пажом к Высочайшему Двору – 1857 июля 27.
Определен в Пажеский Его Императорского Величества корпус – 1867 июня 27.
Высочайшим приказом тысяча восемьсот семьдесят второго года, произведен в прапорщики в 15 драгунский Тверской Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича Старшего полк – 1872 июля 17.
Прибыл в полк – 1872 вгуста 15.
Вступил в исправление должности полкового адъютанта на законном основании – 1873 февраля 17.
Сдал должность полкового адъютанта на законном основании – 1873 июня 20.