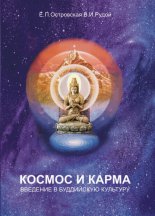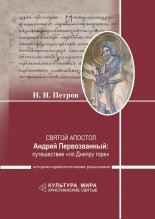Убийство Маргарет Тэтчер (сборник) Мантел Хилари
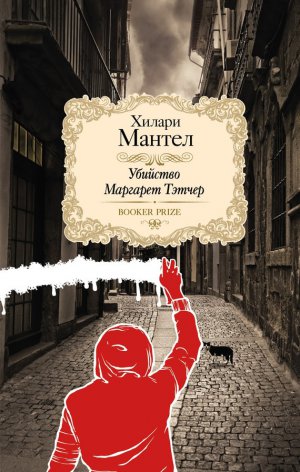
Октябрь
В утренней газете напечатали картинку со скелетом.
— Гляди, твой родственник. — Лола подтолкнула газету через стол в направлении Морны, которая тщательно размешивала жидкую кашку из молотой пшеницы. — Да гляди же! Мама, смотри, нашли Морнина предка.
— Ты о чем? — спросила Морна.
Лола прочла вслух с набитым ртом:
— «Рост Арди составляет четыре фута». Полное имя — ардипитек[28]. Арди, если коротко. Коротко! — Она засмеялась над собственной шуткой, поперхнулась апельсиновым соком. — Ее снова отыскали! «Мозг Арди по размерам сходен с мозгом шимпанзе». Прямо как у тебя, Морна. «Весила Арди около пятидесяти килограммов». Наверное, когда напяливала все свои шкуры, а не когда ходила голой.
— Замолчи, Лола, — велел отец. Потом встал и вышел, отказавшись от завтрака, сжимая в руке мобильный телефон. Столовый нож, оставленный на краю его тарелки, покачнулся, точно стрелка компаса, и с глухим дребезгом замер. Всегда не более чем тень в жизни семьи. Отец работал с утра до вечера, как он сам говорил, чтобы сохранить этот маленький домик, волновался за ипотеку и за машину, а Морну, видите ли, волнует объем ее треклятой талии.
Лола посмотрел ему вслед, а затем вновь уставилась в газету.
— «Строение зубов показывает, что она питалась инжиром. Она также ела листья и мелких млекопитающих». Фу! Можете в это поверить?
— Лола, доедай свой тост, — сказала мама.
— Ее собирали по частям. Первым нашли зуб. «Археологи впервые обнаружили эти останки в 1992 году». Ага, как раз перед тем, как Морна показалась.
— А кто ее нашел? — спросила Морна.
— Да целая куча народа. Говорю же, ее собирали по кусочкам. «Исследования длились пятнадцать лет, в них принимали участие сорок семь ученых».
Поглядев на Морну, мама сказала:
— Тебе тоже пятнадцать. Почти. И я одна справилась.
— «Она была прямоходящей», — прочитала Лола. — Точно ты, Морна. Пока кости не раскрошились. Ты скоро будешь выглядеть как старуха. — Она сунула в рот тост. — Только не четыре миллиона лет, помладше.
Ноябрь
Однажды утром мама застала Морну за подкидыванием кувшина с водой перед взвешиванием.
— Ты что, он же может упасть тебе на голову! — воскликнула она. — Может убить тебя! — Вырвала кувшин из рук дочери, и тот упал на пол и разлетелся по полу ванной десятками осколков.
— Ой, — проговорила мама. — Семь лет невезения. Хотя нет, это же не зеркало.
Морна вытерла рот тыльной стороной ладони. Сквозь кожу просвечивали косточки. Она смахивала на пособие по анатомии, как глубокомысленно заметила Лола. Скоро от нее вообще ничего не останется. Сплошная физиология.
Вся семейная жизнь уже многие месяцы представляла череду уловок и интриг. Мама готовила для Морны яичницу и тайком вливала ложку сливок. В клинике, где Морна наблюдалась, ее обычно заставляли есть бутерброды на белом хлебе, густо намазанные маслом и щедро сдобренные толстыми кусками сыра. Она же просиживала долгие часы за столом, непрерывно придавливая хлеб к тарелке, чтобы выжать из бутерброда жир. Ее уговаривали: «Просто попробуй, Морна». Она отвечала: «Я лучше умру».
Если ее вес упадет на определенный процент, ей придется вернуться в клинику. Там от нее не отходили, пока она не съедала, что положено. Еда была по расписанию, завершать прием пищи полагалось по часам, иначе следовало наказание. Медсестры не спускали с Морны глаз, чтобы она не спрятала еду под одежду, и регулярно обыскивали, слой за слоем. В каждой туалетной комнате стояли камеры — так уверяла Морна. Если ей вздумается изрыгнуть съеденное, это обязательно заметят. И тогда пропишут постельный режим. Она так долго пролежала на больничной койке, что, когда вернулась домой, ее ноги были дряблыми и белыми.
Основатель клиники, шотландец с высокими идеалами, требовал от пациенток работать в саду и выращивать овощи, которыми они питались.
Как-то Морна увидела, как голодающая девушка слопала молодой горох — зерна, стручок и все остальное. Зрелище ее потрясло: девушка растягивала потрескавшиеся губы, с нежной улыбкой вгрызалась в зелень, кусала и кусала… «Вот бы вы видели, — повторяла она, — добрая еда рождается только из почвы, по воле Господа».
Но иногда девушки оказывались слишком слабыми для физического труда, падали прямо на грядки. Их подбирали, конечно, отряхивали от комьев земли; грабли и мотыги оставляли валяться среди грядок, словно оружие, брошенное на поле боя разгромленным войском.
Ноябрь
Мама недовольно ворчала — фургон доставки не привез заказ из супермаркета.
— Обещают в рекламе доставить в течение двух часов. — Она распахнула холодильник и принялась шарить по полкам. — Мне нужны петрушка и пикша для рыбного пирога.
— Брр! — Лола поежилась. — Звучит так, будто Морна уже на него наблевала.
— Ты бессердечная стерва! — воскликнула мама. Вокруг нее клубился стылый воздух. — Это ты принесла несчастье в наш дом!
— Да неужели? — язвительно спросила Лола.
Накануне вечером Лола видела, как Морна спустилась со своего яруса — темный, дрожащий силуэт в ночном холоде; центральное отопление было выключено, поскольку никакому теплокровному существу не следует бодрствовать в столь поздний час. Она откинула одеяло, встала и последовала за Морной на темную лестничную площадку. Обе были босиком. Морна — в кружевной ночнушке, как призрак из рассказа Эдгара По. Лола до сих пор спала в старой застиранной пижаме «Мистер Мен», на 8–9 лет, к которой привязалась настолько, что не желала внимать голосу разума. Мистер Лентяй, символ компании, чернел расплывчатым пятном на скукоженной куртке, что поднималась и опадала над круглым животиком; штанины едва доставали до икр, а резинка сползала ниже талии, так что Лоле приходилось поддергивать штаны каждые несколько шагов. В окно светила луна, и на лестничной площадке лицо сестры казалось выбеленным, отчасти затененным, будто изборожденным кратерами, точь-в-точь Луна, таинственная и далекая. Морна двинулась вниз, к компьютеру, намереваясь отменить заказ из супермаркета.
В отцовском кабинете Морна села в рабочее кресло. Подвигала босыми пятками по ковру, подталкивая кресло к столу. Компьютер был нужен отцу для работы. Девочек об этом регулярно предупреждали, упоминали, что их мать получила высший балл по АОСО без всякой техники, только при помощи ручки и бумаги; говорили, что им разрешено пользоваться компьютером исключительно под присмотром и что в Интернет можно выйти, например, в публичной библиотеке.
Морна вызвала на экран бланк заказа продуктов. И покосилась на сестру:
— Не говори маме.
Она и без того узнает достаточно скоро. Еду привезут в любом случае. Так всегда бывает. А Морна почему-то не в состоянии этого усвоить.
— Как ты можешь быть такой жирной? — спросила Морна. — Тебе же всего одиннадцать.
Лола смотрела на нее, такую решительную, терпеливо просматривающую запретные сайты, раскачивающуюся туда и сюда на отцовском кресле. Повернулась, собираясь идти обратно, подтянула спадающие пижамные штаны. И услышала некий звук, какого раньше от сестры не слыхала. Обернулась.
— Морна, что это?!
Минуту-другую они пялились на экран, не в силах разобрать, кого видят — человека или животное? Нет, все-таки человек. Женщина. На четвереньках. Голая. На шее у нее был металлический ошейник. От ошейника тянулась цепь.
Лола широко раскрыла рот, замерла, поддерживая штаны обеими руками. За цепь кто-то дергал. Мужчина. Мужской силуэт на стене.
Женщина походила на гончую собаку. Тело совершенно белое. Лицо размытое, выражения не разобрать. Такую встретишь — не узнаешь. Вполне может оказаться кем-то из знакомых.
— Валяй, — сказала наконец Лола. — Продолжай.
Палец Морны дрогнул в нерешительности.
— Работает, значит! Он всегда тут, работает. — Она посмотрела на сестру. — Держись своего Лентяя, с ним ты в безопасности.
— Давай дальше, — предложила Лола. — Посмотрим, что там еще.
Но Морна стерла изображение. Экран на мгновение потемнел. Она потерла себя по ребрам со стороны сердца. Другая рука зависла над клавиатурой. Вот и бланк заказа. Морна пробежалась по списку продуктов, добавила собачьего корма.
— Скажу, что это я. — Лола хмыкнула. — Для своего воображаемого питомца.
Морна пожала плечами.
Потом они лежали в постелях и негромко переговаривались в темноте, как привыкли, еще когда были маленькими. Морна сказала, что отец будет уверять — мол, нашел картинку случайно.
— А вдруг и вправду случайно? — спросила Лола.
Морна промолчала. Лола подумала, что мама наверняка знает. Можно вызвать полицию. И как быть, если они придут и арестуют отца? Если он сядет в тюрьму, мы лишимся денег.
Морна сказала:
— Это не преступление. Собаки. Голые женщины, как собаки. Преступление — это картинки голых детей.
— Ей платят или просто заставляют?
— Может, наркотики подсовывают. Глупая сучка! — Морна злилась на эту женщину или девушку, которая то ли за деньги, то ли насильно корчила из себя животное, отдавая тело на поругание. — Мне холодно.
Лола услышала, как у нее стучат зубы. Морна вся съежилась, холод сковал ее с ног до головы, сердце билось медленно, словно каменея. Она положила руку себе на грудь. И сжалась в комок, подтянув колени к подбородку.
— Если отца посадят, — сказала Лола, — ты будешь нас содержать. Наверное, в шоу уродов хорошо платят.
Ноябрь
Доктор Бхаттачарайя пришла поговорить о чрезмерной волосатости. Так бывает, сказала она. Называется лануго[29]. Увы, так бывает, к сожалению. Она присела на диван и прибавила:
— Ваша дочь совсем меня извела.
Отец хотел, чтобы Морна вернулась в клинику.
— Уж простите за прямоту, но либо она уезжает, либо я ухожу.
Доктор Бхаттачарайя моргнула под очками.
— Нам отчаянно не хватает средств. До начала следующего финансового года все уже расписано. Финансируют только неотложные случаи. Следите за ней, продолжайте взвешиваться ежедневно. Пока она стабильна, вес не теряется. Весной, если дела не пойдут на лад, мы, думаю, сможем ее принять.
Морна сидела на том же диване, скрестив руки на вздутом животе. Рассеянно глядела по сторонам. Она предпочла бы уехать куда угодно. Дома грязно, объяснила она, взять хотя бы ту ложку сливок. Она больше не может доверять маме и вести таблицу учета калорий тоже не может, потому что ее диету подделывают. Есть она согласилась, но домашние нарушили договор. Дух договора, как она уточнила.
Их отец сказал доктору:
— Нет смысла постоянно с нею сюсюкать. — И передразнил тоненьким голоском: — «Морна, милая, чего бы тебе хотелось?» Только не надо нести всю эту ахинею насчет прав человека. Какая разница, что она там себе в башку втемяшила?! Когда она смотрится в зеркало, один бог знает, что она видит. Вы ведь понятия не имеете, что у нее в голове творится, верно? Она воображает то, чего не существует.
Лола так и подпрыгнула.
— Но я тоже видела!
Родители повернулись к ней.
— Лола, ступай наверх. — Она медленно встала и пошла, вяло переставляя ноги. Они не спросили: «Видела что, Лола? Что ты видела?»
«Они не слушают, — сказала она врачу, — совсем не слушают. Игнорируют меня».
— Я просила собаку, но мне не разрешили. Другим можно, а Лоле нет.
Изгнанная из гостиной, она встала у закрытой двери и заскулила. Потрогала дверь лапой. Засопела. Ткнулась в дверь мордой. Бум-бум.
— Семейная терапия может оказаться полезной, — мило сообщила доктор Бхаттачарайя. — О таком варианте вы не думали?
Декабрь
С Рождеством Христовым.
Январь
— Вы отсылаете меня обратно в клинику, — сказала Морна.
— Нет-нет, — поспешно возразила мама. — Вовсе нет.
— Вы говорили по телефону доктору Бхаттачарайя.
— Я разговаривала со стоматологом. Записывалась на прием.
Морна потеряла несколько зубов за последнее время. Это все знали.
Но она не сомневалась, что мать лжет.
— Если вы меня отошлете, я выпью отбеливатель, — пригрозила она.
— Станешь белее простыни, — утешила Лола.
Февраль
Разговоры о принудительном лечении. Это значит, объяснила мама, что Морну запрут в специальной больнице, что она уже не сможет вернуться домой, как бывало раньше.
— Выбор за тобой, — вставил отец. — Начинай есть нормально, Морна, и до этого не дойдет. В дурдоме тебе не понравится. Никто не станет с тобою цацкаться и кормить растреклятыми пирожными по особым рецептам. Там замки на дверях, а пациентов пичкают наркотиками. Это не клиника, уж поверь.
— Похоже на питомник для собак, — сказала Лола. — Тебя наверняка посадят на поводок.
— Почему вы такие жестокие? — спросила Морна.
— Это ты жестокая, — ответил отец. — За тебя никто есть не может.
— Иначе я бы все слопала, — добавила Лола. — Не бесплатно, конечно.
Морна уничтожала себя. Уходила в небытие. Лола была при ней переводчиком, говорила с верхнего яруса звонким голосом пророчицы. Все ходили к ней, родители и врачи, чтобы узнать, что думает Морна. Сама Морна в основном хранила молчание.
Они поменялись местами: Морна теперь занимала нижнюю кровать. Лола заставила — боялась, что Морна ночью свалится и разобьется до смерти.
Мама стонала за дверью спальни: «Она уходит, уходит».
Не в смысле «уходит в магазин», нет. В конце концов, как сказала доктор Бхаттачарайя, сердце отказывает без предупреждения.
Февраль
В последний миг, на самом краю пропасти, она решила спасти сестру. Она делала маленькие кулечки, завернутые в фольгу — одно печенье, несколько конфет, — и клала их на кровать Морне. Печенье, все еще в фольге, обнаружилось растоптанным в крошки, а на полу комнаты валялись кусочки конфет и розового мармелада. Кусочки Лола не пересчитывала, только надеялась, что Морна поела хоть немного. Однажды она увидела, как Морна разглаживает фольгу и смотрится в блестящий обрывок. У сестры двоилось в глазах, твердые предметы словно купались в свете, приобретая нечеткие, призрачные очертания.
Мама сказала:
— Ты совсем черствая, Лола. Неужели тебе все равно, что происходит с твоей сестрой?
— Почему все равно? — Лола повела руками, как бы показывая, сколь велики ее эмоции. Так приятно чувствовать себя живой; но — тяжесть в груди, и никакого обеда не хочется. Она начала недоедать или тайком засовывала еду — печенье, картошку — в рулон бумажных полотенец.
Вспомнилось, как ночью, в ноябре, они ходили босиком к компьютеру. Стоя за спиной Морны, она случайно прикоснулась к ее плечу, и оно было острым, как нож. Лезвие, казалось, глубоко вонзилось в плоть, и она ощущала порез несколько часов подряд — а после страшно удивилась, не найдя на ладони ни царапины. Когда она проснулась следующим утром, воображаемый порез виделся ей очень четко.
Март
Все следы Морны исчезли из спальни, но Лола знает, что сестра по-прежнему здесь. Холодными ночами, подтягивая пижамные штаны, она стоит, глядя на сад у дома. В свете вертолетных прожекторов, во вспышках проблесковых маячков, в мерцании уличных фонарей она различает фигуру сестры, смотрящей на маленький дом, окутанный студеным воздухом. Машины прокатывают мимо до глубокой ночи, гул трафика звучит беспрерывно, однако Морну окружает пузырь тишины. Ее высокое и прямое тело мерцает под ночной рубашкой, лицо мокрое, будто от слез или от дождя, и никакого внятного выражения на этом лице нет. Но у ее ног лежит белая собака — сияет, как единорог, с золотой цепью на шее.
Конечный пункт
Девятого января, вскоре после одиннадцати часов, темным и слякотным утром я увидела своего мертвого отца — на поезде, который отошел от Клэпэм-джанкшн в направлении Ватерлоо.
Я отвела взгляд, узнала его не сразу. Мы двигались параллельно друг другу. Когда я обернулась, поезд уже набрал скорость.
Мой разум устремился вперед, к вестибюлю вокзала Ватерлоо, к встрече, которая, как я чувствовала, неминуемо должна произойти. Поезд, на котором он ехал, был старой шестивагонной электричкой, окна почти тонированные — зимней грязью и многолетними слоями сажи, приставшей к металлу. Я задалась вопросом — откуда он ехал? Виндзор? Аскот? Понимаете, я частенько пользуюсь этой веткой, а потому уже успела изучить типы подвижного состава.
В его вагоне не горела ни одна лампа. (Всем ведь известно, что освещение в электричках нередко крадут или разбивают.) Кожа имела неприятный оттенок; глаза прятались глубоко в тени, а выражение лица было задумчивым, едва ли не угрюмым.
Наконец и нам загорелся зеленый сигнал, и мой поезд тоже покатил к Лондону, весьма торжественно. Я прикинула, что отец получит добрых семь минут форы, уж точно больше пяти.
Едва я увидела его, грустного, но сидящего, как всегда, строго прямо, в вагоне напротив, мысли вернулись к случаю, когда… к случаю, когда… Но нет. Не вернулись. Я попыталась оживить их, но не смогла припомнить. Даже на задворках своего сознания я не отыскала ни единого памятного события. Хотя, казалось бы, мы столько всего пережили. Через столько прошли вместе. Увы, никаких событий, только уверенность, что минуло некоторое количество лет.
Когда мы вышли из поезда, платформа была скользкой и так и норовила убежать из-под ног. Повсюду виднелись плакаты с предупреждениями о террористической угрозе, советы остерегаться нищих и призывы вести себя внимательнее, чтобы не споткнуться, — по-моему, оскорбительные для пассажиров: как будто кто-то спотыкается по своей воле — разве что отдельные личности, обделенные вниманием. Билеты проверял не автомат, а живой человек, и это, естественно, замедляло выход. Я начала злиться; хотелось как можно скорее во всем разобраться, что бы за этим «всем» ни скрывалось.
Мне подумалось, что отец помолодел, как если бы смерть вернула ему энное число прожитых лет. В выражении его лица при всей меланхолии ощущалась некая цель; и я не сомневалась, что свое путешествие он предпринял по делу. Именно это ощущение, а вовсе не опыт прошлых лет — опыт всегда прошлое, верно? — вынудило меня предположить, что он может задержаться ради встречи, пересечься со мной, а уж потом сесть в поезд на Бейзингстоук или, возможно, на Саутгемптон; на меня время у него безусловно найдется.
Скажу так: если вы собираетесь с кем-либо встречаться на вокзале Ватерлоо, составляйте планы заранее — и тщательно согласовывайте. Официально, в письменной форме, для дополнительной надежности. Я встала, как валун посреди бурного потока, а прочие пассажиры разбивались о мое подножие и обтекали меня со всех сторон. Куда он мог пойти? Что мог бы захотеть? (Не знала, господи помилуй, что мертвые ходят среди живых.) Выпить чашечку кофе? Изучить глянцевые обложки бестселлеров? Купить что-нибудь в аптеке — лекарство от простуды, флакон ароматического масла?
Что-то крохотное и твердое в моей груди, мое сердце, еще вдруг уменьшилось. Понятия не имею, что ему могло захотеться. Безграничные возможности, которые открывает Лондон… А если он разминется со мной и выберется в город?.. Впрочем, даже с учетом безграничных возможностей, не могу вообразить, что могло ему понадобиться.
Я принялась его искать, заглянула в книжный «У. Г. Смит» и в бутик «Коста коффи». Разум пытался вызволить из глубин памяти поводы, за которые можно зацепиться, но тщетно. Надо бы проглотить что-нибудь сладкое, стакан горячего шоколада, чтобы согреть руки, итальянскую вафлю, посыпанную какао. Но разум оставался холодным, а необходимость действовать никуда не делась.
Мне пришло в голову, что он решил махнуть на континент. Отсюда ведь отправляются поезда в Европу; и как мне тогда его догнать? Интересно, какие документы ему потребуются, обзавелся ли он деньгами? Как там с финансами, в загробном мире? У призраков свой паспортный контроль? Мне представилась вереница теневых послов, с теневыми портфелями, засунутыми в складки шелковых одеяний.
Существует ритм — все это знают, — в котором люди движутся в любом крупном, публичном пространстве. Существует определенная скорость, которую никто не выбирает сознательно, но которая устанавливается каждый день, вскоре после рассвета. Стоит нарушить этот ритм, и ты горько пожалеешь: тебе примутся наступать на ноги и пихать локтями. Суровые британские извинения — «Простите, ой, простите»; правда, те, кто ездит часто, не склонны, как я выяснила, к проявлению вежливости — замешкайся, сбавь темп, и тебя попросту сметут с дороги. Мне подумалось, впервые в жизни, что этот ритм представляет собой истинную загадку, контролируется не железными дорогами и не пассажирами, а некоей высшей силой: это содействие нашему притворству, своего рода руководство для тех, кто в противном случае не знал бы, как поступить.
Сколько среди этих торопливых толп по-настоящему живых, сколько среди них тех, чей облик — лишь игра света и тени? Сколько, я спрашиваю, привязанных к реальности, сколько тех, кто достоверно и убедительно способен доказать, что живой? Вон тот растерянный, безликий, желтокожий мужчина, иностранец с рюкзаком на спине; вон та женщина с изможденным лицом жертвы чумного года? Обитатели бурых домов Уондсворта, насельники квартир с балконами и пешеходных мостиков; ворчащие пассажиры, купившие билеты на Виргиния-Уотер[30], те, чьи дома балансируют на краях набережных, чьи крыши, мокрые от дождя, пролетают перед глазами путешественников? Сколько?
Отличите меня, пожалуйста! Отличите, покажите, в чем разница. Предъявите текстуру живой плоти. Объясните, в чем суть, каков тот тембр голоса, что отличает живых от мертвых. Покажите мне кость, которая точно принадлежит живому. Цветущую кость, так сказать. Найдите и покажите, хорошо?
Двигаясь дальше, я заглянула в передвижной холодильный шкаф с его забальзамированной едой для путешественников. Мельком увидела рукав пальто, показавшегося знакомым, и мое съежившееся сердце пропустило удар. Но мужчина повернулся, его лицо лучилось глупостью; чужак, посторонний, да и ростом ниже, чем я помнила.
Осталось не так уж много мест для поиска. Вон пиццерия, но не думаю, что отец будет есть в общественном месте, тем более — иностранную еду. (Опять мои мысли устремились на парижский вокзал Гар дю Нор; каковы шансы догнать отца?) Пункт обмена валюты я уже проверяла, занавеску в фотобудке отодвигала — она оказалась пустой, но я задумалась: может, это фокус — или испытание.
Пока ничего. Припомнив выражение его лица — а я видела его только мельком, в тени, — я внезапно спохватилась, поняла то, чего не смогла уловить в первый миг. Кажется, его взгляд был обращен внутрь. В облике ощущалась отстраненность, желание, чтобы его оставили в покое, будто он старался сберечь собственную целостность.
Вдруг — мысль пронеслась в мгновение ока — я сообразила: он путешествует инкогнито. Стыд и гнев заставили меня прижаться спиной к стеклянной витрине книжного магазина; мое отражение плавало позади, мой призрак, в зимней куртке, словно вдавился в витрину, застрял в ней, выставленный на обозрение досужим взорам, живым или мертвым, пока я не обрету вновь силы и способность двигаться. Утренний опыт, прежде игнорируемый и презираемый, предстал во всей беспощадной наготе. Я подняла голову, бесцельно перевела взгляд, с вялым любопытством посмотрела на электричку на параллельных путях — и (назовем это неприличным совпадением) случайно увидела то, чего никогда не должна была увидеть.
Что ж, пора выдвигаться в город, к месту назначенной встречи. Я запахнула куртку, свой обычный торжественно-черный наряд. Проверила сумку, чтобы убедиться, что взяла все нужные документы. Подошла к киоску, протянула монету достоинством в фунт, получила упаковку бумажных носовых платков в пластиковой оболочке, тонкой, как кожа; ногтями я драла ее до тех пор, пока пластик не разошелся, пока не почувствовала погружение в бумагу. Платки — спасение на случай непредвиденных, неуместных слез. Бумага меня успокаивает, на ощупь. Я привыкла ей доверять.
Зима выдалась студеная. Даже старики признавали, что она в этом году холоднее обычного; и хорошо известно, что, когда стоишь в очереди на такси, сразу четыре ветра жалят твои глаза. Я направлялась на встречу в холодной комнате, где люди, по возрасту годящиеся мне в отцы, но более любящие, будут принимать конкретные решения, осуществлять какие-то транзакции, договариваться о сроках. Я заметила, насколько легко в большинстве случаев всякие комитеты согласовывают сроки; но когда мы одни и живем собственной жизнью, то постоянно спорим — не так ли? — из-за каждой секунды в нашем распоряжении. Так считают не все, многие такой подход не одобряют, но людей разделяет множество факторов, и, честно говоря, смерть среди них — далеко не самый важный. Когда огни расцветают по бульварам и паркам, когда город приобретает викторианскую sagesse[31], я снова начну двигаться. Я вижу, что живые и мертвые путешествуют наравне на знакомых поездах. Вы, думаю, догадались, что я не тот человек, кому требуется мнимое возбуждение или притворная новизна. Однако меня подмывает разорвать расписание и выбрать какой-нибудь неизведанный маршрут; и я знаю, что найду на некоем невероятном вокзале руку, которой предназначено упокоиться в моей.
Убийство Маргарет Тэтчер: 6 августа 1983 года
25 апреля 1982 года, Даунинг-стрит: Заявление о восстановлении контроля над островом Южная Георгия, центром заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, близ Фолклендов
Г-жа Тэтчер: Дамы и господа, министр обороны только что сообщил мне очень хорошие новости…
Министр обороны: Мы получили донесение, из которого следует, что британские войска высадились сегодня на Южной Георгии, примерно в 4 часа дня по лондонскому времени… Командующий операцией направил следующий рапорт: «С радостью извещаем Ее Величество, что «Уайт Энсайн» развевается бок о блок с «Юнион Джеком»[32] над Южной Георгией. Боже, храни королеву».
Г-жа Тэтчер: Просто порадуемся этому известию и поздравим наших солдат и морских пехотинцев. Спокойной ночи, господа.
Госпожа Тэтчер поворачивается к двери дома номер 10 по Даунинг-стрит.
Корреспондент: Мы собираемся объявить войну Аргентине, миссис Тэтчер?
Г-жа Тэтчер (после паузы на пороге): Радуйтесь.
Сперва вообразите себе улицу, где она испустила последний вздох. Это тихая, степенная улица, в тени старых деревьев, с высокими домами, чьи фасады гладкие, точно покрытые белой глазурью, а кирпичи в стенах — цвета меда. Некоторые из них георгианские, с плоскими фронтонами. Другие викторианские, с блистающими эркерами. Они слишком большие по современным меркам, слишком просторные для одной семьи и потому в основном поделены на квартиры. Но это не разрушило элегантность их пропорций, не уничтожило насыщенный блеск панельных наружных дверей, щеголяющих латунью и выкрашенных в темно-синие и темно-зеленые тона. Единственный недостаток этого района состоит в том, что автомобилей здесь больше, чем свободного пространства для парковки. Обитатели вынуждены парковаться нос к носу и класть под стекло разрешения. Машины тех, у кого имеются подъезды к дверям, часто оказываются заблокированными. Но они терпят, гордые своей прекрасной улицей и готовые страдать ради права проживать на ней. Взглянув вверх, вы заметите изящные и непрактичные георгианские фрамуги, керамическую черепицу теплых тонов и блеск цветного витражного стекла. По весне вишневые деревья разбрасывают вдоль улицы экстравагантные воланы своих цветков. Когда ветер принимается гонять лепестки, они клубятся розовыми вихрями и устилают тротуары, как будто некие великаны устроили свадьбу прямо на улице. Летом из открытых окон плывет музыка: Вивальди, Моцарт, Бах.
Улица описывает плавную кривую, впадая в главную дорогу там, где та покидает город. Отдельно стоящая церковь Святой Троицы увешана бесчисленными военными стягами. Глядя из высокого окна на город (как я в день убийства), вы ощущаете близость крепости и замка. Если посмотреть налево, в поле зрения появится Круглая башня, отражающаяся в зеркальных стеклах. Но в дождливые дни, когда сыплет противный мелкий дождь и облака нависают над головой, крепость словно уменьшается — любительский рисунок, наполовину стертый. Ее очертания смягчаются, острые края сглаживаются; она съеживается под натиском сырости с реки, выглядит скорее как укутанная в туман гора, нежели как замок, построенный для королей.
Дома по правую сторону от Тринити-плейс — я имею в виду, по правую сторону, если встать лицом к окраине, могут похвастаться обширными садами, каждый из них ныне поделен между тремя-четырьмя арендаторами. В начале 1980-х Англия успешно сопротивлялась запаху горения. Отдающие углеродом ароматы барбекю по выходным были неведомы широкой публике, властвовали только в приречных питейных палаццо Мэйденхеда и Брея. Наши сады, безукоризненно сохраняемые, почти не посещались; на улице не попадалось никаких детей, только молодые пары, которые еще не обзавелись потомством, и пожилые пары, которые в лучшем случае открывали двери лишь для того, чтобы выпустить гостей вечеринки на террасу. В теплые дни лужайки грелись на солнышке, никем не оскверняемые, а кошки, свернувшись клубком, мирно дремали на прогретой почве облицованных камнем клумб. По осени кучи палой листвы тихо сгнивали в пустынных двориках, время от времени листья сгребали раздраженные владельцы нижних квартир. Зимние дожди пропитывали влагой кустарник, и некому было о нем позаботиться.
Но летом 1983 года этот тихий и спокойный уголок, куда не заглядывают обычно ни шоперы, ни туристы, очутился в фокусе внимания всей страны. За садами домов номер 20 и 21 раскинулась территория частной клиники: сама она занимала красивое бледное здание на углу. За три дня до убийства премьер-министр приехала в эту клинику по поводу незначительной микрохирургии глаза. С тех пор район лишился покоя. Чужаки распихивали местных жителей. Газетчики и телевизионщики перекрыли улицу и припарковали свои авто на подъездных дорожках без всяких разрешений. Они раскатывали взад и вперед по Спиннерз-уок, тянули провода, слепили фонарями, взгляды неизменно обращались к больничным воротам на Кларенс-роуд, шеи сгибались под тяжестью камер на ремнях. Каждые несколько минут они толпой срывались с места, сходились коллективом в своих камуфляжных куртках, как бы успокаивая друг друга — мол, пока ничего не происходит, но рано или поздно обязательно произойдет. Они ждали и, коротая ожидание, пили апельсиновый сок из пакетов и пиво из банок; ели, роняя крошки на себя и на землю, засоряли аккуратные клумбы грязными бумажными салфетками. У пекаря с верхней части Сент-Леонардс-роуд все булочки с сыром закончились к 10 утра, а вся прочая выпечка — к полудню. Местные кучковались на Тринити-плейс, сложив пакеты с покупками у низкой ограды. И обсуждали, за что им выпала такая честь и когда суматоха закончится.
Виндзор не то, что вы думаете. Там живет интеллигенция. Стоит пройти от замка до конца Пескод-стрит, и вы убедитесь, что город населяют не только «роялистские лизоблюды»; пересекая развязку на Сент-Леонардс-роуд, при большом желании можно углядеть тайных республиканцев. Тем не менее, на местных выборах у социалистов практически не было шансов, и население даже разочарованно ворчало: дескать, им следовало показать свою силу тактическими маневрами и продемонстрировать боевой дух, посещая всякие культурные события в центре искусств. Недавно перестроенный из пожарного депо центр представлял собой площадку, где нашли приют многочисленные поэты-любители и где разливали из пакетов кислое белое вино; в субботу утром проводились занятия по личностному росту, йоге и изготовлению картинных рам.
Но когда миссис Тэтчер приехала в клинику, местные диссиденты разом высыпали на улицы.
Они собирались небольшими группами, рассматривали журналистов и поворачивались спинами к больничным воротам, за которыми целый ряд драгоценных парковочных мест был маркирован табличкой: «ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ».
Одна женщина сказала:
— У меня докторская степень по философии, и я часто думаю, а не припарковаться ли там. — Было еще рано, буханка, купленная в пекарне, не успела остыть; она прижимала хлеб к себе, как домашнее животное. — Знаете, кругом столько предрассудков!
— И кинжалов, — добавила я. — Мой нацелен прямиком в ее сердце.
— Вы молодец, — сказала она восхищенно. — Я слыхала, вы активнее всего выступаете.
— Приходится, — ответила я. — Надеюсь, мистер Дугган меня переплюнет.
— Вызвали его на субботу? Дуггана? Ох, какая честь. Лучше бегите. Если вы с ним разминетесь, он вас засудит. Акула, а не человек. Но что вы можете сделать? — Она порылась в сумке, поискала ручку. — Дам вам свой номер. — Записала телефон на моей ладони, поскольку ни у кого из нас не оказалось при себе ни листка бумаги. — Позвоните мне. Вы ходите в центр искусств? Можем как-нибудь посидеть вдвоем, выпить по бокальчику.
Я поставила бутылку воды «Перье» в холодильник, и тут в дверь позвонили. Я как раз думала: сейчас мы этого не подозреваем, но наверняка впоследствии будем любовно вспоминать времена миссис Тэтчер — новые знакомства, заведенные на улице, треп о сантехниках, которые обслуживали по несколько домов… В домофоне, как обычно, слышался сплошной треск, будто кто-то поднес микрофон к костру.
— Заходите, мистер Дугган, — сказала я. Проявить немного вежливости никогда не помешает.
Я жила на третьем этаже, подниматься приходилось по крутой лестнице, а Дугган был грузноват. И потому я несказанно удивилась тому, как быстро он сумел взобраться.
— Привет, — сказала я. — Сегодня вам удалось нормально припарковаться?
На лестничной площадке — скорее на верхней ступеньке, такой маленькой была сама площадка, стоял мужчина в дешевой куртке. «Ни дать ни взять сын Дуггана», — подумалось мне.
— Бойлер? — спросила я.
— В точку, — отозвался он.
Он тяжело переступил с ноги на ногу, двинулся вперед, неся мешок с инструментами. Теперь мы очутились нос к носу в крошечной прихожей. Его куртка, чрезмерно теплая даже для английского лета, заполняла пространство между нами. Я отступила.
— И что с ним? — уточнил он.
— Стонет и хрипит. Знаю, на дворе август, но…
— Нет-нет, вы правы, нельзя доверять погоде. Ребра горячие?
— Местами.
— Воздух в системе, — поставил он диагноз. — Пока жду, я могу его стравить. Если хотите. Если у вас есть ключ.
Именно тогда меня посетило подозрение. Пока жду, сказал он. Ждет чего?
— Вы фотограф?
Он не ответил. Похлопал себя по карманам, порылся в них, нахмурился.
— Я вызывала водопроводчика. Вам не следовало входить.
— Но вы же открыли дверь.
— Не вам. И вообще, зря вы сюда пришли. С этой стороны больничных ворот не разглядеть. Так что ступайте, — я многозначительно указала пальцем на дверь. — Внизу поверните налево.
— Говорят, она пользуется черным ходом. Значит, тут отличное место для снимка.
Из моей спальни и вправду открывался чудесный вид на больничный сад; любой, пройдя вдоль нашего дома, мог это сообразить.
— На кого вы работаете? — спросила я.
— Вам ни к чему это знать.
— Может, и нет, но правил вежливости никто не отменял.
Когда я отступила в кухню, он последовал за мной. Там было светло от солнца, и я наконец ясно разглядела гостя: коренастый, за тридцать, неопрятный, с круглым доброжелательным лицом и копной вздыбленных волос. Он поставил свой мешок на стол, снял куртку — и сразу словно вдвое сократился в размерах.
— Допустим, я фрилансер.
— Допустим, — согласилась я. — Но все равно вы должны оплатить использование моей квартиры для съемки. Это будет справедливо.
— И какая цена вас устроит? — язвительно осведомился он.
Судя по акценту, он был из Ливерпуля. Никакой не Дугган и не сын Дуггана. Но он молчал, пока не поднялся наверх, так что откуда мне было знать? «Вполне мог оказаться водопроводчиком», — сказала я себе. Ладно, не будем глупить; на данный момент единственное, что меня заботит, — самоуважение. Спрашивайте документы, так нам советуют, прежде чем впускать чужаков. Но только вообразите, какой шум устроил бы Дугган, если бы кому-то вздумалось держать его парня на лестнице, мешать расправиться с очередным неисправным бойлером и вдобавок проверять документы!
Кухонное окно смотрело на Тринити-плейс, кишащую народом. Если вытянуть шею, я наверняка увижу новый полицейский пост слева, патруль, идущий от частных садов Кларенс-кресент.
— Не желаете? — Гость показал мне пачку сигарет.
— Нет. И вам настоятельно не рекомендую.
— Понимаю. — Он сунул пачку обратно в карман, достал мятый носовой платок. Отошел от высокого окна, вытер лицо куском скомканной грязной ткани. Очевидно, он не привык к подобному, не заматерел на проникновении обманом в частные квартиры. Признаться, я больше злилась не на него, а на себя. Он таким способом зарабатывал на жизнь, и, пожалуй, в чем его обвинять, когда какая-то глупая курица радостно распахивает дверь?
— Долго вы намерены тут оставаться?
— Ее ждут в течение часа.
— Ясно. — Вот почему гул и гомон с улицы сделались громче, оживленнее. — Откуда вы узнали?
— У нас свой человек внутри. Медсестра.
Я оторвала два листа от рулона бумажных полотенец, протянула ему. Он прицокнул языком, вытер лоб.
— Она выйдет из машины, врачи и медсестры построятся как на парад, чтобы ее приветствовать. Она пройдет вдоль строя, каждому скажет пару слов, затем свернет за угол, плюхнется в лимузин и укатит прочь. Ну, вроде так все намечается. К сожалению, точного времени я не знаю. Поэтому решил приехать пораньше, присмотреться к местности.
— Сколько вы получите за удачный снимок?
— Судебный иск.
Я рассмеялась.
— Фотографировать не преступление.
— Скажите это полиции.
— Тут довольно далеко, — сказала я. — Наверняка у вас есть специальные объективы и конкурентов никаких, но разве не требуется крупный план?
— Нет, — просто ответил он. — Если будет прямая видимость, расстояние уже мелочь.
Он скомкал полотенце, огляделся в поисках мусорного ведра. Я забрала у него бумагу, он хмыкнул и принялся распаковывать свой мешок, этакий удобный рюкзак, равно подходящий и для фотографа, и для любого уличного торговца. Одну за другой он вынимал металлические детали, которые, даже на мой невежественный взгляд, вряд ли могли сойти за фотографическое оборудование. Потом начал собирать нечто, ловко орудуя тонкими пальцами. Работая, он напевал себе под нос, песенку с трибун футбольного стадиона:
- «Скаузер[33], ты грязный скаузер,
- Выпил — и тебе хорошо.
- Отец ворует, мамаша травкой торгует,
- Зато бухла полный мешок».
— Три миллиона безработных, — сказал он. — Большинство живут в нашей округе. Здесь-то такой проблемы нет, верно?
— Конечно. Тут множество сувенирных магазинов, работы всем хватает. Вы были на Хай-стрит?
Мне представились толпы туристов, распихивающих друг друга на тротуарах, сражающихся за сувенирные безделушки и разбавленный джин «Бифитер». Словно другая страна. Снизу голосов почему-то больше не слышалось. А на моей кухне незнакомец продолжал напевать, поглощенный делом. Интересно, есть ли у его песни второй куплет. Каждый предмет, извлеченный из рюкзака, он тщательно вытирал тряпкой, которая была чище, чем носовой платок, и обращался с ним почтительно, как алтарный служка, полирующий сосуд для причастия.