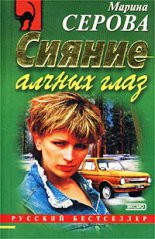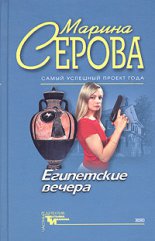Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной Виноградова Любовь

- Не бродить, не мять в кустах багряных
- Лебеды и не искать следа…
и
- Может, и нас отметит
- Рок, что течет лавиной,
- И на любовь ответит
- Песнею соловьиной.
- Глупое сердце, не бейся.
Стихи были нужны этим девушкам как воздух: они мечтали о любви, их душа требовала лирики, и их чувства были гораздо острее потому, что они рисковали жизнью. Те же эмоции испытывали и солдаты-мужчины, но все же, наверное, не так.
Стихотворение Константина Симонова «Жди меня», опубликованное в «Правде» 14 января 1942 года и переписанное в тетрадках сотни тысяч, наверное, даже миллионы раз, стало голосом всего поколения, песней тех, кто на войне тосковал о доме, и тех, кто ждал с войны солдат, молитвой тех, кого могли убить, и тех, кто ждал. Оно было написано в первые месяцы войны, когда Симонов, корреспондент фронтовой газеты, видел ужас отступления и хаоса, навсегда прощался с только что обретенными фронтовыми друзьями и несколько раз чудом спасся сам. «Если бы не написал я, написал бы кто-то другой», — как-то сказал он об этих стихах, ставших голосом каждого фронтовика. И еще: «У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах». Писатель Лев Кассиль, на чьей даче были написаны стихи, сказал, когда Симонов дал почитать, что стихи хорошие, но печатать их сейчас не время. Примерно так же отреагировал на них главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг, когда Симонов, теперь уже его корреспондент, принес стихи ему. «Это стихи не для военной газеты, — сказал он. — Нечего растравлять душу солдата».[175]
Но стихотворение прокладывало себе дорогу. Куда бы ни приехал корреспондент Симонов, вечером у огонька после напряженного дня военные просили его почитать стихи. И он, прочитав «Жди меня» в первый раз на Северном фронте, потом читал его очень часто. В декабре 41-го эти стихи были прочитаны по радио самим автором, а 14 января их напечатала «Правда». Стихотворение стало событием в жизни страны. После его публикации Симонова — автора стихотворения «Жди меня» — знал даже совсем далекий от литературы советский человек. И люди как-то поверили, что, если очень сильно ждать, с любимым человеком ничего не случится.
- Жди меня, и я вернусь,
- Только очень жди,
- Жди, когда наводят грусть
- Желтые дожди,
- Жди, когда снега метут,
- Жди, когда жара,
- Жди, когда других не ждут,
- Изменив вчера…[176]
Ходили слухи, что актриса Валентина Серова, для которой были написаны стихи, не очень-то Симонова и ждала, крутила роман с молодым и блестящим маршалом Рокоссовским, но разве это было важно? Она была музой поэта, написавшего главное стихотворение Великой Отечественной войны.
И через много лет после войны Симонов получал письма от тех, кто дождался, и от тех, чьи любимые не вернулись. Некоторые не дождавшиеся своих мужей или сыновей женщины писали, что из-за его стихотворения всю жизнь живут с чувством вины: если его убили, значит, она плохо ждала.
До конца войны в своих поездках на фронт Симонов, собрав материал для очередной корреспонденции, отогреваясь после холода и опасностей передовой водкой или разведенным спиртом в компании фронтовых офицеров, охотно читал свои стихи, и, конечно, всегда — «Жди меня».
Глава 11
Мы немца одолеем, только нюни распускать не надо
На юге России, между двумя большими реками — Доном и Волгой, до самого Азовского моря, лежит еще одно море, нежно-зеленое и колышущееся в мае, желтое и выгоревшее в июле, — бескрайние степи. В ковыле и полыни, кроме которых мало что растет на этих засушливых полупустынных землях, прячутся от волков зайцы и антилопы-сайгаки. Кочевники-ногайцы в меховых одеждах и высоких сапогах из сафьяна перегоняли здесь огромные стада лошадей и верблюдов, коров и овец. После них пришло другое степное племя — калмыки, приземистые люди с узкими глазами и широкими плоскими лицами. Потом — донские казаки — смелые воины, первопроходцы, отличные хозяева, певцы и сказочники. Веками, тысячелетиями через степи шли завоеватели, расчищая себе путь к берегам Азовского и Черного морей, на покорение Кавказа: скифы, татаро-монголы, русские. Тем же путем, гоня по степям танковые колонны, в 1942 году шли к Кавказу войска Гитлера. Летом с воздуха было отчетливо видно, как черные полосы свежевыкопанных окопов и противотанковых рвов уродуют степной океан, как шрамы.
Шло немецкое наступление на Ростов-на-Дону. Взяв его, планировали наступать дальше, на Сталинград и Кавказ. Взяв Ростов, немцы имели не только реальную перспективу выхода в Закавказье, к запасам бакинской нефти, которые для СССР были основными, но и получили бы возможность захватить Сталинград — крупнейший транспортный узел и центр военной промышленности. К июню сорок второго года южный участок советского фронта был ослаблен из-за провала весеннего наступления под Харьковом. 28 июня танковой армии Гота удалось прорвать его между Курском и Харьковом, и она начала быстро двигаться к Дону. 3 июня немцы взяли Воронеж, и советские войска, под командованием маршала Тимошенко защищавшие направление на Ростов, оказались под угрозой окружения с севера. Ане Скоробогатовой, окончившей курсы радистов в городе Россошь Воронежской области и эвакуированной с другими свежеиспеченными радистами вместе с одной из военных частей, посчастливилось вырваться из сшитого немцами мешка: танки прошли за десять дней двести километров, стремительно продвинувшись на юг между Донцом и Доном. Только пленными войска под началом Тимошенко потеряли двести тысяч человек. Армиям Южного фронта и прикрывавшей их с воздуха 4-й воздушной армии тоже пришлось несладко.
Полк Евдокии Бершанской менял аэродромы, следуя за потоком отступающих советских войск, но духом не падал; боевая работа шла хорошо, новых потерь не было. Женя Руднева учила штурманов полка ориентировке в степи. Сориентироваться в однообразном пространстве, да еще ночью, дело непростое. Главное — это найти на плоской территории точку привязки: шоссе или железную дорогу, церковь в деревне, рощицу, речку. И конечно же в ясную ночь помогут сориентироваться звезды и луна. Кто мог лучше рассказать о них, чем Женя, будущий астроном? Для нее созвездия и звезды были хорошими знакомыми, друзьями, их она любила показывать летчику, возвращаясь от цели, а всем остальным в дождливые вечера рассказывала о звездах волшебные сказки.
Нельзя постоянно жить с сознанием того, что каждый день рискуешь жизнью, что каждый боевой вылет может стать последним. Даже к смертельной опасности со временем привыкаешь. «Фронтовая обстановка отличается от нашей учебной работы только тем, что иногда стреляют зенитки, — писала родителям Женя Руднева. — Но ведь я тоже, как и вы, хорошо помню бомбежки Москвы: сбить самолет очень трудно. А если что и случится, так что ж: вы будете гордиться тем, что ваша дочь летала. Ведь это такое наслаждение — быть в воздухе».[177]
Как штурману полка Жене не полагалось много летать. Она должна была контролировать работу летчиц и штурманов на старте. Но она летала постоянно, ссылаясь на то, что должна знать каждого летчика в полку, его индивидуальные качества. Она очень часто высаживала из кабины штурмана и летела сама, ведь дни, а для полка «ночников» — ночи сейчас были горячие.
Летчица Катя Рябова, с которой летала Галя Докутович, заболела, и Галя летала с Надей Поповой — стройной, красивой, голубоглазой, светловолосой девушкой. С ней, очень смелой, летавшей спокойно и «как-то легко»,[178] Гале нравилось летать. Была ночь, когда им удалось взорвать что-то большое — видимо, склад боеприпасов, потому что взрывы внизу были сильные, и после этого они чувствовали себя «именинницами». Несмотря на то что сейчас у нее получалось много летать (ситуация была такая напряженная, что выпускали летать всех), несмотря на удачные бомбежки, на цветы, которые клала ей в кабину вооруженец Аня, Гале временами казалось, что ей снится страшный сон. Как получилось, что немцы так далеко продвинулись?
«Ростов и Батайск все время бомбят. И ночью, и утром, и вечером. Гады!» — писала она 16 июля. «Немцы снова наступают, — писала она на следующий день. — Они прошли от Изюма до Ворошиловграда дальше на Лисичанск, Миллерово, Морозовскую».[179] Советские войска отступали от Ростова.
У Александра Федяева, молоденьким солдатиком отступавшего со своей частью из Ростова, потом всю жизнь наворачивались слезы, когда он вспоминал 1942 год. «На город бешено напирали фашистские танки, а у нашей пехоты в руках были только винтовки». В его память врезался эпизод, когда он с товарищами проходил мимо группы девушек лет пятнадцати. «Они плакали, ведь уже пережили одну оккупацию, близится вторая… А наши солдаты готовы были сквозь землю провалиться от сознания того, что не в силах их защитить».[180]
Через хутора, на которых останавливался полк Бершанской, непрерывно шли отступающие войска. «…Только умоляю, не беспокойтесь обо мне! — писала в те дни родителям Женя Руднева. — Папист, я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев (я веду счет бомбам, которые я им на голову сбросила)». Это письмо было написано 19 июля, когда немцы уже подходили к Ростову. Женя напрасно беспокоилась: из сводок Информбюро нельзя было составить представление о непосредственной угрозе Ростову. Иногда бои на этом направлении вообще не упоминались в сводках, иногда о них писали пару строчек: «В течение дня… июля советские войска вели ожесточенные бои с противником в районе Воронежа, а также в районе Цимлянская, Новочеркасск, Ростов…» Об идущих в районе Ростова боях Совинформбюро писало и 24 июля, когда немцы взяли Ростов и форсировали Дон, и 25-го, и 26-го. Только 27-го советская сторона нехотя признала, что город сдан.
О героизме защитников Ростова, которых так много погибло при стремительном немецком броске на город, никто не писал ни тогда, ни позже: повторная сдача Ростова не считалась одной из славных страниц Великой Отечественной. О гибели на подступе к городу целой зенитной батареи, состоявшей из ровесниц Олечки Голубевой, стали говорить только через пятьдесят лет.
Военная профессия зенитчика, безусловно, не очень подходила для женщин — переносить и заряжать тяжеленные снаряды мужчинам было бы намного легче. Но мужчины были нужны в пехоте, в тяжелой артиллерии, в танковых войсках. Девушек с удовольствием записывали в зенитные части: обучение быстрое, с работой, на первый взгляд намного менее опасной, чем у частей, действовавших на передовой, они справлялись. Но вот как о своей военной профессии, с ее точки зрения даже не очень героической, говорила зенитчица Наталья Шолох: «Мы подвигов не совершали: не участвовали в рукопашной, не ходили в разведку, но ежедневно, рискуя жизнью, мы отражали атаки немецкой авиации. Если сказать откровенно, то мы не думали, что останемся после такой бойни живыми…»[181] Зенитные батареи, представлявшие собой опасность для немецкой авиации, были одной из целей для бомбардировщиков. Советская авиация в первой половине войны практически их не защищала, а огонь самих зенитных батарей был достаточно малоэффективен против немецких бомбардировщиков.
При стремительном наступлении немцев на советские города нередко случалось так, что не успевшим эвакуироваться зенитным батареям приходилось стрелять не по самолетам, а по танкам. Третья батарея 1-го дивизиона 734-го зенитно-артиллерийского полка была сформирована из ростовских девушек-комсомолок. Большинству из них было семнадцать, восемнадцать или девятнадцать лет. Пока немцы приближались, их авиация бомбила город несколько суток — считается, что каждые сутки она совершала по 1200 вылетов. Около ста девушек, обслуживавших орудия батареи, непрерывно подносили снаряды, заряжали пушки, стреляли; отдыхали только тогда, когда перегревались пушки. 21 июля, после нескольких часов непрерывной бомбежки, неожиданно наступила тишина. Не понимая, что это затишье предшествует штурму города или, может быть, устав настолько, что им было уже все равно, батарея заснула мертвым сном в окопчиках у своих орудий. Многие даже не услышали рева наступавших на батарею немецких танков. Все произошло очень быстро. Лишь несколько девушек успели подняться и развернуть зенитки, направив их на танки 5-й дивизии СС «Викинг». Подбить удалось всего два танка; остальные проутюжили батарею вместе с ее защитницами.[182]
Говорили, что немцам стало не по себе, когда они увидели, что полностью уничтоженная батарея состояла из девушек, и что они приказали местным старикам и женщинам собрать и похоронить тела, а на холмике братской могилы выложили крест из пилоток. Кто знает, правда ли это.
Потеря Ростова деморализовала всех, от простого солдата до Верховного главнокомандующего. Как говорилось в приказе Ставки Верховного главнокомандования от 23 июля Южному, Северо-Кавказскому и Сталинградскому фронтам, «если немцы наведут понтонные мосты через Дон и смогут переправить танки и артиллерию на южный берег Дона, это будет смертельной угрозой для фронтов. Если немцы не смогут навести понтонные мосты на южный берег, то они смогут переправить только пехоту, и это не представляет большой опасности для нас… Исходя из этого, главной задачей наших сил на южном берегу Дона и для нашей авиации является не позволить немцам построить понтонные мосты через Дон…»[183] Помешать немцам не удалось: через пару дней они в нескольких местах переправились на южный берег Дона и начали быстрое наступление на Кавказ и Сталинград. Сталин принял решение: немцы должны быть остановлены любой ценой. Если люди не захотят стоять насмерть, их нужно заставить сделать это под угрозой смерти.
В конце июля, после сдачи Ростова, войскам Южного фронта был зачитан приказ Сталина номер 227, известный как приказ «Ни шагу назад!». «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов на Дону… Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором… Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток…»[184] Войска Южного фронта оставили Дон и позорно, панически бегут. Обстановка на юге страны тяжелая. Отступление без приказа будет приравниваться к измене Родине.
Приказ не публиковался в газетах, но «Ни шагу назад» быстро стало лозунгом прессы лета 1942 года, и передовицы распространили его в широких массах.
Личному составу 588-го полка приказ зачитала начальник штаба Ира Ракобольская. Накануне ночью они были вынуждены срочно покинуть хутор, куда только что прилетели: подходили немецкие танки. Улетали так поспешно, что не имели даже карт нового района. «Площадка, куда мы должны сесть, находится за обрезом карты», — объяснила штурманам полка Женя Руднева.
На рассвете они были на новом месте, где, зверски голодные, накинулись на незрелые арбузы на бахче. Крестьяне были только рады: все равно скоро придут немцы, так пусть лучше съедят свои. Умывались арбузным соком: воды не было. Пропылив самолетами по сельской улице, летчицы спрятали их поближе к домам и деревьям. Внезапно их вызвали строиться, и они услышали от Ракобольской страшные слова.
«Ужасные вещи», слова приказа Верховного главнокомандующего, не укладывались в голове. Было понятно, что в этих южных степях негде укрепиться, зацепиться не за что. Что же будет? Когда Ракобольская кончила читать, долго стояло полное молчание. Девушки, усталые и голодные, плакали, ведь они тоже были войсками Южного фронта.[185]
Потери их полка пока были небольшие, но рядом стояли другие летные полки, бомбардировочные и истребительные, в которых осталась половина, треть или того меньше летного состава и машин. В один из дней погода была нелетная, собиралась гроза. Девушки уже укладывались спать в большом сарае, где раньше была конюшня, когда пришла парторг полка. «Пойдемте хоронить летчиков из соседнего полка. У них в полку почти никого не осталось».[186] Оказалось, что накануне «мессершмитт» расстрелял двух летчиков мужского полка У–2. Девушки пошли на похороны. Было уже совсем темно, начиналась гроза. Шел дождь, дорогу освещали молнии. Телега, на которой стояли гробы, постоянно застревала. Они вытягивали ее и ползли дальше. Среди общего молчания раздался голос парторга Рунт, для которой партбилет был святыней: «Товарищи, прячьте дальше комсомольские и партийные билеты». И правда, они уже промокли до нитки, вода стекала с промокших насквозь пилоток на волосы, на носы, булькала в сапогах.
Никто из девушек не знал погибших летчиков в лицо, никто не запомнил их имен. Телегу с гробами проводили в темноте до деревенского кладбища и, пока закапывали могилу, стояли под дождем, увязая в раскисшей глинистой земле, с водой, хлюпающей в сапогах. И многим было странно, что гибель этих безвестных летчиков почти их не трогает.
Как писала Галя Докутович, было «странно, что здесь гибель боевых товарищей переживается не так тяжело, как там, в Энгельсе. Каждый знает, что и с ним может случиться то же самое, и готов к этому».[187]
Аня Егорова выслушала приказ номер 227 в той же сильно потрепанной в боях 4-й воздушной армии генерала Константина Вершинина, отступавшей с Южным фронтом. Приказ стоять насмерть у них теперь был, а вот ресурсов никаких не было: в очередной раз перелетев на новое место, летчики потеряли свои тылы: теперь не было у них ни штаба, ни столовой, ни бензина. Где их искать?
Накормила их в тот день пожилая женщина, которая, увидев, как они приземляются, пришла из деревни. Поздоровавшись, внимательно посмотрев на Аню и ее товарищей, женщина сказала: «А кушать-то у вас есть что?» Они не ответили, но ответа не требовалось: измученные лица, голодные глаза говорили сами за себя. Женщина сказала, что как раз сегодня наварила ведерный чугун борща — «как знала, что прилетите».[188] У нее самой сын был летчик, только вот давно не было от него писем. Может, и его где-то накормят добрые люди. После обеда у щедрой женщины, которая проводила их, утирая слезы подолом широкой кофты, летчики решили слить бензин со всех машин в один самолет и отправить его на поиски тылов. Полетела Аня, как самая опытная. Снова внизу была окутанная дымом земля, горящие дома, неубранные поля. Бесконечный поток беженцев шел и ехал на повозках, люди тащили узлы, вели на веревках коров. Больно было смотреть, и еще больнее было оттого, что ничем ты не можешь им помочь.
Через Дон в направлении Сталинграда тянулся колоссальный поток беженцев. В том, что они успеют хотя бы переправиться до подхода немцев, уверенности уже не было, как и в том, что не погибнут на переправе. Переправы через Дон превратились в ад кромешный. Войска ожидали очереди на переправу со своей техникой и ранеными, там же ждали крестьянские семьи, скот, тракторы и телеги, нагруженные домашним скарбом, с сидящими наверху детьми. Страшно забиты всем этим потоком были ведущие к переправам дороги. Переправлялись через Дон в основном ночью: днем их бомбили. «Самолетов с красными звездами на крыльях почти не было», и немцы терроризировали у переправ военных и гражданских совершенно безнаказанно: сначала бомбили, потом расстреливали с малых высот.
Аня Скоробогатова, радист Отдельного батальона связи Южного фронта, работала на рации, установленной на грузовике-полуторке. Среди военных, старавшихся не смотреть в глаза ожидающему очереди переправиться мирному населению на донских переправах, была и она. Скоробогатова уже много повидала на войне, но бомбежка переправы, этот бесконечный кошмар, еще долго ее преследовала. Происходившее было слишком страшно, чтобы запомниться целиком. В памяти сохранились какие-то обрывки. Был какой-то генерал, стоявший у переправы и оравший на Аню матом: «Куда ты? Ложись, чего стоишь?» И потом кому-то еще: «Куда прешь? Отставить! Эту машину — радиостанцию давай первую…»[189] Аня, ошалев, совершенно не могла понять, что она должна делать. Она впервые ясно видела «немцев», точнее, немецкие самолеты, самолеты с крестами. Когда они бомбили, раздавался вой: «У-у-у». Аня тогда не знала, как называются эти самолеты. Только позже, став бывалым солдатом, она узнала, что это были немецкие бомбардировщики Ю–87, прозванные «лаптежниками» за неубирающиеся, нелепого вида шасси.
Аня Егорова и ее товарищи, летая на своих У–2 среди бела дня, постоянно были в воздухе: возили приказы и разведывали расположение советских частей и противника. Аэродромы, вернее, просто площадки, оборудованные в поле для неприхотливых У–2, постоянно менялись, перемещаясь все дальше к Дону, а потом — к Волге. Летать приходилось постоянно, отдохнуть было негде. Поесть тоже было некогда и негде, а часто и нечего: приготовленный на старом аэродроме обед попадал на новый или пропадал совсем. Спали где придется: в кабине самолета, на чехле под крылом, на траве, в брошенном крестьянском доме. Но то и дело, ночью и днем, их будил крик: «По самолетам!»[190] Разведка расположения частей на линии фронта была опаснейшим мероприятием: в населенном пункте, куда отправляли невооруженный медленный У–2, уже могли находиться немцы. Так, нарвавшись на немецкую часть, попали под обстрел Анины товарищи. Поняв, что со штурманом, сидящим во второй кабине, случилась беда, летчик при первой возможности приземлился, чтобы оказать ему помощь. Но помощь уже была не нужна. В каком-то забытьи летчик снял с себя кожаную куртку, свернул ее и, беззвучно плача, стал подкладывать другу под голову, чтобы тому было удобнее лежать.
Гибель человека, с которым ты вместе рисковал жизнью, с которым под обстрелом сливался в одно целое, управляя картонным самолетиком, была для летчиков и штурманов У–2 огромной травмой. «Почему он, а не я? Он погиб, я теперь живу за него». Погибший, навсегда двадцатилетний, друг оставался с ними на всю жизнь, день за днем в ней присутствуя. Для летчика, потерявшего штурмана, для снайпера, потерявшего свою снайперскую пару, эта травма оказывалась самой страшной за всю войну: боль с годами притуплялась, но оставалось чувство какой-то ужасной вины, хотя ты ни в чем не был виноват.
Самым тяжелым воспоминанием войны для Ани Егоровой стал трехлетний сирота. Он пристал к ней и ее товарищам где-то около Новочеркасска, грязный, изголодавшийся, весь в ссадинах. Ничего не мог сказать кроме своего имени — Илюша — и слова «мама». Маму он звал беспрестанно, но, как узнала Аня от солдат, ее уже не было в живых. Плакать мальчишка уже не мог, только тихонько всхлипывал. У Ани разрывалось сердце. Надо было улетать, а малыш вцепился в ее шею так, что оторвать было невозможно. Что было делать? Как бросить беззащитное существо, самую несчастную жертву войны — маленького ребенка, потерявшего мать?
Аня решила взять Илюшу с собой. «Сошла с ума! — начали орать на нее ребята-летчики. — Что ты можешь дать ему? Ты хоть знаешь, где мы в следующий раз остановимся? Что с ним будет, если тебя убьют?»[191]
Им нужно было срочно улетать. Аня, плача, прижимая к себе ребенка, бросилась к деревне. И там судьба неожиданно сжалилась над ней. Им встретилась старая женщина с палочкой, которая, всмотревшись в ребенка, вдруг запричитала, заплакала: «Илюшенька, внучок!»
Аня, отдав ребенка, бросилась к самолету. Ей стало вдруг «так невыносимо больно за все: и за этого сироту Илюшку — сколько таких сирот было на дорогах войны, — и за уходящие годы, за себя…». Она так любила детей, так хотела иметь свою большую семью…[192]
Аня часто вспоминала парня по имени Виктор Кутов, с которым вместе работала на Метрострое и к которому ходила в Москве на свидания. «Ты любишь меня?» — спрашивал он тогда, а Аня смеялась: «Конечно нет! Еще чего!» Но ее глаза говорили другое. «Любит! Любит!» — кричал Виктор и кружил ее, крепко держа за руки.
Сейчас Виктор воевал где-то на Северо-Западном фронте, и уже пять месяцев от него не было вестей. Оставшись наедине со своими мыслями, Аня все думала: «Жив ли?» Успокаивала себя тем, что полевая почта работает кое-как и письма могли не дойти. И ругала себя за то, что ни разу не сказала ему, что любит, конечно, любит…
Из станицы Ольгинской, где был размещен полк ночных бомбардировщиков, хорошо было видно, как заходили на бомбежку Ростова немецкие самолеты, как отделялись от них бомбы и летели вниз. Было ясно, что скоро город будет оставлен, но пока об этом не говорили. Деревенские сидели у домов на лавочках и смотрели в сторону Ростова. Деды тихо говорили друг с другом, набивали трубки. Бабки охали и всплескивали руками, но продолжали продавать и щелкать семечки. Пока в станице еще были военные, в плохое не верилось.
Когда полк покидал станицу, все, молча стоя в воротах, смотрели, как рулят самолеты, ползущие вереницей к зеленому полю за деревней. Самолеты двигались медленно, а девушкам хотелось скорее улететь, чтобы не видеть этого молчаливого укора, «этих белых платочков женщин и грустно поникших дедовских усов».[193]
В те дни Ольге Голубевой казалось, что землю наклонили: все, что было на ней, все, что могло двигаться, медленно сползало на восток. По шоссе, в пыли проселочных дорог, по проложенным в неубранных хлебных полях тропам шли и шли, не смея остановиться, люди. Женщины на «окаменелых от натуги руках несли детей, старухи тащили узлы, согнувшись от их тяжести, детишки то догоняли с плачем матерей, то, устав, снова отставали от них, теряясь в общем потоке». Шли и шли люди, измученные своим и чужим горем, голодом, страшным унижением. Не им ли несколько лет твердили, что война, если она разразится, будет короткой и победоносной, врага будут бить на его же территории. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!» О том, что придется покинуть все, что с таким трудом было нажито, и бежать куда глаза глядят, никто не предупреждал. Среди беженцев «двигались подводы, ревели некормленые и недоенные коровы, ползли машины, покорно-бесчувственные лошади тянули пушки. За пестрой людской толпой брели солдаты в мокрых от пота гимнастерках. Они шли молча, глядя вниз».[194]
Ольгу отправили с инженером эскадрильи в Ростов за новыми моторами. Но склад был уничтожен страшной бомбежкой, под которую попали и они. С большим трудом они выбрались из горящего города на полуторке с шофером. По дороге и по обочинам, прижимаясь к посадкам, двигались сплошным потоком отступающие войска — артиллерия, машины, обозы, кухни, пехота. Брели беженцы, ковыляли раненые из разбомбленных госпиталей и санитарных поездов. Они поднимали костыли, руки, просили подвезти, но шофер полуторки не останавливался. Оля, понимая, что в машине нет места, что шофер может взять раненого только вместо деталей для самолетов, горько плакала и просила, чтобы он взял раненого вместо нее, но немолодой шофер-старшина только ответил ей потеплевшим голосом: «Перестань». И прибавил: «Видно, мы в чем-то сваляли дурака, раз нас фашист жмет… Но мы немца одолеем, только нюни распускать не надо…»[195]
В небе показался немецкий самолет, и шофер свернул к посадкам. Убегая от машины «каким-то неимоверно широким шагом», Ольга споткнулась о мертвую женщину и увидела рядом с ней пищащий кружевной сверток. Совсем еще юная, она растерялась, не зная, как успокоить младенца, и в отчаянии мысленно звала на помощь свою маму, но суровый шофер грузовика схватил крошку на руки и прижал к себе.
Измученная, с разрывающимся от боли за людей сердцем, Олечка Голубева добралась до полка и снова была со своими, вспоминая о своем путешествии из окружения как о страшном сне. Инженеру ее полка Софье Озерковой повезло меньше.
Кадровая военная, интеллигентная, строгая, никогда не позволявшая себе панибратства с кем-либо из подчиненных, Озеркова сначала была в полку непопулярна: слишком уж сухая. Потом ее оценили и приняли: она прекрасно работала и знала свое дело, была требовательна к техникам, но при этом любила их и очень о них заботилась.
При очередном перемещении по тревоге на новый аэродром полк, спугнутый подходящими немецкими танками, улетел, оставив на аэродроме со сломанным самолетом Озеркову и техника Иру Каширину. Вскоре стало понятно, что ремонтом на скорую руку самолет не оживишь, и его пришлось, согласно инструкции, сжечь. Теперь нужно было уходить.
Прошагав целый день по забитой войсками и беженцами дороге, женщины переночевали в стогу сена. Утром Соня проснулась от чьего-то пристального взгляда. У стога стояла женщина. «Вы, бабоньки, военные? — спросила она. — И чего ж вы не скинете ту форму?»[196] Женщина сказала, что здесь уже прошли немецкие танки, но сейчас немцев на хуторе нет. Отведя летчиц к себе, она дала им кое-какую еду и деревенскую одежду: длинные юбки, светлые платочки. Они пошли: невысокая крепкая Соня и тоненькая Ира, не очень сильная физически, которой день ото дня тяжелее становилось идти.
Однажды они столкнулись на дороге с двумя немецкими мотоциклистами. Один из них был занят починкой мотоцикла, а второй начал показывать пальцем на их узелки: там, он знал, была еда. Ира, растерявшись, начала развязывать концы своего узелка медленно-медленно: на дне лежал пистолет. В это время Соня быстро достала свой пистолет и выстрелила в немца. Потом подбежала ко второму и дважды выстрелила в него в упор. Женщины бросились в кусты и долго, что было сил, бежали от этого места.
Советских солдат они увидели только через три недели. Ире тогда уже было очень плохо. Когда выяснилось, что у нее тиф, Соня сдала ее в госпиталь и на попутной машине добралась до своего полка. Огоньки садившихся У–2, прекрасные, как чудо, она увидела издалека. Соня спрыгнула с машины и побежала к своим. Все было позади.
Но настоящий кошмар только начинался. Приставленный к полку сотрудник Смерша — советской военной контрразведки — не разрешил Соне вернуться к работе. Ее стали вызывать в особый отдел дивизии и подробно расспрашивать, точнее, допрашивать о том, как она выбиралась из окружения.
Человек, побывавший в плену или просто на оккупированной территории, нес на себе пятно всю жизнь и даже после смерти. До конца существования советского государства в анкетах отделов кадров существовала графа: «Находились ли вы или кто-либо из ваших родственников на оккупированной территории?» Вырвавшимся из окружения или бежавшим из плена солдатам, которые были вне себя от радости, что попали наконец к своим, и хотели снова идти воевать с немцами, не верилось, что происходящее с ними правда: особисты на допросах нередко требовали от них признания в том, что они завербованы немцами. Если в них выявляли предателей, особенно в случае офицеров, приговором военного трибунала мог стать расстрел или лишение офицерского звания и отправка в штрафную роту. В такой роте можно было «искупить свою вину» кровью и вновь получить офицерское звание, для этого нужно было только уцелеть. Но большинство штрафников погибали в первом же бою: их бросали на самые опасные, самые безнадежные участки.
Даже те, кто до войны считал, что не бывает дыма без огня, что безвинных не арестовывают, не могли поверить, что вернувшиеся из окружения солдаты их части могут быть изменниками родины. Происходящее не укладывалось в голове. И только если часть, в которую возвращались из плена или окружения люди, была в тот момент в самом пекле и срочно требовалось пушечное мясо, этих людей никто не объявлял предателями: им позволяли проливать кровь наравне со всеми.
Насколько безнадежна ее ситуация, Соня Озеркова поняла только после нескольких дней допросов. Она не только была на оккупированной территории, где могла быть завербована немцами, но, что самое ужасное, боясь попасть в руки немцев, собственными руками уничтожила свой партийный билет. Она прекрасно знала, что партбилет в те времена ценился больше человеческой жизни, но, когда уничтожала его, была уверена, что партия ее простит, учитывая исключительность обстоятельств, в которые она попала. Теперь, когда ее постоянно спрашивали о том, при каких обстоятельствах она потеряла партийный билет, нельзя было ни соврать, ни сказать правду: и то и другое не сулило ничего хорошего. Теперь она сама не понимала, правильно ли поступила, и безропотно ждала своей участи.
Соню отправили под суд военного трибунала. Она ждала серьезного наказания, но была поражена, услышав приговор: расстрел. С нее сняли погоны и остригли наголо, она ждала приведения приговора в исполнение. Спас Озеркову, скорее всего, комиссар ее авиационной дивизии, случайно узнавший о том, что произошло (шофер, с которым он ехал, сказал ему: «А у женщин инженера полка приговорили к расстрелу»[197]). Комиссар дивизии ничего об этом не знал, и срочно дал шифровку в штаб ВВС фронта, который приказал приостановить выполнение приговора и пересмотреть дело. Озеркову оправдали, и скоро она снова появилась в полку, наголо остриженная, с неподвижным, окаменевшим лицом. О пережитом она ни с кем не говорила, только после войны призналась кому-то из полка: «Иду по улице, кто-нибудь внимательно посмотрит на меня — я вздрагиваю, и сердце начинает тревожно колотиться…»
Софья Озеркова не была первой и не стала последней из подопечных Расковой, на ком остановила свое внимание военная контрразведка Смерш — могущественный орган который ловил и настоящих шпионов, и выявлял их в совершенно невинных людях, в лучших традициях сталинского режима.
Глава 12
Когда я вернусь, я буду летать
Когда Ира Ракобольская склонилась над носилками, на которых с перекошенным от страшной боли лицом лежала Галя Докутович, Галины серые губы прошептали: «Ира, обещай мне… когда я вернусь, я буду летать».[198] Ракобольская пообещала. Она могла обещать Гале все что угодно: у Докутович был сломан позвоночник и повреждены ноги. Не было никаких гарантий, что она выживет, а если выживет — что будет ходить. То, что Галя сможет вернуться в армию, пусть даже на штабную должность, было совсем невероятно.
В те дни, точнее, ночи в Сальских степях ночные бомбардировщики бомбили переправы, которые немцы наводили через Дон, и сбрасывали маленькие бомбы на немецкие моторизованные части на дорогах. Ночью с воздуха во многих местах было видно пожары, а однажды в дневном вылете Ольге Голубевой случилось увидеть обгорелые развалины городка и поселков, которые поразили ее сходством с кладбищем.
Перерезав железную дорогу Сальск — Сталинград и захватив оба берега Волги, немцы могли бы полностью парализовать сообщение Кавказа с Европейской Россией, лишив СССР всех ресурсов, которые поставлял Кавказ.
Район действия женского полка бомбардировщиков менялся почти ежедневно, следуя за непрестанно движущейся линией фронта. Однажды, когда ночью бомбили с аэродрома в шести километрах от станции Целина, к ним прилетел сам командир дивизии Попов и приказал срочно перебазироваться: станцию уже заняли немцы. Механиков и вооруженцев вывезти было не на чем: не было для них ни места в самолетах, ни автомашин. Они прошли восемьдесят километров пешком, и от окружения их спасло только чудо.
Моральное и физическое напряжение было страшное, часто люди сутками не спали: ночью была работа, днем не позволяла обстановка. Постоянно отступая, полк ночных бомбардировщиков каждый раз с новых степных аэродромов бомбил немецкие войска, двигавшиеся по степям к Сальску и, после падения Сальска, на Кавказ.
Галя Докутович летала, пусть не так часто, как хотела. Она была одной из тех немногих, на ком страшные нагрузки последних дней никак не сказались, по крайней мере на первый взгляд. Как она писала в письме:
«…Хотя внешне война и оставила на мне отпечаток, но внутри мало что переменилось. Все такая же девчонка… В тылу большинство людей, может быть, думает, что здесь, на фронте, каждый день — что-то очень героическое. И люди здесь не простые, а какие-то особенные. Чепуха!.. Все очень просто. Обыкновенная боевая работа. Может быть, мы просто ко всему привыкли — и к непогоде, и к прожекторам, и к зениткам, и к таким темным ночам, что ни неба, ни звезд, когда не только лететь, по земле ходить трудно.
Противоречивые мысли приходят в голову. Иногда мне кажется: война и все, что сейчас вижу, — это быстро пройдет и потом вспомнишь, как полузабытый сон. И думаешь, что здесь видишь лучше, на что способна человеческая душа. Может быть, поэтому жизнь сейчас кажется ярче и шире, все достается дороже».[199]
Гале, с ее необыкновенной волей, казалось необходимым идти к цели даже в самых тяжелых условиях. И сейчас, когда и на земле, и в воздухе творилось черт знает что, она все время просила Иру Дрягину дать ей повести самолет: хотела научиться, несмотря ни на что. Ира, с которой Галя любила летать больше всего, всегда разрешала. Галя уже очень хорошо вела самолет в воздухе, теперь ей хотелось освоить взлет.
День и ночь 25 июля приготовили их экипажу очень плохие сюрпризы. Днем полк опять перебазировался на другой аэродром, и Дрягина разрешила вести самолет Гале. Только самолет оторвался от земли, взлетая с узкой полоски у леса, как из леса неожиданно выскочила грузовая машина. Самолет не успел набрать высоту и зацепился колесами за крышу кабины грузовика. Это столкновение, крайне опасное, окончилось благополучно, они лишь повредили колесо. Перелет продолжили и остались невредимы даже тогда, когда самолет с поврежденным колесом скапотировал при посадке. Но беды не закончились. Ночью на боевое задание на этом самолете лететь было нельзя, и, пока ждали другого, Галя легла отдохнуть в высокую траву на краю аэродрома. Шофер ехавшего по аэродрому бензозаправщика не увидел ее в траве и наехал на нее своей тяжелой машиной.
Какая горькая ирония: выйти без единой царапины из обстрелов немецкими зенитками, спастись от почти неминуемой катастрофы и, заснув в траве, дать себя переехать бензозаправщику. В тяжелом состоянии Галю увезли в госпиталь и эвакуировали в далекий тыл. Следующую запись в дневнике она сделала в госпитале в Махачкале 6 августа.
«Первое время лежала пластом, да и сейчас лежу не двигаясь… Немцы уже в Армавире. Когда же придет конец этому ужасному сну?» В голове вертелась пушкинская фраза: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…» Страшно болел позвоночник, «правое бедро тоже болит, ноги вывернуты».[200] Но Галя Докутович не была бы собой, если бы не делала все возможное и невозможное, чтобы вернуться в строй. В тот же день она записала, что попыталась с помощью двух нянь встать на ноги. Голова закружилась, и, когда она снова легла, «показалось, будто я целый день тяжело работала и смертельно устала». Но вот она уже снова поднимается и ковыляет на костылях. Каким долгим и трудным теперь стал для нее путь в какие-то тридцать шагов!
Шли дни, недели, месяцы госпитальной жизни, постепенно возвращалась способность двигаться, но жестокие боли продолжались. «Галка, ты — Павка Корчагин в девичьем облике», — сказала ей когда-то Ира Дрягина, и теперь Галя перечитывала «Как закалялась сталь», черпая из книги безнадежно больного Островского силы для преодоления страданий. Гале, кумиром которой был Овод, казалось, что никто не должен видеть, как ей плохо. Ей было стыдно, когда она на виду у всех упала в обморок, стыдно, когда заплакала от боли. «А вчера я не выдержала. Заплакала. И отчего? От боли! Мне стыдно, стыдно за свою невыдержанность, за эту слабость, за то, что не сумела скрыть ее». Галя сравнивала себя с Оводом и ругала себя за то, что не была такой сильной, как он, забывая, что Овод существовал лишь на бумаге, выдуманный экзальтированной английской писательницей.
Медленно выздоравливая, проводя много времени на больничной койке, Галя подробно вспоминала и анализировала свое детство и юность, осмысливала себя как личность, думала о любви. Скорее всего, такой возможности погрузиться в себя ей больше не представилось: семь месяцев жизни, отведенные ей судьбой после госпиталя, прошли в безумной круговерти ночных полетов и короткого отдыха днем. О галиных размышлениях в больнице рассказывают ее записи, сделанные аккуратным почерком в долгие месяцы болезни.
Галя Докутович в двенадцать лет переехала из деревни в Гомель и пошла в пятый класс городской школы. Все было так ново — кипучая жизнь, пионерские отряды, физкультурная группа, новые предметы — физика, литература. Галя страстно увлекалась то одним, то другим. Сначала ей казалось, что физика станет делом ее жизни. С той же страстью она увлеклась литературой, и эта страсть осталась с ней навсегда — ведь литература «страшную силу имеет над людьми». В литературном кружке она нашла свою лучшую подругу, с которой уже никогда не расставалась, — синеглазую маленькую Полину Гельман. Одновременно с литературой Галя увлеклась гимнастикой, ведь советский человек должен быть совершенен и духовно, и телесно. Пионерский отряд, его встречи, на которые никто не опаздывал даже на минуту, стали ее жизнью. Следующей страстью стал комсомол, в который она вступила сразу после Полины.
Тридцатые годы были временем молодых. Коллективизация, индустриализация, великие стройки, образование, доступное каждому, рекорды во всех сферах жизни, превосходство нового советского человека над всеми другими людьми (других-то людей не видели). При коллективизации как класс уничтожалось крестьянство, индустриализация и большие стройки осуществлялись в том числе за счет бесплатного труда миллионов заключенных, подхваченных чудовищным маховиком репрессий, но об этом знали лишь те, кого это коснулось лично. На поверхности была колоссальная энергия, подъем, большие надежды.
Галя Докутович была человеком своего времени. Придя, тоже вслед за Полиной Гельман, в аэроклуб, она нашла еще одно, пока самое серьезное свое увлечение — авиацию.
В госпитале каждый вечер показывали кино, и, посмотрев фильм «Учитель»,[201] посмеявшись от души над влюбленными чудаками, Галя задумалась о своем сердце. Переживаний, мучавших влюбленных героев фильма, она еще не испытывала. Уходя на фронт, она знала, что ее любят два парня — Игорь и Юрка, но у нее чувства к ним были всего лишь дружеские. Теперь Галя спрашивала себя, почему же она до сих пор, до двадцати двух лет, не испытала любовь? «Почему я никогда так сильно не переживала, почему не теряла голову? Что это, сила характера или холодность натуры?» И тут же напоминала себе, что она должна быть и будет прежде всего сильной: «Говорят, что искренность и прямота всегда — это плохо. Ну и пусть, это мой принцип. А принципами не поступаются».[202]
Главным ее принципом был принцип ее кумира Расковой: «Мы можем все, мы никогда не сдаемся». Самым важным было сейчас долечиться, вернуть себе подвижность и любым путем попасть обратно в свой полк. Там она была очень нужна.
Степи. Августовская палящая жара, высушенная солнцем высокая трава, пыль. Ночью полк Бершанской летал бомбить врага, днем опять и опять перебазировался. Только на одном хуторе задержались на несколько дней. Там после ночных полетов они спали под открытым небом, а когда просыпались, женщины угощали их парным молоком. Но как-то, проснувшись в полдень, девушки услышали ставший уже привычным шум отступления: ржание лошадей, громыханье повозок, топот и непрерывный гул. Дорога, огибавшая хутор, была запружена войсками. Поившая их молоком женщина стояла с перепуганной дочкой и, горько качая головой, смотрела, как уходят войска. «Ох, не видеть бы этого», — услышала Ольга Голубева ее слова, и ее сердце болезненно сжалось.
Все дальше и дальше от Дона, дальше и дальше на юг, новые степные аэродромы, часто опять за обрезом карты. Следующая большая остановка была в станице, где девушки жили в окруженных фруктовыми садами белых хатках, хозяйки которых принимали летчиц как своих детей. Женя Руднева писала родителям, что «за это время съела столько фруктов, сколько ни за одно лето не съедала… селение — сплошной фруктовый сад, так нам там прямо проходу не было, все угощали абрикосами — в виде сорванных и не сорванных с деревьев, в сушеном виде, в виде пирогов с медом и абрикосами…».[203]
Женщины зазывали их к себе в дома, кормили, рассказывали о своих сыновьях и мужьях, которые были тоже где-то на фронте. «Иногда остановит на улице какая-нибудь женщина, расспрашивает, кто и откуда я, и обязательно расскажет о своем сыне, который в армии и давно не пишет. “Наверное, уж и в живых нет”, — скажет», — писала родителям Женя Руднева. Успокаивая казачек, Женя Руднева рассказывала, что и ее мама часто не получает от нее вестей, ведь полевая почта так плохо работает — а она вот жива и здорова. И, глядя на этих женщин, грустила о своих родных, которых не видела уже почти год.
Когда немцы, стремясь к кавказской нефти, еще поднажали, пришлось оставить и эту станицу. Провожая их с плачем, местные женщины насыпали им абрикосов и в машину, и в тазы, и в мешки и долго бежали за машинами. Девушки, которым было их жалко и стыдно оттого, что они не могут их защитить, тоже плакали, и абрикосы потом «долго напоминали им то трагическое время».
Считается, что Гитлер сделал ошибку, одновременно начав наступление на Сталинград и на Кавказ: на оба направления сил было недостаточно. Начав мощное наступление, немцы к 19 августа захватили большую часть Кубани, лишив СССР основных резервов зерна. Во второй половине августа 1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» установила немецкий флаг на Эльбрусе — высочайшей вершине Европы. Захватив несколько важных пунктов на побережье Черного моря — таких, как порты Новороссийск и Анапа, — немцы продолжили наступать дальше на территорию Чеченской республики. В сводках упоминалось, что они понесли большие потери, в особенности от советской авиации — 4-й воздушной армии Вершинина. Однако их удалось остановить только в сентябре у Моздока.
На направлении «В» — Сталинрадском — все было еще хуже: форсировав в июле Дон, в августе немецкие армии уже подошли к Волге. Юный военфельдшер Леонид Фиалковский, направлявшийся под Сталинград с танковой частью, запомнил пожилого ремонтника, напутствовавшего их следующими словами: «Жаль мне вас, ребятки. Здоровые, умные, а ждет-то вас что? Куда супостат дошел, и никак не остановят. Информбюро еле успевает за ним… Под Москвой стоит, так? Ленинград на измор взял — долго ли продержится там народ? Прибалтика под врагом, Белоруссия, Украина, Крым, Воронеж взял, Ростов. Всю Россию подбирает. Что же нас всех ждет?»[204] Старшина вспылил: «Старик, контру разводишь?» А старик только ответил: «Какая я тебе контра, сынок? Душа болит…» Разговор на эту тему Фиалковский и его товарищи поддерживать не стали, но каждый думал так же, как этот старик: как же случилось так, что немцы зашли так далеко, и чем все кончится? Немцы шли к Сталинграду.
Гитлер считал, что взять Сталинград очень важно по нескольким причинам. Нужно было перерезать сообщение по Волге, крупнейшей транспортной артерии, соединявшей центр России с югом СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. В Сталинграде находились крупные военные предприятия — часть была эвакуирована на восток, но некоторые еще оставались в городе. Наконец, взятие города, носившего имя Сталина, стало бы прекрасным пропагандистским ходом (равно как и удержание его стало важным пропагандистским моментом для советской стороны).
Начав наступление в середине июля, немцы встретили яростное сопротивление русских. Части Красной армии в основном были только что сформированы; прибывавшие из тыла наскоро обученные солдаты и офицеры, изголодавшиеся и ослабевшие в тыловых запасных частях, не имели часто и боевого опыта. «Откуда рвутся на фронт не из доблести, а просто чтоб каши вдоволь поесть…[205]» — вспоминали о таких запасных полках ветераны, считавшие, что должной подготовки они там не получили, а только изголодались и измучались, лучше было их сразу отправить на фронт. Тем не менее за три недели наступления немецкие войска продвинулись всего на шестьдесят-восемьдесят километров. Усилив наступавшую 6-ю армию, немцы смогли в конце концов окружить до трех советских дивизий и выйти к Дону. Вскоре Красную армию вытеснили за Дон. Там, в большой излучине, немцев надолго остановили упорно сопротивлявшиеся советские армии: приказ № 227 делал свое дело.
Те дни майор Еремин вспоминал как самые тяжелые за всю долгую войну.[206] Его 296-й полк, как и другие авиационные части, был вынужден постоянно менять места базирования. Сватово, Ново-Псков, Россошь — все новые и новые аэродромы ближе и ближе к Сталинграду. Перемещения, как правило, сопровождались боевыми заданиями: прикрытие отступающих советских частей, переправ через реки, штурмовка немецких войск. Нередки стали и «особо срочные» вылеты — выход из-под удара. Летали с рассвета и до сумерек: погода стояла сухая и жаркая, в небе ни облачка, нелетной погоды практически не было. Наступала короткая летняя ночь, летчики засыпали, «вымотавшиеся до предела», но нескольких часов темноты не хватало, чтобы сбросить усталость. На рассвете начинался новый, бесконечный, полный страшного напряжения день. Нередко, проснувшись с ощущением тревоги, Еремин получал от Николая Баранова приказ уводить часть полка от наступавших немецких танков. Баранов следовал за ним, ведя остальных. Взлетая во главе группы, Еремин видел, как «Батя» энергично машет ему руками: «Давай, давай, быстрее!» Технический состав отправлялся следом, но на новом аэродроме самолетами сразу начинали заниматься два или три техника, привезенные в фюзеляжах Яков. Путешествовать так было не очень приятно, однако намного веселее, чем выбираться своим ходом, убегая от наступавших немцев. Счастливцы, летевшие вместе с летчиками, безропотно переносили все неудобства перелета. Протиснувшись в створку на левом боку Як–1, через которую техники ремонтировали самолет, «пассажир» пролезал внутрь фюзеляжа и ложился на радиатор, подложив под себя брезентовый чехол, чтобы как-то защититься от жары: во время полета температура воды в радиаторе могла подняться до 90 градусов, и «пассажир» «за полчаса полета “прогревался” так, что, ступив на землю, долго еще не мог прийти в себя». Таким же способом на новые аэродромы добирался и инженер полка. Еремин, как мог, старался облегчить «пассажиру» полет: открывал полностью переднюю створку в «фонаре» — своей стеклянной кабине, — чтобы ее продувало встречным воздухом, который чуть-чуть доходил и до «пассажира». Время от времени Еремин пытался узнать, как «пассажир» себя чувствует: «если в узенькую щель сзади сиденья летчика он просовывал большой палец, значит, чувствовал себя хорошо или, по крайней мере, был еще жив». И такие перелеты, и всякие другие трудности фронтового быта вместе с техниками-мужчинами безропотно переносили девушки. Совсем юные, восемнадцати-двадцати лет, они обслуживали самолеты не только в полках у Расковой, а в большинстве авиационных частей, где служили вооруженцами. Характерно, что после войны большинство летчиц из женских полков продолжили или, по крайней мере, пытались продолжить летать, однако все до единой техники и вооруженцы выбрали себе другие профессии: работа, несмотря на убежденность Расковой в обратном, действительно оказалась неженской, подрывавшей здоровье.
Отступая к Сталинграду, 296-й полк часто базировался на площадках, открытых всем ветрам, — полях с чахлой растительностью, где поднималась пыль от песка, а никаких укрытий не было. Не имели эти полевые площадки, конечно, и прикрытия зенитной артиллерии. Какое-то время истребители прикрывали переправы через Дон в районе Калача, к которым с утра до вечера шли волны немецких бомбардировщиков: Ю–88, Хе–111, Ю–87. Их прикрывали «Мессершмитты», не оставляя советской авиации практически никакой возможности защитить свои переправы.
Вылеты полка Баранова в те дни были лишь началом многомесячных боев в небе Сталинграда, но они «были самые тяжелые». Неравенство сил было очевидным. Устаревшие самолеты постепенно заменяли более современными, в первую очередь «первыми яками», но воевать на них приходилось новичкам: большинство опытных пилотов на несовершенной технике немцы выбили в первый год войны. Для многих молодых летчиков, которых вводили в строй под Сталинградом, первый бой оказывался последним. Неопытные, они в бешеной карусели воздушного боя не могли сориентироваться, стараясь только изо всех сил держаться за ведомым. Такие «желторотики» становились легкой мишенью для опытных немецких летчиков, которых сосредотачивали именно на Сталинградском, самом важном направлении: вскоре после начала боев стало известно, что здесь воюет 4-й воздушный флот фон Рихтгофена. У советской стороны летчиков, равных немцам по уровню или превосходивших их, было немного. В сталинградских боях прославился сбивавший много немецких самолетов Михаил Баранов, однофамилец командира 296-го полка Николая Баранова (их часто путают, так как оба воевали под Сталинградом и оба погибли в 1943 году). Появлялись новые знаменитости: Решетов, Алелюхин, Амет-Хан Султан, Сержантов, совсем юный Женя Дранищев. С такими летчиками, уже набравшимися опыта, вводили в строй молодое пополнение. «Вывозить» новичков старались постепенно, но часто было не до пополнения. Нередко приходилось даже садиться на своем аэродроме под огнем немецких истребителей. У немцев отлично работала разведка, и они знали расположение советских аэродромов. Однажды, когда большая часть самолетов полка Баранова заправлялась горючим и боеприпасами, внезапно налетели два десятка «мессершмиттов», блокировавших аэродром. Немецкие истребители натворили беды: сожгли много самолетов, вывели из строя летное поле, которое теперь было покрыто воронками, и набросали множество «лягушек» — мелких противопехотных мин.[207]
На рассвете следующего дня уцелевшие самолеты перелетели на полевой аэродром в пятнадцати-двадцати километрах к югу от Сталинграда. Снова защищали переправы в районе Калача, а также прикрывали Пе–2, бомбившие прорвавшиеся немецкие танки. Немцы уже были в пятидесяти километрах от города, и полк был переведен на аэродром, находившийся в самом Сталинграде. Этот аэродром еще называли «школьным» — вероятно, потому, что на нем раньше обучались курсанты Сталинградской летной школы. Разместили их в домах покинувших город жителей, и они, проводя короткие ночи на кроватях с никелированным шариками, около комодов со старомодными слониками — символом домашнего уюта и благополучия, не могли представить себе большего контраста, чем между этими мирными жилищами и тем адом, который творился сейчас рядом с городом, да и в самом Сталинграде, — по самому городу уже била немецкая бомбардировочная авиация. Сила налетов нарастала с каждым днем, пока наконец 23 августа не достигла своего жуткого апогея.
«Красная звезда», «Правда» и «Сталинские соколы» печатали статьи о победах советских танков, артиллерии и «ястребков», как всегда замалчивая всю серьезность реальной ситуации. Писали о летчиках-звездах, сделавших себе имя в сталинградских боях. Где-то в нескольких сотнях километров, тоже у Волги, дрались, покрывая себя славой, ребята-истребители, их ровесники, а летчицы женского полка не принимали в происходящем никакого участия! 586-й истребительный полк, состоявший из лучших летчиков (за исключением, как горько шутили, «майорши»), все так же стоял на Анисовском аэродроме, в бескрайней мирной степи среди запахов трав и пения жаворонков.
«В это тяжелое время мы считаем себя отдыхающими, между тем как здесь могли бы так же “отдохнуть” уставшие и утомленные братские полки», — писала Лиля маме.[208]
Они по-прежнему отвечали за противовоздушную оборону Саратова, и по-прежнему ничего не происходило. Лиля привыкала к дежурствам: сидишь в самолете и ждешь вылета, и в дождь и в зной, привязанная ремнями в теплом комбинезоне, и часто совсем ничего не происходит. Когда нечем заняться, особенно скучаешь по дому и своей обычной жизни. «Дорогая мамочка, — писала Лиля в одно из таких дежурств. — Мне часто снится, что мы с тобой идем, спешим куда-то в гости или в театр, такие наряженные-наряженные, такие веселые, и ты у меня такая молодая, веселая. Становится так радостно, сама не знаю почему. Дай Бог бы, сбылось».[209] Лиля, хоть и была комсомолка, верила и в сны, и в гадания. «Мои сны всегда были точные», — писала она.
Скучала не только по маме и Юре, но даже по отцу, с которым после ухода из семьи практически не виделась и который в 1937 году исчез без следа, неизвестно было даже, жив ли. «Я сегодня дежурю, — писала она в другом письме. — Встала в два часа ночи и целый день не отхожу от самолета. Передо мной степь, аэродром. Вот справа поезд в Москву идет. И все так грустно, одиноко… Юра, если сможешь, пришли мне папину карточку».[210]
Эти дежурства, долгие часы, которые просиживали в ожидании вылета, скрашивали летчикам механики и вооруженцы. Летчики приглашали их посидеть на «плоскости» — крыле самолета и поболтать о разном. Командиры эскадрилий это не приветствовали, особенно Лилин командир, Беляева, но Лиля не очень ее слушалась. «Валь, сядь на плоскость», — звала она вооруженца Валю Краснощекову. Валя садилась, и они болтали обо всем, что имели общего: Москве, где Лиля жила, а Валя училась, о прочитанных до войны книгах, о театрах, которые обе любили, особенно об оперетте. Лилиной любимой опереттой был «Цыганский барон»: «Я цыганский барон, я в цыганку влюблен!..»[211] Могли даже и спеть вместе. Книг Валя Краснощекова прочитала гораздо больше, чем Лиля, и тянувшаяся к культуре Литвяк любила с ней говорить. Вале Лилька нравилась: хорошая летчица, красавица и кокетка, но веселая, простая в обращении, не делавшая различий между летчиком и нелетчиком — «черной и белой» костью, как шутя говорили в части Расковой. Катя Буданова вела себя по-другому. Намного проще и грубее, чем Лиля, простая деревенская, потом заводская девушка, она своим поведением всегда показывала механикам и вооруженцам, что те стоят ниже ее. При этом Катя была такая яркая, такая грубовато остроумная, такая находчивая в любой ситуации, такой надежный товарищ, что ей можно было простить даже этот снобизм. Вспоминая ее позже, Валя Краснощекова думала о том, что Кате не нужно было ни высветлять себе волосы, ни губы подкрашивать, ни одеваться во что-то особенное, чтобы быть замеченной. Всегда и везде она была ярче всех.
Шли летние месяцы в жаркой степи, монотонные дежурства. И вдруг как гром среди ясного неба грянула первая смерть в полку, ужасная своей нелепостью. Полк потерял одну из лучших летчиц, красивую, стройную и женственную Лину Смирнову. Лина в прошлом работала учительницей, писала стихи и была чувствительнее других. По общему мнению, беда с ней произошла из-за того, что она не выдержала травли командира своей эскадрильи Беляевой. Травила Беляева и других, но Смирнова оказалась самой восприимчивой.
21 июля четверку Яков — Буданову, Смирнову, Литвяк и Машу Кузнецову — отправили сопровождать транспортный самолет «Дуглас» с каким-то высоким начальством. «Ждем-пождем, а “Дугласа” все нет»,[212] — вспоминала Кузнецова. Потом пришел новый приказ: Буданова и Лина Смирнова должны догонять транспортный самолет, который, как оказалось, прошел стороной, и сопровождать его до Пензы. Такое случалось нередко. Буданова со Смирновой тут же взлетели. Задачу им поставили не из легких: «обычно видишь, кого охранять, а тут еще и догони».[213] Встреча с «Дугласом» не состоялась: они взяли неверный курс и «блудили». Горючего в первых Яках хватало на час тридцать. Теперь речь шла не о том, чтобы найти «Дуглас», а о том, чтобы благополучно посадить самолет: если до исхода горючего не найдешь аэродром, придется идти на вынужденную посадку в степи. Идя на вынужденную посадку на неподготовленной площадке, летчик, согласно инструкции, должен садиться на фюзеляж. При этом неминуемо будет поврежден пропеллер, ведь он окажется на уровне земли. Если двигатель перед посадкой не выключить, будет поврежден и двигатель. В свою очередь, посадка на колеса намного опаснее и для самолета и для летчика: самолет мог, налетев на высокой скорости на препятствие или попав колесом в яму, перевернуться, убив или покалечив пилота. Сам самолет при этом пострадал бы намного серьезнее, чем при посадке «на пузо» — фюзеляж. Зато в маловероятной ситуации, когда под колесами оказалась бы гладкая поверхность, самолет, пробежав по ней и остановившись, был бы совершенно цел.
Лина Смирнова вылетела на самолете Беляевой, поэтому особенно переживала. Отношения с Беляевой, очень строгой к своим подчиненным, у Смирновой не сложились. В одном из вылетов с ведомой Смирновой Беляева ее потеряла и с тех пор, по общему мнению, травила Смирнову, внушая всем, что Лина — плохой летчик. Смирнова переживала все это очень болезненно; а если ее хвалили, радовалась как ребенок.[214]
Разбить самолет Беляевой Смирновой казалось катастрофой. Сыграло свою роль в принятии решения относительно посадки и отношение человека к своей боевой машине, будь то танк, самолет или корабль: в нем «было что-то от отношения кавалериста к лошади: техника воспринималась почти как живое существо, и, если была хоть малейшая возможность ее спасти, даже рискуя собственной жизнью, люди это делали».[215] Что и говорить о новых, таких долгожданных самолетах, самых совершенных по тому времени.
Молодым свойственно рисковать. Обе летчицы решили сыграть в рулетку, посадив самолет на колеса. В степи, где они садились, стояла трава высотой в полтора метра, и точно рассчитать угол посадки было невозможно. Почва оказалась очень неровной. Буданова все же села хорошо, а Лине не повезло. Получился «высокоскоростной капот»: самолет, по всей видимости, попал одним колесом на неровность почвы, ямку или бугор, что на такой скорости кончается очень плохо. По мнению свидетелей катастрофы, он «ударился о землю, перевернулся на бок, ударился крылом и хвостом и снова встал в нормальное положение». Смирнова чудом осталась жива и невредима, самолет почти не пострадал, только погнулся винт. И все же, несмотря на это огромное везение, у молодой летчицы «не выдержали нервы». Выйдя из самолета и увидев, что он поврежден, Лина Смирнова порвала все документы, написала записку и выстрелила себе в голову.[216]
По мнению Маши Кузнецовой, такой финал был непредсказуем: «Кто бы мог подумать, что такая решительная и смелая Лина пойдет на самоубийство?» А вот Нина Ивакина считала, что это «дикое, ничем не оправданное решение» Лина принимала не только под влиянием момента — слишком здраво и решительно она привела его в исполнение. «Мне кажется, что это решение у нее назрело давно ввиду сложившихся отвратительных отношений у них в эскадрилье. Из-за командира Беляевой».[217] Мнение Ивакиной о том, что Смирнову довела до самоубийства травля командира эскадрильи Беляевой, разделяли почти все. Беляеву мало кто любил, а теперь к ней стали относиться почти враждебно.
Техник звена Санинский приехал на место катастрофы с механиком Ниной Шебалиной. Самолет Беляевой погрузили на машину и в полковых мастерских без особых трудностей восстановили. А Нине Шебалиной все не верилось, что не стало «самой дорогой жизни… молодой, красивой, обаятельной девушки… Какое горе, какая бесполезная смерть».[218]
Запись о самоубийстве Лины Смирновой стала последней записью в дневнике комсорга Нины Ивакиной. Она пробыла на фронте до 1944 года, но с осени 1942-го служила комсоргом в мужском воздушно-десантном батальоне: осенью 1942 года политруков в Красной армии не стало. Ненавидевшие политработников так же сильно, как и все в армии, советские военачальники Конев и Жуков воспользовались тем, что командный состав Красной армии понес большие потери и требовалось кем-то заменять выбывших офицеров, и убедили Сталина избавиться от политруков. Жуков, в узком кругу называвший политработников «шпиками», возмущался: «Зачем они мне? Учить солдат «Ура» кричать? И без них прокричат. Толку от них никакого на фронте… Сколько же можно их терпеть? Или мы не доверяем офицерам?»[219] После демарша Жукова и Конева Сталин стал выяснять мнения других по этому вопросу, и институт политруков решили упразднить. Комиссары стали замполитами, или заместителями командира по политической части, но не имели прежних полномочий. Теперь они «меньше мешали жить».[220]
Глава 13
Ни на земле, ни в воздухе не было передышки
С рассвета 23 августа полк Баранова, как во все предыдущие дни, начал вылетать на боевые задания. К тому моменту, когда над Сталинградом появились сотни немецких бомбардировщиков, сам Баранов и многие летчики вернулись из очередного вылета. Кто-то заправлялся, кто-то в готовности ждал команды на взлет. Гул немецких тяжелых машин одновременно услышали все, кто находился в тот момент на аэродроме.
Через мгновения над городом стоял непрерывный свист падающих бомб и гул взрывов, перекрываемый ревом двигателей самолетов. Около десятка бомбардировщиков сбросили бомбы на Школьный аэродром и прилегающие к нему территории. Кинувшись к самолетам с Алешей Соломатиным, Борис Еремин мысленно отметил, что среди взрывов, суеты и хаоса секунды кажутся вечностью. Взлететь с аэродрома было сейчас сложно, но еще возможно. Если на него упадет еще несколько бомб, он превратится в западню. Баранов дал указание взлетать на отражение налета, и командир эскадрильи Балашов, присоединившись к бегущим Еремину и Соломатину, с невозмутимым, как всегда, лицом спросил Еремина, не забыл ли тот захватить с собой «трантишки»: так он почему-то называл маленький саквояж, в котором Еремин хранил все свои фронтовые пожитки — фотографии, станок для бритья, туалетные принадлежности, — которые он всегда таскал с собой, беря при перелетах саквояж в самолет. То, что предстоял перелет на другой аэродром — только на какой? — сейчас ясно видел каждый, и саквояж был с Ереминым. Володя Балашов, усмехнувшись, махнул ему рукой. Через полчаса Еремин увидел друга уже мертвым. Его самолет был сбит, загорелся и взорвался, а летчика выбросило из кабины взрывом, так что тело не обгорело — редкость при воздушных катастрофах.
В ямы, оставшиеся от бомбежки, поставили палки с тряпочками. Их было очень много. При разгоне приходилось лавировать, менять направление разбега, при этом сохраняя скорость. Еремин пошел первым, за ним Соломатин, при разбеге повторивший те же маневры. Оба взлетели удачно, пошли в направлении завода «Баррикады», потом на север вдоль Волги и, оставив город позади, развернули самолеты к левому берегу Волги, чтобы вместе с другими истребителями атаковать немецкие бомбардировщики. Город полыхал. Горели нефтяные хранилища. Густой черный дым, высоко поднимаясь, расстилался вдоль берега к югу. К грохоту разрывов и вою бомб примешивались протяжные гудки заводов, речных судов, сирен. «Ни на земле, ни в воздухе не было передышки».[221]
Первые же немецкие бомбежки заставили замолчать большую часть сталинградских зениток. После того как «рама» — ненавидимый всеми немецкий самолет-разведчик — установила местонахождение зенитных батарей, их бомбили целенаправленно. Восемнадцатилетняя Наташа Шолох из зенитной батареи первого дивизиона 1083-го зенитно-артиллерийского полка, размещенного в деревушке Красная Слобода на левом берегу Волги у Центральной переправы, увидела со своего поста в ровике в двухстах метрах от батареи, как к Центральной переправе движется «целая свита» немецких бомбардировщиков. Вдруг от них отделился Ю–87, который начал пикировать — как показалось девушке, прямо на нее. В ужасе заметавшись по своему земляному убежищу, Наташа наконец схватила огромный куст перекати-поля и, присев, закрыла им голову. Потом ей почему-то казалось, что этот куст спас ей жизнь. Прибежав к штабу своего дивизиона, Наташа увидела страшную картину: в этой бомбежке не уцелел почти никто. Погиб практически весь личный состав: шоферы, радистки, телефонистки, повара, разведчицы. Одна бомба попала прямо в оперативную землянку, где находилось командование дивизиона. Там погибли командир дивизиона капитан Алексеев, начальник штаба, командир взвода управления. Комиссара контузило, и он ослеп. Многие девушки-зенитчицы были не убиты, а ранены, но помощь им оказать было некому: военфельдшеру Гале оторвало ногу и ранило в живот, она скончалась на месте. Сбросив бомбы, немецкие летчики стали из пулеметов расстреливать девушек-разведчиц, которые стояли на вышках. Многие были убиты, а разведчица Женя Белостоцкая истекла кровью на своей вышке: ей прострелили ноги и она не могла спуститься.[222]
Советские летчики из страшно поредевших истребительных полков, как Еремин и Соломатин «врывавшиеся во вражеский строй», лишь «выбивали из стаи единичные неприятельские самолеты». Но все остальные уходили, чтобы вскоре вернуться с новым запасом бомб. Примерно через полчаса после начала бомбежки загорелись огромные емкости с нефтью на берегу Волги. Эти колоссальные факелы осветили город, и с этим освещением немецкие бомбардировщики продолжили «класть по жилым кварталам бомбовые ковры из осколочных и зажигательных бомб».[223] Сталинград превратился в сплошной огненный костер. Комиссар авиационного полка Дмитрий Панов, пробиравшийся к волжским переправам через горящие кварталы, вспоминал, что более ужасной картины ему не приходилось видеть за всю последующую войну. Немцы заходили со всех сторон — сначала группами, потом одиночными самолетами. В реве огня слышался какой-то стон, и казалось, будто из-под земли тоже идет гул. Истерически рыдали и кричали тысячи людей, рушились дома, рвались бомбы. Среди ревущего пламени дико выли коты и собаки. Крысы, выбравшись из своих укрытий, метались по улицам. Голуби, поднявшись тучами, хлопали крыльями, встревоженно крутились над горящим городом. Город дрожал, как будто оказался в жерле извергающегося вулкана. Спокойное, находчивое поведение мужиков-волгарей в этом чудовищном костре отпечаталось в памяти многих: «они не растерялись и действовали, как русские мужики на пожаре — энергично и смело. Вытаскивали из горящих домов людей и кое-какой скарб, пытались тушить пожары».[224] Хуже всего приходилось женщинам. Буквально обезумев, растрепанные, с живыми и убитыми детьми на руках, дико крича, они метались по городу в поисках убежища, родных и близких. Женский крик производил не менее тяжелое впечатление и вселял не меньше ужаса даже в самые сильные сердца, чем бушующий вокруг огонь. Дело шло к полуночи. Комиссар пытался пройти к Волге по нескольким улицам, но все время упирался в стену огня.
Непрерывные бомбежки, постоянные воздушные бои, в которых советские летчики, как могли, пытались защитить Сталинград, продолжились и в следующие дни. Летчик 4-го истребительного полка Владимир Лавриненков, которому посчастливилось выжить в тех страшных боях, вспоминал, как небо буквально кишело вражескими самолетами. Было понятно, что немцы намерены смести город с лица земли. «Мы знали, что рядом действуют летчики соседних полков, однако видели перед собой только вражеские машины, а внизу сплошные пожарища»,[225] — вспоминал Лавриненков, который, провоевав с июля 1941-го до самого конца войны, дважды стал Героем Советского Союза.
Глядя в небо с левого берега Волги, девушка-шофер авиационной части считала падавшие самолеты. «А над городом — на том берегу — сплошное марево пожара, розовато-черные тучи пыли, беспрерывный грохот… Над каждой из переправ, буквально над каждой, роятся самолеты. Если б не знать, что это сошлись в бою две смертельно враждующие стороны, не видеть алеющих звезд на крыльях наших истребителей, закрещенных свастикой “Юнкерсов”… Если бы не фонтаны воды от сброшенных в воду бомб, не прямые попадания то вправо, то влево от нас… Если б не это, можно подумать, что летчики ведут в воздухе какую-то захватывающе азартную игру, взмывая машины ввысь, падая коршуном, заходя друг другу в хвост, догоняя, кружась… Глаз не оторвать, а душа мрет от страха за наших!»[226]
Летчиков всегда кормили хорошо, даже в Сталинграде: в столовой был и борщ, и мясо, но им «совсем не хотелось есть… Губы, все время спекшиеся от жары…»[227] Между вылетами хотелось только выпить воды или съесть кусок арбуза: арбузов в Заволжье в это время года море. Напряжение было огромное, настроение подавленное. Ветераны полка — Соломатин, Мартынов, Еремин, командир «Батя» Баранов — в те дни чувствовали пустоту. Гибли молодые летчики, не успевшие приобрести опыт; все меньше оставалось людей, вместе с которыми они начинали воевать в 1941 году. Сил и желания разговаривать друг с другом в короткие минуты отдыха они не находили. В землянках, в степи на аэродроме под Ленинском, стояли нары, на них накрытая брезентом солома. Ложились отдохнуть, но уснуть не могли. Обменивались короткими наблюдениями: «Горит масло в двигателе, плохо тянет». — «Заметили, “мессеры” опять атакуют друг за другом по одной цепи — наверное, молодежь в строй вводят». — «Эх, искупаться бы сейчас…» — «Ложись, скоро опять пойдем», — отвечал товарищ. Когда возвращалась из вылета очередная смена летчиков, Соломатин и его товарищи без слов поднимались, снимали с гвоздей планшеты и шлемофоны и шли в очередной вылет, может быть последний.
Сидя рядом с Сашей Мартыновым, Борис Еремин молчал. Ему казалось, что у Мартынова такие же, невеселые, мысли. Может, так оно и было, но Саша, повернув к Еремину голову, вдруг спросил сочувственно: «Ну как, Борис Николаевич, не замерз?»
«Неистребимо жизнелюбивый парень», — подумал Еремин. Четыре или пять боевых вылетов каждый день, такие бои, а он шутит! Только такие люди, как он, были здесь на своем месте, — люди, создававшие в полку атмосферу уверенности.
Из тех дней Борису Еремину запомнился эпизод, сильно травмировавший его даже на фоне остальных, не менее драматичных событий. Получив уведомление о гибели своего сына, молодого летчика, отец как-то отыскал полк Баранова и появился там. Поговорить с ним, рассказать все, что можно, о коротком пребывании его сына в полку Баранов поручил Еремину. Но что рассказать о пареньке, который «прожил в полку всего несколько дней в нетерпеливом ожидании боя и погиб на первом или втором боевом вылете»?[228]
Еремин собрал молодых летчиков, у которых было много общего с погибшим юношей, и все вместе они долго разговаривали с отцом погибшего. Еремину показалось, что этот человек уже начинает «постигать те реальные условия войны… на Сталинградском фронте, о которых человеку несведущему рассказать просто невозможно». Но неожиданно отец спросил: «Где находится могила сына? Отведите меня на могилу, я хочу побыть с ним». Еремин молчал, в горле у него стоял комок. Этот человек так ничего и не понял. Что можно ему ответить? Какая там могила, под Сталинградом? Подбитые в бою или сбитые товарищи Еремина падали в Волгу или на дымящиеся развалины города… Еремин попытался перевести разговор, стал рассказывать о товарищах, погибших в сорок первом. И вдруг отец сбитого летчика понял, что могилы нет. «Уронив голову и обхватив ее руками», он плакал.[229]
Отрезанная от остальных сил Сталинградского фронта, прижатая прорвавшимися немецкими частями к Волге, 62-я армия с помощью местного населения строила в разрушенном городе укрепления, устанавливая огневые точки в зданиях и на заводах. Боеприпасы, подкрепления и продовольствие она теперь получала только с помощью рискованных переправ через Волгу.
Для огромного количества находившихся в городе беженцев и для сотен тысяч его обитателей, только теперь утративших веру в то, что город, носящий имя Сталина, никогда не будет сдан врагу, оставался один путь к спасению: переправиться через Волгу. Но это становилось все труднее. Паромов и буксиров становилось с каждым днем меньше, переправы страшно бомбили. Они превратились в настоящий ад. В ожидании очереди на посадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых и прятались от бомбежек. А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. «Уже не лошади, а даже коровы шли, навьюченные скарбом, надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, босые, запыленные, измученные люди шли и шли Бог весть откуда…»[230] После гибели 28 августа парохода «Иосиф Сталин» («город всполошило страшное известие: “Сталин” утонул!” — пароход этот был известен всему городу»), на борту которого было 1200 раненых и мирного населения, эвакуация судами вверх по Волге прекратилась. Неизвестно даже приблизительно, сколько жителей вышли живыми из огненного ада на левый берег Волги…
С 23 по 31 августа оборонявшая Сталинград 8-я воздушная армия потеряла больше двухсот самолетов. В начале сентября самолетов — и исправных, и нуждавшихся в ремонте — осталось всего 192.[231]
Командующий 8-й воздушной армией Тимофей Хрюкин в сентябре 1942-го спал в сутки всего по три-четыре часа. Авиация была молодой профессией, и авиаторы были молоды, а Хрюкин, выходец из крестьян, высокий и плечистый, со светлыми глазами и руками молотобойца, был самым молодым из командиров советских воздушных армий: в 1942 году генерал-лейтенанту Хрюкину было всего тридцать два года. Ставка Верховного главнокомандования дала Хрюкину приказ атаковать немцев всеми имеющимися у него средствами, собрав все самолеты, однако этот приказ был излишним. Он и так использовал все имеющиеся у него самолеты.
На 1 сентября во всей воздушной армии оставалось, согласно ее официальным историкам, «всего 97 исправных истребителей», среди них много устаревших и совершенно непригодных для боев с немецкими машинами — например, выпущенные в тридцатых годах И–15, прозванные за постоянные аварии «гробами». Бомбардировщики летали без прикрытия, все имеющиеся истребители отправляли противостоять немецким бомбежкам. Хрюкин добился приказа, согласно которому следовало в течение двух недель передавать ВСЕ выпускаемые Саратовским авиационным заводом Як–1 в 8-ю воздушную армию.[232] 6 сентября директору завода Левину звонил лично Сталин, выяснявший, сколько у него есть самолетов, и приказавший увеличить их выпуск, а всю готовую продукцию как можно скорее отправить на Сталинградский фронт. Стоит ли удивляться тому, что первую эскадрилью 586-го женского истребительного полка перевели в оборонявшие Сталинград мужские полки? Ведь в ней было целых восемь новых самолетов — больше одной десятой от количества истребителей во всей воздушной армии! Официальной задачей, согласно подписанному командиром дивизии ПВО генералом Осипенко приказу, была борьба с немецкими самолетами-разведчиками.
Новость о переводе заставила плясать от радости восемь летчиц плюс технический состав. Всем показалось, что командир полка расставалась с половиной личного состава без малейшего сожаления. Правды теперь не узнать, но, если принять во внимание конфликтную ситуацию в полку, кажутся здравыми выводы исследователей о том, что первую эскадрилью убрали из полка по просьбе Тамары Казариновой, чтобы предотвратить — или прекратить уже начавшийся — бунт в полку.[233] Александр Гриднев, сменивший Казаринову на посту командира 586-го полка, писал в своих воспоминаниях, что Казаринова сама попросила об этом генерала Осипенко, с которым дружила.[234] Осипенко, воевавший в Испании и сделавший быструю карьеру в советских ВВС благодаря славе своей жены Полины, погибшей в авиакатастрофе вскоре после своего знаменитого перелета с Гризодубовой и Расковой, был, по мнению подчиненных, большой самодур. Этому человеку, с легкостью посылавшему своих летчиков на почти верную смерть (например, он настаивал на придуманном им самим графике полетов, который был в реальности чреват самыми печальными последствиями), не считавшемуся ни с чьим мнением, ничего не стоило по просьбе своей приятельницы Казариновой услать неугодных ей людей хоть на край света, не говоря уже о Сталинграде, где так остро не хватало и людей, и техники.[235]
Глава 14
А и поплачем. Ничего. Не обращайте внимания
Приказ объявила сама Раскова, специально для этого прилетевшая из Энгельса в Анисовку.[236] Как она объявила выстроенному перед ней полку, под Сталинградом сложилась очень тяжелая обстановка, у немецкой авиации преимущество, и из полка требуются добровольцы, желающие временно служить там. Как когда-то в педагогическом институте, когда Валя Краснощекова решила пойти на войну, прозвучало: «Добровольцы, шаг вперед». Валя, не задумываясь, шагнула. Вместе с ней шагнули все. Конечно, не все были героями; по крайней мере, среди технического состава имелись и такие, кто не горел желанием отправиться прямо в пекло, но в данных обстоятельствах не сделать шаг вперед было неудобно перед товарищами и даже опасно: представитель особого отдела сразу взял бы тебя на заметку как потенциального дезертира. Из технического состава кадры для Сталинграда отобрала комиссар Ольга Куликова. Что касается летчиков, то под Сталинград решили временно перевести всю первую эскадрилью, причем два ее звена — звено Раисы Беляевой и звено Клавдии Нечаевой — отправили в разные полки. Летчицы ликовали: наконец-то сбылась их мечта. Радовались и девушки-техники, уверенные, что их каторжный, непосильный труд, принимавшийся начальством и летчицами как должное, принесет больше пользы на линии фронта, чем в Саратове. «А летчицы мечтали только об одном: принять участие в настоящих боях. Нельзя даже описать, что с ними творилось».[237] Они будут сражаться наравне с мужчинами. Они смогут наконец в полной мере применить свое приобретенное в мирное и военное время летное мастерство. Наконец и у них будут воздушные бои и воздушные победы.
Почти целый год, проведенный в армии, военный быт и, главное, необходимость подчиняться, к которой так трудно привыкнуть штатскому человеку, не убили в летчицах романтического отношения к войне и к воздушным боям, которых они еще не видели. «Для нас война пока что оставалась как в школьной хрестоматии — красиво летишь на тачанке в чапаевской папахе и строчишь из всех пулеметов!» — так через много лет вспоминала себя тогдашнюю Клава Блинова.[238] А что может быть красивее, чем защищать небо Родины от ее заклятых врагов за штурвалом истребителя Як, машины, с которой летчик сливается в бою в единое целое, которая послушна его воле, на которой он в бою будет на равных даже с самым страшным противником.
Девушки быстро собрали немудреные пожитки, постирали в корыте вещи и попрощались с товарищами из второй эскадрильи. Летчицы второй эскадрильи во главе с Женей Прохоровой, конечно, завидовали. Боялись — не напрасно, — что больше за войну им не представится возможности участвовать в боях на линии фронта. Им было так обидно, что не их отправляют на фронт, что произошел невероятный инцидент. Старший сержант Анна Демченко — черноглазая, отличавшаяся прекрасной техникой пилотирования, но крайне недисциплинированная, самая азартная и неуправляемая из летчиц, штопорившая на тренировках шесть витков вместо максимальных четырех, задира и матерщинница, — совершила поступок, немыслимый для военного человека: через несколько дней после отправки первой эскадрильи улетела в Сталинград самовольно. Насколько известно, наказана она за это не была.
Перед вылетом объявили общее построение, и полк «замер в торжественном молчании на выжженной солнцем траве. Зачитан приказ. Еще минута-другая — и…эскадрилья уйдет туда, где решается судьба Родины».[239] Из этих восьми летчиц пять погибли, одна попала в плен.
За техниками прилетели два самолета СБ — вовсе не пассажирская модификация, а самые обычные бомбардировщики. Путешествия с комфортом подождут до после войны! Девушек загрузили в бомболюки, самолеты поднялись и полетели. В бомболюках было, понятное дело, совершенно темно, к тому же многие девушки начали страдать от болтанки. Валя Краснощекова и Нина Шебалина выдержали, но многих рвало. Потом самолет вдруг сел на какой-то аэродром, видимо из-за того, что его обстреляли. «Сели, открыли нам эти люки, мы вывалились оттуда, некоторые даже легли, мы в таком состоянии были», — вспоминала Нина Шебалина. Но отдохнуть на этом незнакомом аэродроме не удалось: прибежал матерящийся военный, сообщивший им, что аэродром только что бомбили и повсюду остались «лягушки» — противопехотные мелкие мины, которые, если на них наступишь, подпрыгивали и взрывались. Оказалось, что этот аэродром обстреливает и немецкая артиллерия: враг совсем близко. Девушки попали под обстрел и бомбежку впервые и здорово напугались. Прибежавшие мужчины-техники столкнули их в щели и прикрыли своими телами.[240] Так и пролежали, пока все не стихло. Нина Шебалина потом удивлялась, что никого из техперсонала тогда не убило. «Поднялись быстренько и полетели дальше. Наш самолет сел на один аэродром, и следующий — на другой».
Летчицы, улетев из своего полка, приземлились в поселке Верхняя Ахтуба, недалеко от Сталинграда и от Волги. Оказалось, как и в случае с техниками, что, пока они были в воздухе, немцы подошли совсем близко. Почти весь аэродром эвакуировался, самолетов на нем уже не было. Подбежал техник и стал просить летчиц немедленно покинуть поле: «Аэродром обстреливается прямой наводкой!..» И действительно, совсем рядом стали рваться снаряды. Первой взлетела Буданова. Теперь уже Беляеву с ее звеном направили на тот же аэродром, что и звено Клавы Нечаевой: в Среднюю Ахтубу, в двадцати километрах от Сталинграда на противоположном, левом берегу Волги.[241] В «маленьком дощатом городке»[242] в садах убирали урожай, копали картошку. В палисадниках цвели осенние цветы. Сталинград был относительно далеко, и его адский шум доносился до Средней Ахтубы только далеким неясным гулом. Девушки услышали город только через несколько дней, перебазировавшись на аэродром подскока, поближе к Волге и к городу. Там они стали очевидцами катастрофы, постигшей город Сталина. Мимо по Волге плыли горящие баржи, доносились со стороны Сталинграда канонада и взрывы, воздух пропитала гарь огромного пожара.
Нина Шебалина запомнила, что ребята-летчики, впервые увидев на своем аэродроме звено Беляевой, «смотрели на них как на какое-то чудо»: до этого они не только не видели девушек-истребителей, но и не слышали о них. Кто-то их жалел: «Перебьют вас, совсем еще молодых», кто-то «с презрительной усмешкой сказал: “Здесь вам не Алма-Ата”»[243] (по советским представлениям, находившаяся далеко в тылу, полная солнца и фруктов, окруженная горами столица Казахстана была райским местом). Девушки старались держаться уверенно, хотя уже понимали, что попали в пекло и здесь будет непросто скрывать усталость и страх. «Все были так рады, что на фронт летят, а оказалось, конечно, страшновато», — вспоминала о тех днях Нина Шебалина. Отправляясь 10 сентября в Сталинград, летчицы первой эскадрильи имели слабое представление о том, что там на самом деле происходило — в том числе в небе. Газеты писали, как славно воюют в небе Сталинграда советские летчики, а не о масштабе катастрофы, которая обрушилась на город. Хотя летчицы из полка за несколько дней до этого летали на задание в район Сталинграда, ориентируясь ночью в степи по горящему городу, над самим городом они не пролетали, и в полку еще не знали, что он превратился в дымящиеся руины. Колоссальность постигшей Сталинград беды понимали лишь те, кто видел город сверху. «Пролетая над городом, я вижу, как созданное трудом народа пылает в огне. Сердце замирает от того, что вижу на земле… Пока оно бьётся — буду защищать Родину…» — написал во фронтовой газете юный летчик-истребитель Евгений Дранищев о городе, которым, как все жители юга России, гордился и которого теперь, по сути, уже почти не существовало.
Восемь летчиц разделили на два звена и направили в два истребительных авиаполка: звено Нечаевой — в 434-й, звено Раисы Беляевой — в 437-й. Беляева, «высокая, статная летчица» с такой прекрасной русой косой, что ее пощадила даже Раскова, имела до войны налет в тысячи часов и пользовалась уважением в среде советских авиаторов: она в составе женской пятерки участвовала в знаменитых авиационных парадах в Тушине и имела на счету десятки прыжков с парашютом. В полку ценили ее огромный летный опыт, считали немолодой (в декабре 1942 года ей должно было исполниться тридцать лет) и привлекательной внешне. Беляева мало с кем сближалась: у нее был тяжелый, мужской, очень требовательный, высокомерный характер.
Механик Беляевой Нина Шебалина, которой тогда не исполнилось еще двадцати лет, трепетала перед своим командиром. Она вспоминала, как иногда в Энгельсе на самолете Беляевой летала Клава Нечаева. И «страшно боялась, что что-то случится с самолетом, она сделает что-то не так — тогда Беляева ее сожрет!».[244] Клава Нечаева, как-то в мороз снявшая свои унты, чтобы достать из них меховые вкладыши для девушки-механика, на Беляеву совсем не походила. Пусть и с гонором, но добрая, внимательная, спокойная.
В отличие от своих летчиков сдержанный командир 437-го полка Максим Хвостиков не выразил публично своего недоумения по поводу получения женского пополнения. Сформированный лично им полк находился в боях на Сталинградском фронте с 19 августа, потеряв к середине сентября большую часть самолетов и летчиков: согласно документам полка, с начала боев по 11 сентября было потеряно десять или одиннадцать самолетов, и почти никто из пилотов в полк не вернулся.[245] У Хвостикова, кадрового военного летчика, служившего в авиации с начала тридцатых годов, в полку еще осталось несколько опытных летчиков — таких, как Женя Дранищев, — но в пополнение прислали новичков с налетом на порядок меньше, чем у женского звена.[246] То, что девушки начнут участвовать в боях сразу после прибытия, было очевидно — у Хвостикова просто не было другого выхода. В полку, куда прибыло звено Клавы Нечаевой, — 434-м — ситуация пока была другая: полк воевал здесь лишь с начала сентября и, хотя уже потерял несколько самолетов, летчиков имел достаточно, так что никакого желания посылать в бой девушек у командира не возникло. Реакцию майора Ивана Клещева на появление в его полку звена Клавы Нечаевой запомнило несколько свидетелей. «В один прекрасный день нам довелось стать свидетелями картины необычайной, — вспоминал Герой Советского Союза А. Я. Баклан. — По направлению к штабной землянке деловито вышагивали девушки, одетые в военную форму!» Баклан и его товарищи, оторопев, смотрели, как «впереди всех шла стройная, белокурая, в лихо надвинутой на бровь пилотке командир звена лейтенант Клава Нечаева. За нею аккуратненько ступали хромовыми сапожками Клава Блинова, Оля Шахова и Тоня Лебедева». А на некотором удалении от головной группы подходили к штабной землянке девушки из технического персонала. Энергичный, крепко сколоченный, «с волевым лицом и непокорной шевелюрой» майор Клещев откровенно высказал свое отношение к новому пополнению своей части: «Больно мне видеть женщину на войне. Больно и стыдно — будто мы, мужики, не можем оградить вас от этого неженского дела. Еще ведь и расплачетесь». Клава Блинова бодро ответила: «А и поплачем. Ничего. Не обращайте внимания».[247] Однако командир полка не разделял их энтузиазм.
В отличие от своего женского пополнения командир 434-го полка майор Клещев в свои неполных двадцать три года знал войну не понаслышке. Он приобрел опыт воздушных боев, вылетая вместе с лучшими советскими военными летчиками во время пограничного конфликта с Японией в 1938 и 1939 годах, и уже почти год был на фронтах Великой Отечественной. В элитном роде войск — авиации — он входил в элитную группу молодых, но уже опытных командиров, совсем еще юношей, но с боевыми орденами на груди. На его счету было 16 самолетов сбитых лично и 24 — в группе.[248] Не так давно Клещев получил высшую государственную награду — «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Эта «Звезда» оторвалась и потерялась, когда 19 сентября он в бою выбросился с парашютом из горящего самолета, и после выписки из госпиталя ему вручили в Кремле новую.
Сейчас трудно представить, что по простому парню из крестьянской семьи, пусть и со «Звездой» героя на груди, могут сходить с ума самые красивые женщины страны. Но в те годы статус летчиков в обществе был совершенно особый: их популярность можно сравнить с популярностью современных футбольных звезд. Когда 3 сентября 1942 года 434-й полк из подмосковных Люберец, где он тогда базировался, отправился на фронт, двадцатидвухлетнего командира Ивана Клещева провожала знаменитая киноактриса Зоя Федорова. Она часто вспоминала потом своего любимого летчика, вскоре погибшего.[249]
Полк, которым поручили командовать этому знаменитому летчику, был тоже особенный. Его формированием занимался лично начальник инспекции ВВС Василий Сталин.
Старший сын Сталина Яков Джугашвили стал артиллеристом, а младший, Василий, трудный и болезненный мальчик, хотел быть только летчиком. Более популярной профессии в СССР тридцатых годов не было. Сам Сталин говорил о летчиках в январе 1939 года: «Должен признаться, что я люблю летчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь летчика обижают, у меня прямо сердце болит». (Это не спасло от расстрела в 1940–1941 годах многих известных летчиков, воевавших в Испании, и других авиаторов.) «Золотой фонд нации», «сталинские соколы» — эти определения то и дело встречались в советских газетах. В небо стремились не только люди из простых семей, которых привлекала почетность и привилегии новой профессии. Многие сыновья руководителей страны не желали для себя лучшей участи, чем карьера летчика — разумеется, военного. В Качинском летном училище, которое считалось лучшей летной школой страны, учились в разные годы сын Хрущева Леонид, сын героя революции и ленинского сподвижника Фрунзе Тимур, сын идеолога компартии Емельяна Ярославского Владимир, три сына наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна и многие другие.
Полковник Василий Сталин был ровесником многих героев этой книги: в сорок втором году ему исполнился двадцать один. В инспекции ВВС он сделал неудивительную для человека с такой фамилией головокружительную карьеру. По воспоминаниям товарищей, Василий, походивший небольшим ростом и лицом на отца, характер имел другой.[250] Он был самоуверен, напорист, однако большинство знавших его характеризовали его как человека слабого и капризного, но в то же время щедрого и материально и духовно, не отличавшегося, в отличие от отца, ни злопамятностью, ни коварством. «Вася отдаст последнюю рубашку», — говорили о нем. Этот человек откликался на просьбы о помощи. Именно Василий Сталин спас многих авиаторов от репрессий, благодаря которым вошел в историю его отец. В обращении «Вася» был демонстративно груб. У него, как и у Сталина, было чувство юмора, он не имел никаких комплексов и не признавал никаких преград, вытворяя, что ему заблагорассудится, даже в бытность курсантом в Качинском училище: после того как он, катаясь по крымским серпантинам на автомобиле с начальником штаба авиашколы, свалился с дороги в кювет, дело дошло до отца, который наказал начальника школы за вольности, которые тот позволял его сыну. Своим товарищам по училищу Василий Сталин запомнился, помимо прочего, тем, что, получив письмо, написанное рукой отца, мог при всех в курилке открыть его и вслух комментировать, одобряя или не одобряя написанное. Профессию летчика он тем не менее осваивал серьезно.
Придя в инспекцию ВВС в 1941 году в звании капитана, Василий Сталин скоро стал ее полновластным руководителем: в 1942 году он уже был начальником инспекции и имел звание полковника. Когда высшее авиационное начальство приняло решение о создании нескольких истребительных полков, в которые соберут лучших летчиков и которые будут действовать на самых ответственных направлениях, обеспечивая советской авиации господство в воздухе, Василий лично занялся формированием одного из таких полков. По воспоминаниям аса, хорошо знавшего Василия Сталина по Качинскому училищу, «полковник Сталин умел быстро принимать решения и быстро их осуществлять». Ему не требовалось обходить множество кабинетов, чтобы согласовать все до единой детали. Остановив внимание на 434-м истребительном авиационном полку, в котором после боев за Ленинград не осталось ни самолетов, ни летчиков, полковник Сталин сделал из него образцовую часть, очень мобильную и боеспособную. Она прекрасно показала себя уже во время боев за Харьков летом 1942 года.
Обычно такие полки в начале войны действовали в составе двух эскадрилий. Василий Сталин решил расширить 434-й до трех. Для этого он слетал в Красный Кут Саратовской области, куда эвакуировалось из Крыма его родное летное училище. Там без долгой волокиты и суеты он отобрал девять своих друзей и просто знакомых летчиков-инструкторов с прекрасной техникой пилотирования, которых начальство не отпускало на фронт, хотя они рвались туда всеми силами. Среди них было три Героя Советского Союза, включая командира полка Ивана Клещева. В отличие от большинства истребительных полков, в составе которых было от одной трети до половины молодых необлетанных летчиков, в 434-м полку большой летный опыт имели почти все. Исключение составили два сына наркома пищевой промышленности и члена Государственного комитета обороны Анастаса Микояна Степан и Владимир, только что окончившие военное училище. Василий Сталин хорошо их знал и решил взять в свой полк и под свою опеку. Вторым исключением стали четыре девушки — звено Клавдии Нечаевой.
Если верить советским историкам, у Василия Сталина было на счету несколько сбитых немецких самолетов, однако это маловероятно. За него очень боялись: старший сын Сталина Яков Джугашвили пропал без вести еще в июле 1941 года. Возможностей сбивать немцев у Василия было мало. Вскоре после сталинградских боев случился большой скандал: Василий три дня не выпускал со своей дачи первую красавицу Москвы Нину Кармен, жену знаменитого кинооператора. Роман Кармен пожаловался Сталину, и тот понизил Василия в звании и отправил командовать полком на Северо-Западном фронте.[251] Но, даже командуя полком, Василий Сталин в боях не участвовал из-за неписаного приказа правительства. Многие из детей элиты уже погибли, другими рисковать не хотели. С должности командира полка Василий Сталин вскоре был снят после истории с глушением рыбы реактивными снарядами.
Рыбалка проходила так: в водоем бросали взрывчатку, которая убивала или контузила рыбу. Рыба всплывала брюхом кверху, и ее можно было собирать сачком или просто руками. Собирали, разумеется, не всю рыбу, а только крупную; молодняк так и оставался плавать на поверхности. Трудно сказать, в чем состояла привлекательность такой рыбалки, скорее всего, тут на мужскую страсть к охоте накладывалась еще и страсть к оружию. К тому же на войне мало кто имел при себе соответствующие рыболовные принадлежности, в то время как взрывчатка всегда была под рукой. Нужно ли говорить, что частенько взрывчатка взрывалась до попадания в воду, убивая или калеча самих «рыбаков». Когда пьяный Василий Сталин пригласил порыбачить тоже нетрезвого инженера полка и двух летчиков, инженера, захватившего с собой реактивный снаряд и, вероятно, сделавшего какую-то ошибку, разорвало на месте, а Герой Советского Союза Котов получил тяжелое ранение и уже не смог вернуться в армию. После этого случая Сталин снял Василия с должности, и тот несколько месяцев был не у дел. В дальнейшем он опять занимал высокие посты, но, не в силах вынести бремя своего родства, все больше пил и опускался все ниже, особенно после смерти отца. Василий Сталин умер в 1962 году в возрасте всего сорока одного года.
Созданный по инициативе Василия Сталина 434-й полк, куда вошло столько хороших летчиков, командующий советскими ВВС А. А. Новиков встретил с энтузиазмом. Новиков посещал его лично и разрешил самолетам этого полка иметь свой отличительный знак: выкрашенные в красный цвет «коки» — носы. Прошедший переформирование истребительный полк, имеющий в своем составе лучших летчиков, был очень нужен 8-й воздушной армии, особенно в сентябре 1942 года. Ситуация в сталинградском небе к началу сентября стала для советских ВВС катастрофической. К городу шли и шли свежие войска, переправляясь под огнем с левого берега Волги, назад уцелевшие баржи везли раненых — все это под непрерывной бомбежкой. На земле тысячи глаз лежавших в щелях красноармейцев искали в небе «ястребки».
Многократно переходившую из рук в руки станцию Котлубань, советские войска на обильно политом кровью кусочке земли прикрывал с воздуха 434-й полк, летавший с аэродрома в Средней Ахтубе. Городок, в котором свои последние дни провела Клава Нечаева, вошел в историю в первую очередь как место, где перед переправой в Сталинград 14 сентября останавливалась для получения боеприпасов и оружия 13-я дивизия генерала Родимцева: этой дивизии с ее молодым генералом предстояло сказать решающее слово в обороне Сталинграда. Вечером 14-го, из Средней Ахтубы доехав до берега Волги, через которую ему предстояло в эту ночь переправить дивизию, Родимцев стоял у большой темной реки. В воспоминаниях он напишет, как, стоя на берегу, рассматривал в бинокль «тяжело израненный, разрушенный и пылающий город».[252] Слабый ветер медленно поднимал в небо багровые языки пламени и черные клубы дыма, которые уносились ввысь, тянулись далеко над Волгой. Что творится на противоположном берегу, рассмотреть было трудно. «Лишь вырисовывались разбитые коробки зданий, заваленные обломками кирпича, бревнами и железом улицы да срезанные и закопченные верхушки деревьев», — вспоминал Родимцев.
В Средней Ахтубе после ухода войск было тихо и тревожно. Во многих домах ухаживали за ранеными. Местных ребят-комсомольцев еще в конце августа призвали на защиту Сталинграда, и теперь многие из них, которым едва исполнилось восемнадцать лет, ждали переправы с дивизией генерала Родимцева.
Ночью над городком часто гудел немецкий одиночный бомбардировщик и иногда сбрасывал бомбы в районе аэродрома. Несколько бомб рухнули довольно близко, и многие летчики нервничали: это было страшнее, чем в воздухе. Как-то днем, задремав в стоге сена у самолетов, летчики проснулись от близкого разрыва бомб. Серия бомб легла вдоль стоянки самолетов другого полка на противоположной стороне аэродромного поля. Летчик Саша Якимов, еще не проснувшись, уже оказался у вырытой у самолета щели, став объектом насмешек.
Девушки из звена Нечаевой и их технический персонал, поселившись в домах у местных жителей, привыкали к новой для них жизни среди мужчин. Двадцатишестилетняя Клава Нечаева часто приходила к соседке попросить тазик, чтобы постирать свое белье. Эта женщина потом вспоминала Клаву как «очень милую, скромную девушку».[253] Так же писали про нее и подруги из женского истребительного полка: «Милая, добрая женщина». А мужчины-летчики из 434-го полка вспоминали, что Клава Нечаева была самая красивая из четырех переведенных к ним летчиц.
У молодых летчиков, еще не обстрелянных и не терявших боевых друзей, появление в полку девушек-летчиц, да еще со стайкой технического персонала, вызвало большое оживление. Ни о каких женских полках они до этого не слышали. Всем было, конечно, «очень интересно — что это за летчицы к нам приехали».[254] О том, что девушкам здесь не место и что они могут погибнуть, молодежь не думала, как не думала о возможности собственной смерти. С появлением девушек мужчины стали чаще бриться и меньше ругаться матом.[255] Командир полка напрасно боялся, что присутствие девушек-летчиц будет отвлекать мужчин от боевой работы. С их появлением мужчины стали более собранными и серьезными.
Из четырех летчиц Клаву Нечаеву в полку запомнили лучше других — из-за красоты и потому, что она первая погибла. Клава носила пилотку, не убирая под нее прядь русых вьющихся волос, которые падали ей на лоб. Не прошло и нескольких дней ее пребывания в полку, а в нее уже влюбились двое: восемнадцатилетний Володя Микоян, младший сын наркома, и командир полка Клещев. Узнав, что у Клавы нет планшета, Клещев дал ей для полетов свой.[256]
По возвращении со Сталинградского фронта в середине сентября 1942 года заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Г. К. Жуков, секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков и командующий советскими ВВС А. А. Новиков, направленные на этот критический участок как представители Ставки Верховного главнокомандования, отослали Сталину следующую возмущенную докладную записку, посвященную действиям истребительной авиации на Сталинградском фронте:
«В течение последних шести-семи дней наблюдали действие нашей истребительной авиации. На основании многочисленных фактов пришли к убеждению, что наша истребительная авиация работает плохо. Наши истребители даже в тех случаях, когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают и последние безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы.
То, что мы докладываем, к сожалению, не является отдельными фактами. Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Мы лично видели не менее десяти таких фактов. Ни одного случая хорошего поведения истребителей не наблюдали».[257]
Исключением не был даже особый 434-й полк, состоящий, за исключением братьев Микоян и женщин, из очень опытных летчиков. При приближении немцев летчики трусливо вставали в уже знакомый читателю оборонительный круг. В один из дней в начале сентября, находясь в воздухе, Степан Микоян услышал по радио кричащий женский голос: «“Мессера” сверху! “Мессера”!» Это предупреждал наземный пост наблюдения. Летчики и сами увидели подходящие выше немецкие истребители и вошли «в оборонительный вираж». В таком круге они могли только обороняться, но не атаковать немецкие самолеты. Яки сделали несколько виражей, Микоян видел советский самолет впереди и, оглядываясь, с облегчением убеждался, что и за ним тоже идет самолет с выкрашенным в красный цвет носом. Вдруг метров на сто ниже его под углом градусов тридцать проскочил самолет с желтыми полосами на крыле. Ме–109! Степан понял, что тот пытался его атаковать…
Один як вышел вверх и стал энергично качать крылом — это командир полка призывал летчиков к себе. Необходимо было прекратить вираж и начать активный бой… Степан вспоминал, как на аэродроме летчики не смотрели друг другу в глаза — таким опытным, обстрелянным не к лицу было пассивно виражить.
Видя, как пасуют перед «мессерами» даже бывалые летчики, командир полка не спешил выпускать в воздух девушек. Вскоре после их появления в полку он решил проверить их летные качества и провел с ними учебные воздушные бои. Командир звена Клава Нечаева полетела первой. Вначале Клава почти зашла в хвост Клещеву, но он увернулся и скоро был у нее в хвосте. «Дальше все произошло молниеносно, — вспоминала Клава Блинова. — Самолет Нечаевой качнулся с крыла на крыло, словно еще подумал — падать или не падать, — и свернулся в штопор».[258] Сама опытная летчица, Клава Блинова знала, что несложно вывести самолет из беспорядочного штопорного падения. Если, конечно, высота позволяет. А если ее нет? Степан Микоян вспоминал, как все летчики, перепуганные, так как высота уже была небольшая, в страхе за Нечаеву закричали: «Выводи, выводи!» — как будто она могла их услышать. Она успела вывести, и тогда весь аэродром, напряженно следивший за поединком, облегченно вздохнул.[259]
Эти показательные воздушные бои подтвердили опасения Клещева. По мнению летчиков 434-го полка, «летчицы были неплохо обучены пилотированию истребителя, выполнению взлета и посадки. Но подготовка их к боевым действиям страдала серьезными недостатками».[260] Было очевидно, что они «не умеют тактически грамотно вести воздушный бой, маневрировать на вертикалях, эффективно применять оружие». Этому их не обучили в Энгельсе, так что необходимо было учить и учить уже в боевом полку. Семенов не представлял, как они станут воевать в такой тяжелой воздушной обстановке, какая сложилась под Сталинградом: «их просто по-человечески жалко посылать в бой…» Клещев не форсировал событий, выпускал девушек ведомыми с опытными летчиками. И все-таки всех не уберег.
Погода стояла прекрасная, и каждый день немецкие бомбардировщики прилетали большими группами в сопровождении истребителей бомбить станцию Котлубань и советские войска рядом с ней. 16 сентября летчицы напрасно ждали от командира полка разрешения принять участие в вылетах. На их самолетах летали летчики-мужчины, которые вернулись к вечеру после шести боевых вылетов с «черными от усталости лицами» и глазами, воспаленными от перегрузок. Когда собрались у командного пункта, было объявлено, что главный гитарист и песенник полка Коля Парфенов, полюбившийся женскому звену, не вернулся из боя. И хотя видели, что при падении самолета с его бортовым номером пилот не выпрыгнул с парашютом, летчики все еще надеялись на чудо: случалось и так, что летчики, которых никто уже не ждал, возвращались в свою часть через несколько дней со своей или вражеской территории, обожженные, хромая, но живые.
На следующий день, 17 сентября, Клаве Нечаевой и Клаве Блиновой разрешили совершить боевой вылет, поставив их ведомыми к опытным летчикам Котову и Избинскому, командовавшим группами истребителей.[261] Группа подошла к линии фронта. С высоты взгляду открывалась необыкновенная картина. На земле шел бой, видны были взрывы, вспышки орудийных выстрелов, на востоке горел Сталинград. Дымка от пожаров поднималась на километр-два, и сквозь нее проглядывали блестящие полоски Волги и Дона.[262] Задание оставалось прежнее: прикрывать наземные войска от бомбардировщиков противника.
С истребителями, сопровождавшими немецкие бомбардировщики над Котлубанью, Клава Нечаева и Клава Блинова приняли свой первый воздушный бой. Вскоре после вылета группы с пульта наблюдения сообщили, что с севера на Котлубань идут «юнкерсы». Едва они показались, Избинский повел свою группу в атаку, и с ходу он сам и летчик Карначенок сбили по самолету противника. Дальнейшее для Клавы Блиновой происходило как во сне. Внезапно на них со стороны солнца свалились «мессершмитты». «Кручу я в кабине головой: крестов-то, крестов!.. Кого в прицел ловить? Где моя цель? Где ведущий?..» Помня, что медлить нельзя и надо «ковать железо, пока горячо», Блинова, двинув до отказа рычаг газа, атаковала. «Какой-то фашист» уже бил по ее машине «из всех пушек», и все могло кончиться плохо, не подоспей на выручку Саша Котов.[263] Клаве Нечаевой повезло меньше. Подробно о ее первом, и последнем, бое написал его участник А. Баклан. Он считал, что Клава погибла, прикрывая своего ведущего капитана Избинского. Но, по мнению Степана Микояна, Избинский был далеко не идеальным ведущим. «Избинский был прекрасный боец, отличный летчик, но такой немножко хулиганистый». Он даже имел за какую-то драку судимость и отбывал её на фронте. «Выпивал, конечно, но воевал хорошо». Только в бою Избинский «маневрировал, практически не обращая внимания на ведомого, и ведомому было сложно за ним удержаться».[264] Баклан тоже вспоминал, что «группа прибыла в заданный район и сразу же наткнулась на вражеские бомбардировщики. Первая наша атака получилась удачной: Избинский и Карначенок сбили каждый по “юнкерсу”»… В это время неожиданно, так как летели со стороны солнца, выскочили вражеские истребители, и картина боя стала совсем другой. «Началась несусветная воздушная карусель. За фонарем кабины земля то вставала дыбом, то опрокидывалась в тартарары, а то заваливалась набок». Оглушал доносившийся со всех сторон треск пулеметов. Один из «мессеров» в упор атаковал и подбил самолет Клавы Нечаевой, он загорелся и стремительно пошел к земле.[265] Когда в обломках самолета вместе с обгоревшими останками летчика нашли планшет майора Клещева, в штаб дивизии было доложено: «Погиб майор Клещев». Услышав об этом, Клещев, который сам присутствовал в штабе дивизии на совещании, сразу же понял, кто погиб.[266]
На похороны Клавы (эта братская могила до сих пор сохранилась в центре Средней Ахтубы) пришел весь полк. У мужчин был мрачный, какой-то виноватый вид. «Ружейным залпом отдали последние воинские почести», — вспоминала Клава Блинова. И писала дальше: «Но и теперь вот, спустя годы, закрываю глаза, стараюсь представить себе мертвую Клаву Нечаеву и не могу — идет по аэродрому девушка с красивым лицом, лихой волной сбиты набок русые волосы, а в лучистых глазах, кажется, отразился весь мир: Волга с зачарованными лугами над водой, небо, переполненное солнцем, земля, распахнутая на все четыре стороны без конца и края, — живая Клава…»[267] Ружейный залп. Деревянный закрытый гроб с обгорелыми останками. Братская могила с табличкой, написанной химическим карандашом…
Сохранилось много свидетельств, как волновались советские девушки-военные — санинструкторы, телефонистки, даже писари в штабе — о том, как их похоронят, если им суждено будет погибнуть. «Я знаю, я умру. В санитарной сумке ситцевое платье в горошек, рукав короткий с оборочками. Похороните меня в нем», — просила тяжело раненная на Сталинградском фронте санинструктор Маша солдат, которых только вчера сама бинтовала после боя.[268]
Как видно из письма другой девушки матери убитой подруги, тема похорон фигурировала в девичьих разговорах на войне: «Там, где мы вели бои, было очень болотистое место, много грязи. Иногда сидим с девушками и разговариваем, кого как похоронят. Лидочкино и мое желание было, чтобы похоронили нас с цветами и чисто обмыли лицо. Ее желание я исполнила, а вот кто-то мое выполнит?»
«Конечно, смешно думать о смерти, но от действительности не уйдешь» — так думали эти девушки, не веря в собственную смерть, но все же, видя столько смертей вокруг, желая, если их жизнь оборвется, выглядеть хорошо, отправляясь в последний путь. Девушки-авиаторы таких разговоров не вели и платьев для своего последнего выхода в свет не готовили, прекрасно зная, что очень немногим летчикам, погибшим на войне, доведется быть похороненными согласно православной традиции. Изуродованные, обгоревшие останки невозможно было выставить в открытом гробу для традиционного русского прощания. Да и гробов у них часто не было. «Убитых летчиков хоронили обычно в парашюте»,[269] «если было что хоронить». У тех летчиков, чьи самолеты после катастрофы не находили, не было похорон. «У летчиков нет могил», — мрачно скажет после войны главный советский ас Иван Кожедуб, призывая поисковые отряды искать в земле останки пропавших без вести, для того чтобы снова предать земле, но уже с могильной плитой.
На Клавиных похоронах не было влюбленного в нее сына наркома, восемнадцатилетнего Володи Микояна. Он пережил ее всего на один день.
Клещев разрешил Володе Микояну сделать вылет на самолете брата. Степан сделал уже два боевых вылета, в тот день впервые попав в серьезный бой. Он помнил, что во рту появился необычный горький вкус. Клещев увидел, что Степан не очень готов к третьему вылету, и сказал ему: «Сейчас я не полечу, и ты посиди. А Володя полетит на твоем самолете».[270] Володя, неопытный, окончивший ускоренный курс в летном училище, с первого дня в полку настаивал, чтобы его взяли в бой.
Как и Клава Нечаева за день до него, Володя полетел ведомым с капитаном Избинским. «И вот они полетели, — вспоминал Степан. — Мы их на земле ждем. Возвращается группа. Смотрим, не хватает двух самолетов, и в том числе моего». Летчики прилетели и рассказали, что видели, как Володя стрелял по бомбардировщику, потом вышел из атаки вверх, где его атаковал «Мессершмитт». После очереди «мессера» Володин самолет перевернулся и вошел в пикирование. Летчик Долгушин, свидетель падения самолета, рассказывал, что в какой-то момент пикирования «он стал выходить». Может быть, Володя пришел в сознание, может быть, он был тяжело ранен. Но тут же самолет опять вошел в крутое пикирование и врезался в землю. Долгушин отметил это место по карте. Позднее, когда он и Степан вернулись в Москву, Анастас Микоян долго разговаривал с Долгушиным по телефону. Встретиться лично он не захотел, это было слишком тяжело.
Степану Микояну после гибели Володи уже не дали летать в 434-м полку. К тому времени пропал без вести сбитый над калужскими лесами сын Хрущева, погиб Тимур Фрунзе и еще несколько детей высокопоставленных родителей. Берия дал командующему авиацией негласный приказ не пускать в бои остальных сыновей членов правительства. Степан Микоян покинул 434-й полк и летал до конца войны в ПВО, но в боях больше не участвовал. О приказе Берия он не знал и все надеялся, что его снова пошлют в бой.
Оставшимся без командира звена Клаве Блиновой, Ольге Шаховой и Тоне Лебедевой до вывода полка из боевых действий летать тоже почти не давали. В документах сохранилось свидетельство лишь о двух их боевых вылетах.[271] Но и сам полк после гибели Нечаевой и Володи Микояна воевал совсем недолго: за две недели боев он потерял 16 человек и 25 самолетов. Иван Клещев 19 сентября был сбит, выпрыгнул из горящего самолета с парашютом и остался жив. Он погиб через несколько месяцев, под Новый год, когда его самолет упал около поселка Рассказово — кто-то говорил, что из-за неисправности, кто-то — что отчаянный Клещев летел в нелетную погоду. За бронеспинкой самолета у него лежали два гуся, которых он вез в Москву актрисе Зое Федоровой, с которой должен был встретить новый, 1943 год.[272]
Клава Блинова, Тоня Лебедева и Оля Шахова, когда 434-й полк вывели на переформирование, вместе с ним вернулись в Москву. Они хотели снова попасть в боевой полк, но брать их никто не хотел. Помог Василий Сталин, предложивший им пройти курс тренировок — 100 учебных воздушных боев! — а потом уже их возьмут в боевой истребительный полк. Они были очень рады и начали тренироваться, однако как-то на аэродром приехал маршал авиации Новиков, очень некстати заметивший девушек и приказавший вернуть их в женский полк. Подчинилась только Ольга Шахова; Тоня и Клава узнали от ребят-летчиков, что на Калининский фронт улетает 653-й полк, в котором как раз не хватало двух летчиков. На эти места их в конце концов и взяли вместе с самолетами — но, по правде говоря, с 653-м полком они сначала просто сбежали.[273]
Глава 15
Душечка, вы «Хейнкеля» сбили!
Штурман 437-го полка Жукоцкий в те дни летал наравне с остальными: летчиков не хватало. Между боевыми вылетами в сентябре 1942 года он ничего не мог есть — так же, как почти все его товарищи. Пока техники и вооруженцы заправляли самолет горючим и заряжали оружие, он только пил воду или принесенный ему чай с сахаром. Ситуацию в воздухе Жукоцкий характеризовал просто: «Там немцы летают в три яруса. А ты взлетаешь и болтаешься как говно в проруби». Для всех, кто в те дни смотрел в сталинградское небо, беспрестанные воздушные бои стали совершенно обыденным явлением. «Стоишь на аэродроме, голову поднимешь и смотришь: там бой идет, и там, и там. Там упал самолет, тут упал. Немецкий или наш — непонятно».
Жукоцкому нравилась Маша Кузнецова — веселая, грубоватая, смелая. Но он полностью разделял мнение остальных летчиков полка: самолеты, на которых прилетело звено Нечаевой, здесь очень кстати, а вот самим девушкам в этом аду не место — некогда их учить, невозможно в такой обстановке обеспечить их безопасность и отвечать за них в этом хаосе некому. Здесь не до них.
Ситуация в городе ухудшалась. Согласно спецсообщению, отправленному в центр уполномоченными НКВД по Сталинградской области, противник подошел вплотную к центру города. Заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Голиков срочно запросил у центра разрешение на «проведение спецмероприятий по промышленным объектам г. Сталинграда», что означало минирование и подрыв всех промышленных предприятий — чтобы не достались немцам. Не хватало сил для защиты города. «Возможности сопротивления почти исчерпаны», — передавал уполномоченный со слов Голикова.
Линии фронта находились друг от друга так близко, что танки не могли двигаться и часто было опасно стрелять, так как пуля рикошетом летела в своих. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Развалины становились идеальными позициями для снайперов: именно к боям за Сталинград относится расцвет советского снайперского движения. Подкрепления переправляли в районе Центральной переправы, к которой немцы долго не могли прорваться, назад переправляли раненых. В сентябре срок жизни солдата пополнения в Сталинграде иногда составлял меньше двух суток.
Как и первый бой для солдат-пехотинцев, первый вылет для молодых летчиков здесь часто оказывался последним. Авиамеханик истребительного полка Николай Меньков запомнил первый вылет летчика, с которым потом воевал в одном полку до конца войны, — Ивана Старикова. В воздухе завязался бой, и Стариков, как часто случалось с вылетевшими в первый раз, «потерял своих и чужих». Вернувшись к аэродрому, он, уже не зная, его ли это аэродром, стал летать над ним кругами. Летчики, глядя в небо, матерились: «Доходится, сейчас “мессера” сожрут!» — тогда очень часто налетали немцы. Потом Стариков все-таки приземлился, прорулил по полю, но в капонир, земляное укрытие, почему-то не ехал. Появились два немецких истребителя, один атаковал, и самолет Старикова сразу загорелся. Меньков вместе с другими техниками подбежали и увидели, что винт самолета крутится, летчик сидит в кабине без единой царапины, но не в состоянии даже шевельнуться. Меньков выключил магнето, пропеллер остановился, и вчетвером они вытащили Старикова из самолета и потащили. Молодой пилот, в шоковом состоянии, только повторял: «Ребятки, я живой? Неужели я живой?» Подъехал командир полка, который все это уже видел, и только сказал: «Живой. Будешь летать».[274]
Случалось, что молодые летчики не в силах были справиться со страхом. На них нападала настоящая и мнимая медвежья болезнь, находились и такие, у кого, как назло, в каждом боевом вылете приключались неполадки с машиной. В приказе по 437-му полку от 16 сентября командир и начальник штаба писали, что будут требовать суда военного трибунала для ведущего пары старшего лейтенанта Кочнева, не выполнившего боевое задание по разведке по причине того, что у его ведомого «не убралось одно шасси»[275] — что могло помешать посадке ведомого, но никак не выполнению задания ведущим.
Среди этих летчиков многие были случайными людьми, причем совсем не обязательно трусами. Летчиком нужно родиться, а многих из этих ребят отправили учиться в летные школы, не спросив их. Случалось, что летчик, показавший себя трусом в небе и отправленный в штрафную роту, потом очень храбро командовал пехотой: там он был на своем месте.
Несмотря на нехватку летчиков, особенно облетанных, звено Беляевой Максим Хвостиков выпускать не торопился. Раиса Беляева кипела. В поведении начальства присутствовал элемент наивного шовинизма. Командир полка говорил: «Что, если вас собьют и немцы узнают, что у нас летают женщины? Скажут, что у нас уже летать некому, раз мы женщин выпускаем!»[276] О том, что они здесь не нужны, летчицам прямо не говорили: напористой Беляевой каждый раз, когда она приходила требовать отправить их в вылет, говорили, что не хотят подвергать ее риску из-за того, что она такая красивая — в данной ситуации унизительный комплимент! Если же их выпускали, то чаще парами друг с другом: мужчины не хотели брать их ведомыми. Парады в Тушине — это одно, воздушные бои — совсем другое.
Свой первый бой, вошедший в историю 8-й воздушной армии, Лиля Литвяк провела 27 сентября. Ее и Беляеву (по некоторым сведениям, и Катю Буданову) включили в состав группы, которую повел на задание сам командир 287-й авиационной дивизии полковник Данилов. Согласно официальной истории 8-й воздушной,[277] «группа вступила в бой с двумя пятерками бомбардировщиков Ю–88», которые шли бомбить Сталинградский тракторный завод. Командир полка Хвостиков атаковал «юнкерс» в паре с Литвяк, но был подбит огнем стрелка бомбардировщика. С бомбардировщиком разделалась Литвяк, расстреляв его с дистанции тридцать метров — так, наверняка, с близкого расстояния, она любила бить и в своих будущих боях. После этого, как пишут авторы «Восьмой воздушной», Литвяк «пристроилась к Беляевой, и они вместе вступили в бой с подошедшими на помощь бомбардировщикам истребителями противника».[278] Работая в паре, они «сбили Ме–109», и победу записали на обеих. Об этой воздушной победе упомянул в своих воспоминаниях даже командующий Сталинградским фронтом Еременко, ошибочно называя летчицу Ниной Беляевой и не упомянув Литвяк. А у нее через день или два, в третьем боевом вылете, произошел еще один воздушный бой, да еще какой! Уж тут о Литвяк заговорили: этот бой положил начало слухам и легендам, которыми за следующий неполный год обросло ее имя.
Большинство русских источников заявляют, что этот бой произошел 13 сентября. Вероятнее всего, это не так, но мы не знаем точную дату: девушки не входили в личный состав 437-го полка, и никаких свидетельств об их воздушных боях в документах полка не сохранилось. Нет их и в документах 586-го женского истребительного полка: от него их временно открепили. Не сохранились и письма Лили, где она описывала бы эту свою победу. Так что победа Литвяк здесь изложена на основе воспоминаний техников, пары строчек от военного корреспондента и слухов, ходивших по 8-й воздушной армии. Слухов было предостаточно: эта история долго передавалась в 8-й воздушной из уст в уста, обрастая подробностями. Говорили, что Литвяк разрешили облетать самолет после ремонта, она вылетела и летала кругами над аэродромом. Появились немецкие истребители, но Литвяк их сначала не заметила, и командир полка Хвостиков в ужасе схватился за голову, крича: «Сожрут девку!»[279] Однако Литвяк, заметив немецкие самолеты, открыла огонь и не только не была сбита, а сама сбила «мессершмитт» и благополучно села. Что-то здесь, конечно, уже анекдот: облетывают самолеты после ремонта без боекомплекта, а как открыть огонь без боеприпасов? В заметке о Литвяк, которая вышла через полгода, корреспондент с ее слов писал, что сбитый самолет был не истребитель, а бомбардировщик. Теперь уже не узнать, как точно все было на самом деле. Но, не зная еще Лилю Литвяк, летчики полка отнесли эту победу хорошенькой блондинки на счет сумасшедшего везения.
Сбитый немецкий летчик выпрыгнул с парашютом и, так как бой происходил над аэродромом или совсем рядом с ним, после приземления был доставлен в штаб авиадивизии. Летчик оказался непростой, с увешанной наградами грудью. В тот момент победы советских истребителей, да еще такие эффектные, с живьем пойманным немецким пилотом-орденоносцем, были нечастым явлением. Начальство решило лично устроить немецкому летчику допрос и, как любили делать, представить ему сбившего его летчика. Вызвали радистку, которая вела по радио переговоры с советским летчиком, и та подтвердила, что сбила Литвяк. Немецкий летчик, услышав, что его сбила двадцатилетняя девушка, не поверил. С большим удовольствием послали за Литвяк. В тот день радистка Скоробогатова впервые встретилась с этой девушкой-летчицей, раньше она слышала только ее голос.[280]
Свой недавний перевод радистом в 8-ю воздушную армию Аня Скоробогатова приняла с радостью: уж очень страшно было под Сталинградом в наземных частях. К тому же она очень хотела служить в летной части, пусть даже радистом. В ее задачи входило осуществлять связь с летчиками, находящимися в боевых вылетах, — теми, на чьих самолетах стояли рации. Стояли они на всех без исключения иностранных самолетах, какие использовали в советской авиации, — например, «аэрокобрах», а вот из советских самолетов рации имела лишь половина. Аня Скоробогатова чувствовала, какая важная связь, тонкая и теплая ниточка, устанавливалась между ней, сидящей у рации, и парнями, поднимающимися в небо Сталинграда, — с некоторыми, кого сразу сбивали, только на день или два. Для ребят в этом страшном небе девичий голос радиооператора был необычайно важен, он был единственной нитью, связывавшей их с землей, с нормальным миром. И, когда Ане велели придумать для себя позывные, пароль для летчиков, большинство из которых никогда не видели ее лица, Аня решила, что в эфире ее будут звать «Незабудка». Название цветочка, голубого как ее глаза, легкомысленного и земного, будет напоминать им в их, может быть, последнем вылете в сталинградском аду о земле, о девушках, о летнем луге.
В последние дни помимо мужских голосов в эфире появились женские. Голос у Лили был, как у самой Ани, высокий, в отличие от более низкого голоса Кати Будановой. Голосов Беляевой и Кузнецовой Аня не запомнила, может, и не слышала их в свои дежурства. Литвяк в воздухе много не разговаривала — как думала Аня, из осторожности: у немцев тоже были рации. Позывные менялись, но Аня запомнила, что часто позывным Литвяк был «Чайка» — с соответствующим номером, в зависимости от номера самолета. В день, когда Лиля сбила над аэродромом «мессершмитт», ее позывной был «Чайка–15». При личном знакомстве «Чайка» (Аня узнала, что «Чайку» зовут пилот Литвяк) оказалась очень хорошенькой, невысокого роста, с «прекрасной ладной фигурой», в идеально сидящей на ней военной форме, с тонкой талией, со светлыми вьющимися волосами. Лицо обычное, ничего особенного, но на щеках нежный румянец, глаза блестят. Кто-то из собравшегося на допрос начальства попросил ее описать бой.
Советские «историки» потом сочинили, что Лиля описала свой воздушный бой на немецком, который «знала в совершенстве». На самом деле она описала его еще более понятным языком — языком жестов, которым всегда и везде объясняются друг с другом летчики: им нет необходимости в словах, чтобы понять друг друга. И много лет спустя — сорок, пятьдесят, шестьдесят — Аня Скоробогатова на встречах ветеранов 8-й воздушной наблюдала, как летчики, вспоминая свои бои, меньше говорят, чем показывают руками.[281] «Я зашел отсюда», — показывают руки; «он атаковал сбоку, я сделал маневр», и так далее, и так далее. Руки летчиков живут своей собственной, отдельной жизнью, мечутся, рассказывая о моментальных решениях, молниеносных перемещениях в трехмерном пространстве, которые невозможны без тренировки и особого таланта. Лилины руки двигались, играли глаза, лицо светилось. Она показала, как дала свечу и атаковала с высоты — именно в этот момент Аня Скоробогатова слышала в эфире «Пошла!»: так она рапортовала, когда шла в атаку, позже Аня слышала это «Пошла!» еще не раз.
Немецкий пилот поверил. Все было именно так, как показывала летчица. В отношении того, что произошло после, воспоминания Скоробогатовой согласуются с советскими источниками: немецкий летчик снял с руки часы и пытался отдать их Литвяк, она не взяла. Говорили, что немец даже хотел ей галантно поцеловать руку, но это, наверное, уже выдумки.[282]
Первые победы вдохновили все звено, но все равно «летали мало, самолеты отбирали мужчины».[283] 437-й полк летал на самолетах ЛАГГ–5, не имевших ничего общего с Яками. Тем не менее там нашлись летчики, умевшие летать на Яках. Именно они в основном и летали на новых самолетах девушек, редко выпуская их самих; из Лилиного Яка выкидывали букетики скромных осенних степных цветочков, которые она собирала в минуты затишья и брала с собой в кабину. Она попросила маму в письме прислать ей открытку с розами, которую она прикрепила бы с левой стороны на приборную доску Яка, но мама не прислала. Тогда механик Фаина Плешивцева попросила свою маму.[284]
За Лилей Литвяк Фаина Плешивцева наблюдала еще с Энгельса, с истории с белым меховым воротником. А сейчас, под Сталинградом, обслуживая, среди других, и Лилин самолет, узнала ее лучше и сблизилась с ней, хотя обстоятельства у них были совсем разные. Плешивцева обожала авиацию. Она окончила аэроклуб и, хотя налет имела небольшой, надеялась, как и другие, в полках Расковой летать. Но ее судьбу решило то, что к началу войны она окончила три курса авиационного института: таких брали техниками, нехватка техников диктовала свои условия. Так что ее и Литвяк фронтовой путь сложился совсем по-разному: Лиля, незнакомая с премудростями устройства своего «ястребка», будет получать офицерский паек, носить подогнанную по фигуре форму и покроет себя неувядающей славой. Уделом Фаины станет постоянно грязный и замасленный комбинезон, тяжелейший труд, под силу не каждому мужчине, пальцы, примерзавшие к металлу, короткий сон часто прямо на аэродроме под чехлом от самолета — и ни одного ордена. Ели они тоже по-разному даже под Сталинградом. Перебоев в питании летчики там практически не запомнили. В их столовых, офицерских, еда была хорошая почти всегда. Было и масло, был, как правило, и кусок сыра, чтоб положить на хлеб. Авиационные механики, которые все имели младшие офицерские звания, питались похуже. Чаще всего им доставалась манная каша или пшенная — «блондинка», часто перловка — «шрапнель». На эту кашу они потом долго не могли смотреть. Не очень сытно, но хлеб выручал. «Кусок хлеба достанешь и жуешь его у самолета, пока работаешь, и вроде голода такого нет».[285] И все же им было намного лучше, чем рядовым авиационных полков — солдатам, работавшим на аэродромах, которые не ели досыта никогда, получали в своей столовой то жидкий суп, то кашу, — и всегда не столько, сколько хотели бы.
Мама Фаины Плешивцевой прислала открытку с розами, но она не скоро нашла адресата: в самом конце сентября звено Беляевой перевели в 9-й гвардейский полк.
Между тем их родной женский полк — 586-й полк противовоздушной обороны, из которого им всем так хотелось вырваться, вдруг стал знаменитым на всю страну. Его прославила Лера Хомякова, давняя подруга Беляевой по центральному аэроклубу, много лет подряд участвовавшая вместе с ней в парадах в Тушине. Валерия в ночном вылете сбила немецкий бомбардировщик.
Ночью 24 сентября 1942 года командир второй эскадрильи Женя Прохорова и ее ведомая Хомякова вылетели по тревоге: посты воздушного наблюдения сообщили о приближении к переправе через Волгу бомбардировщиков противника. Прожектор поймал Ю–88. Стрелок начал было стрелять по советским истребителям, но бомбардировщик сразу же пошел к земле.[286]
Сначала было неизвестно, кто его сбил, Женя или Валерия, но приземлившаяся первой Женя Прохорова вылезла из самолета в слезах и накричала на вооруженца: у нее отказало вооружение. Теперь стало ясно, что расстреляла немецкий самолет не она. Приземлившись, Лера Хомякова докладывала: «Сделала два захода на “Юнкерса”, пулеметы и пушка стреляли безотказно».
26 сентября она писала родным, спеша поделиться с ними своей огромной радостью: сбитый ночью Ю–88 был первым немецким бомбардировщиком, сбитым под Саратовом, первым в их дивизии, и она стала первой женщиной, сбившей бомбардировщик в ночном бою (работу ночных истребителей они освоили только в Энгельсе, причем не все, и тренировались мало). Как сказали Лере наблюдатели, она, видимо, убила летчика с первой очереди. Немецкая машина пошла в пике, а Лера еще стреляла. Ю–88 шел на задание, на бомбежку, так что, упав, взорвался на земле на собственных бомбах.
Лера азартно описывала подробности боя: «…Он стрелял два раза по мне, но не попал. Я жива и невредима. Но знаете, дорогие, я даже вначале и не поверила, что я его сбила. После того как я попала в него, он не загорелся, но пошел в правый разворот и потом стал с очень большим углом пикировать. Я за ним и дала еще несколько очередей, но потом пора было выводить… Ну, думаю, далековато стреляла, не хватило выдержечки, и рановато вывела. Ушел, думаю…»[287] Товарищи по полку поздравили Леру так, как наверняка не поздравляли друг друга летчики-мужчины: «Сажусь, подбегает ко мне мой механик Полунина и целует: «Душечка, вы “Хейнкеля” сбили!» Тут же целовать ее сбежались и все остальные.
Сама Лера поверила по-настоящему только тогда, когда слетала с командиром дивизии на место падения немецкого бомбардировщика. Увиденная картина долго стояла у нее перед глазами. Мертвые члены экипажа лежали рядом с распущенными, но нераскрытыми парашютами: выпрыгнули, но высоты уже не было. «Самолет — такая махина, — раскидан на куски, несколько невзорвавшихся бомб». Парашюты, конечно, забрали, чтобы потом нашить всего из этого шелка: немецкие парашюты очень ценились.