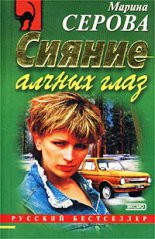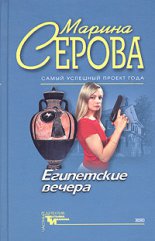Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной Виноградова Любовь

В середине июня Литвяк уже была командиром звена: завоевала доверие Голышева и командира эскадрильи. Командиры очень хвалили ее за бой 16 июня, снова в паре с Сашей Евдокимовым, когда она вылетела на перехват «рамы» — самолета-корректировщика «фокке-вульф–189», хотя бой оказался безрезультатным. Все равно его сочли удачным: пару встретили четыре Ме–109, «рама» улетела, а Литвяк и Евдокимов приняли бой. Сашин самолет подбили, он получил легкое ранение, однако смог сесть, а Литвяк благополучно вернулась на свой аэродром с десятью пробоинами в самолете, которые Меньков с другим техником за ночь залатали.[493]
Не погибни Лиля летом 1943-го, ее бы непременно выдвинули на звание Героя Советского Союза. Ее популярность во всей 8-й воздушной армии была огромна, ее любили и уважали, восхищались — не только летчики и техники, но и начальство. Ей сошел с рук даже очень неприятный эпизод, за который другого бы серьезно наказали — вплоть до штрафной роты. По ее, в сущности, вине погиб ведомый.
Утром 16 июня, еще до того как она с Сашей Евдокимовым вылетела на перехват «рамы», Литвяк, взлетая по вызову рации наведения — службы наблюдения за воздухом, — по общему мнению, угробила молодого летчика сержанта Зоткина, который в том вылете шел с ней ведомым.[494] Аэродром, на котором в тот момент стоял полк, у хутора Веселый, был такой маленький, что и взлетать с него, и садиться было сложно. Взлетая, Литвяк отклонилась от курса влево; сделал это вслед за ней и недавно прибывший в полк летчик Зоткин. Отклонившись, видимо, еще совсем чуть-чуть от заданного Литвяк неправильного курса, Зоткин задел крылом за капонир и, потеряв управление, врезался в другой. «Самолет сгорел, летчик погиб и похоронен в хуторе Веселый в центре сада, — отчитывался майор Крайнов, однако даже он умолчал об истинной причине трагедии, покрывая Литвяк. — Причиной гибели сержанта Зоткина является личная недисциплинированность, который пренебрегал осмотрительностью и указаниями командира полка взлетать поодиночно, а командир звена гв. мл. лейтенант Литвяк не потребовала от своего ведомого наставления по производству полетов», — писал замполит.[495] Крайнов упоминал, что на Литвяк наложено взыскание, но это была лишь формальность. Ребята из эскадрильи и техники молча винили Литвяк в происшедшем, говорить ничего не требовалось: она сама себя казнила. Все видели, как Литвяк плакала после гибели Зоткина, как ходила как в воду опущенная, мучаясь чувством вины за бесполезную гибель вверенного ей ведомого, за небоевую потерю летчика и самолета в тот момент, когда полк на наглухо застрявшем Миус-фронте нес столько боевых.[496]
Глава 24
Командир, вижу «мессеров»!
Начинающий штурман, восемнадцатилетняя Оля Голубева провела над «Голубой линией» свой десятый боевой вылет. Она и Нина Алцыбеева — инструктор с тысячей часов налета, но начинающий боевой летчик, — попросили Бершанскую выпустить их вместе, и та разрешила. С трудом карабкаясь на У–2 вверх, в очень тесной задней открытой кабине со стенками из натянутого на палки зеленого брезента, Оля смотрела на высотомер.[497] Наконец поднялись до 1200 метров — предела для тяжело нагруженного старенького самолета. Моторчик в сто лошадиных сил натужно рокотал. Под крыльями и под брюхом самолета на простых крючках висели бомбы — Олин боезапас. Перегнувшись за борт, Оля внимательно смотрела вниз на перелески, поля, дороги — на случай, если придется искать место для вынужденной посадки. Не думала ни о зенитках, ни об истребителях, не представляла, что их через несколько минут ждет: она еще никогда не была под обстрелом.
На западной окраине городка чаще вспыхивают огоньки выстрелов, да и пушки бьют не переставая. Сюда и нужно сбросить бомбы. Ольга дернула за шарики бомбосбрасывателей, самолет вздрогнул от резкого толчка. Через мгновения внизу яркие вспышки, термитные бомбы разрываются на высоте в сто-триста метров, поражая большую площадь. Нина разворачивает самолет, чтобы лететь обратно, а Оля все смотрит назад, где разгорается пожар — какое зрелище!
Как назло, встречный ветер очень силен, самолет висит на месте и никак не может выйти из-под начавшегося сильнейшего зенитного обстрела. К ним «мчатся огромные шары, которые взрываются и превращаются в зловещие облака». Один из снарядов разрывается совсем рядом, словно обрушив на самолет удар тарана. «Они берут слишком высоко», — думает Ольга и тут же понимает, что на фоне освещенных луной облаков их прекрасно видно и немецкие зенитчики пристреливаются. Нина маневрирует. «Продержаться бы еще минут пять», — говорит Ольга, надеясь за это время выйти из зоны огня. Они не успевают испугаться, на страх нет времени. Секунда передышки, две, и снова рвется снаряд, теперь уже рядом. Самолет подбит и срывается в штопор. Нина выводит. Теперь не до маневров, подбитый самолет и по прямой еле может лететь. Новый шквал огня отшвыривает его в сторону, и Ольга понимает, что нужно лететь по ветру, ничего другого не остается. «Нина, держи на пожар, по ветру выскочим!» — говорит она, и Нина, развернувшись, летит по ветру в немецкий тыл, быстро выбираясь из огня. Нужно поворачивать назад, но самолет не слушается. Нине удается развернуться «блинчиком», без крена, и они, приноравливаясь к раненому самолету, летят назад, Нина — не отрывая глаз от приборов, Оля — от земли, сличая ее с картой. Работа слишком трудная, чтобы думать о чем-то постороннем. Наверное, никогда человек не соображает так ясно, как в минуты смертельной опасности. Наконец свой аэродром, с окраины которого им светит маяк.
Девчонки-техники, осматривая машину, то и дело ахали: «Плоскость-то наполовину вырвана!» — «А центроплан — вот так дыры!» — «А кабины, кабины-то изрешечены…»
Летчица велела доложить командиру, и Оля бодро пошла к старту, где стояла вместе с каким-то мужчиной Бершанская.
Мужчина, когда Ольга показала на карте, откуда был огонь, спросил, из чего по ним стреляли, и Ольга, мысленно огрызнувшись: «Не из рогатки же», только пожала плечами. Незнакомец повторил вопрос: «Так из чего же?» — «Б-бах! И серое облако», — ответила Оля, вызвав хохот этого человека, оказавшегося штурманом дивизии. «Тебя бы туда!» — обиженно подумала Оля. Она приняла крещение огнем.
Маша Долина, хоть и родилась в декабре, каждый год в начале лета отмечала свой второй день рождения, свой день победы над смертью.
2 июня 1943 года погода в районе «Голубой линии» была плохая и для Пе–2 нелетная: на этом самолете нельзя летать вслепую. Это прекрасно знали и в штабе, но в тот день, видно, приходилось пренебречь осторожностью, уж очень трудно было наземникам. Неожиданно полк Маши, теперь уже ставший 125-м гвардейским, получил боевое задание — разбомбить «высоту 101» в станице Крымской.[498] В тот день, как сказали, «эта чертова высота уже дважды переходила из рук в руки», не давая пехоте перейти в наступление. Девятку в тот день повела Женя Тимофеева, а Маша, старший лейтенант Долина, вела левое звено. Взяли курс на аэродром истребителей прикрытия, откуда взлетели «коврики» — так прозвали, бог знает почему, прикрывавшие истребители. «Ковриками» в том вылете, как и во многих вылетах того периода, в огненном небе Кубани были французы, отчаянные ребята из полка «Нормандия — Неман», летавшие на Ла–5. У французов, смелых и здорово летавших, был, по мнению Маши, один большой недостаток — «профессиональный индивидуализм». Главным, какое бы ни дали боевое задание, для них было сбить самолет противника, ради этого они могли и на время потерять свою пару, и отвлечься от сопровождения. Советских летчиков за это жестоко наказывали, французам — сходило с рук.
Летели на высоте тысяча метров вместо обычных двух тысяч, под нижней кромкой облаков. «Высота 101» встретила девятку «сплошной стеной зенитного огня». Вокруг раскрывались «белые и черные шапки артиллерийских разрывов, как лес гигантских одуванчиков». Летать на тяжелых бомбардировщиках могли только люди с крепкими нервами. Маневрировать на нем в плотном строю почти невозможно, уйти обратно нельзя, пока не выполнишь задачу, летчик летит на огромной машине, подставляя ее — и свое — тело огню, надеясь на удачу и на броню. Девятка рассредоточилась немного и стала потихоньку маневрировать вверх-вниз и вправо-влево, сбивая наводку зенитчиков противника, пока те пристреливались. Появилась и группа «мессеров», к которым бросились «коврики». У Маши что-то не в порядке было с машиной: мотор начал давать перебои перед самой целью. Самолет тянуло в сторону, он начал отставать. Машу не бросили ведомые, они тоже снизили скорость и держались за ней. Оказалось, что в самолет Долиной попали зенитным снарядом. Экипаж почувствовал только легкий толчок; они поняли, что произошло, лишь когда задымил левый двигатель. До цели оставались минуты, но каждая секунда казалась вечностью, «стук сердца заполнял кабину, перекрывая все внешние звуки, звуки войны». «Собрав волю в кулак», Маша ждала команду штурмана. Наконец: «Курс!» Бомбы сброшены, «пешку» подбросило вверх, Маша отчетливо увидела на земле, в немецких боевых порядках, столбы дыма и огня от своих бомб. Повернув назад, она поняла, что до аэродрома не дотянуть, подбитая машина на одном моторе теряла высоту. «Командир, вижу “мессеров”!» — услышала Маша голос стрелка-радиста Вани Соленова. Истребителей прикрытия нигде не было видно: где-то за облаками они тоже дрались. Ваня Соленов и штурман Галя Джунковская отстреливались, но как соперничать с истребителями? Подбили и прикрывавшие Машу самолеты ее звена. Маша Кириллова ушла догонять общую группу, второй ведомый — Тоня Скобликова — все не отрывалась от Маши, старалась прикрыть, хотя у нее самой из пробитого бензобака хлестал бензин. У Машиной «пешки» загорелось левое крыло, а она все надеялась как-то дотянуть до линии фронта. Боекомплект был пуст, а немецкий истребитель зашел справа вплотную, так что Маша видела лицо летчика. У «пешки» загорелся второй мотор, и Маша, надеясь сбить пламя, вошла в пикирование. Немец отстал, уже близко были русские зенитки. Каким-то чудом удалось перетянуть на горящем самолете линию фронта по реке Кубань и посадить его. Самолет горел, а они не могли выбраться — заклинило аварийный люк. Дым застилал глаза и лез в горло, к ним уже подбиралось пламя. Они метались, бились головой в заклинивший намертво люк. В самолете были сотни литров топлива, он вот-вот должен был взорваться. Спас всех раненый Ваня Соленов, дотянувшийся отверткой до люка. Он вытащил Машу, потом Галю, на которой горел комбинезон. Упав на землю, она начала кататься, чтобы сбить огонь, но Ваня кричал: «Галя! Маша! Быстрее, мать вашу! Сейчас рванет!» Ваня Соленов, «Соленчик», как прозвала его Маша, простой, совсем молодой парень, насчитал пятьдесят один шаг до того, как за спиной у них рвануло и обломки самолета полетели в воздух. Прибежали ребята-зенитчики и отвезли их в медсанбат, раненых, обгоревших, но живых.
В тот день их девятке здорово досталось: вернулось всего четыре самолета. Экипажи, к счастью, вернулись все.
Машу, Галю и Ваню Соленова встречал весь полк во главе с Марковым. У Маркова уже начался роман с Галей, но в этот раз он удержался от публичного проявления чувств. Только когда Галя горела в самолете второй раз, в 1944 году, и ее привезли обгоревшую и раненую, Марков, больше не заботясь о том, что подумают люди, со слезами бросился к ней и понес на руках. В Москве у него остались жена и маленькая дочь, к которым он после войны не вернулся, женившись на Гале Джунковской.
Повидать родных в 1941 году, перед самой немецкой оккупацией, Машу Долину отправил командир 296-го полка Николай Баранов. Когда в 1943-м советские войска начали наступать, освобождая Украину, Марков, которого в 125-м гвардейском бомбардировочном полку уже тоже звали «Батей», обещал Маше отпуск, когда освободят ее Михайловку.[499] Об освобождении родной деревни она услышала в госпитале. О судьбе родных, которые на два года оккупации остались без ее помощи, Маша ничего не знала.
За время оккупации, пока она не отсылала родителям деньги, у нее набралось 19 тысяч рублей — сумма, какую она и в руках не держала (их награждали и за успешные боевые вылеты, и за сохранность техники). Получив деньги — большую кучу сотенных купюр, Маша стояла в раздумье: как же их везти? Набила до отказа планшет, карманы, часть в свертке сунула за пазуху. За сборами наблюдали полковой врач и Женя Тимофеева. Они сначала молчали, потом все-таки прокомментировали: «Ты в своем уме? У тебя при первой же посадке на поезд отрежут все твои сумочки и вывернут карманы!»
Врач полка Мария Ивановна принесла большие широкие бинты и иголку с ниткой. «Ну-ка, поворачивайся, красавица!» Сшив бинты с купюрами внутри, они обмотали ими Машу. Вскоре Маша вспомнила боевых подруг добрым словом: планшет, в котором было четыре тысячи, ей срезали в поезде, в давке.
На одной из станций она купила подарки: «маме — платочек, Верочке — шапочку, мальчишкам — шарфики, гимнастерки». Наконец добралась. Но в землянке было пусто, за порогом «все вверх дном перевернуто и ни единой живой души», сердце сразу оборвалось. Соседи сказали, что ее семья в соседнем селе, где Маша их и нашла, худющих, бледных, измученных. Казалось, прошла вечность, так постарели мать с отцом. Мама, бросившись к Маше, зарыдала, отец прикрикнул: «Живая же она, что плачешь, как по покойнику?» А сам был «белый как лунь», и по глубоким морщинам на щеках бежали слезы.
Глава 25
Маленькие, прикройте!
Вот какой запомнили Тоню Лебедеву ее однополчане: невысокая и худенькая, как подросток, с угловатой фигурой и некрасивым лицом. В волосах, которые Тоня снова отрастила до плеч после экзекуции Расковой, сильная проседь. Запоминались ее внимательные умные глаза и замечательная открытая улыбка, которая освещала лицо, делая его очень симпатичным. Она была хорошим летчиком, по мнению однополчан — сильнее, чем Блинова. Интеллигентная, убежденная коммунистка, хороший и надежный товарищ.[500]
Пробыв в 65-м полку более полугода, Тоня Лебедева и Клава Блинова стали своими в боевой семье. Их охотно брали ведомыми и иногда доверяли летать ведущими. Эти девушки, близкие подруги, делившие радости и горести, были очень разные: Клава — веселая, заводная, обожавшая танцевать, душа компании, Тоня — серьезная, относившаяся к ребятам-летчикам как к младшим, которых нужно воспитывать и учить. Она действительно была почти самой старшей по возрасту в своей эскадрилье и ее парторгом. Летом 1943 года Тоня часто проводила беседы с личным составом, рассадив летчиков и техников вокруг себя на сухой пыльной траве или, если шел дождь, на нарах в тесной землянке. Темы бесед придумывала не сама, а получала от замполита Прокофьева, человека не очень умного, но в целом неплохого.
В отличие от большинства замполитов авиаполков Прокофьев сам летал на задания и имел сбитые самолеты (один из них он «подарил» зимой на Калининском фронте Лебедевой: она была ведомой и он дал ей добить подбитый им самолет, потом записав его на Тоню). Его смерть, через короткое время после гибели Тони, тоже была смертью боевого летчика, а не канцелярской крысы: Прокофьева подбила зенитная авиация и он разбился при посадке. И все же, по мнению большинства летчиков 65-го полка, никакой пользы от Прокофьева не было и не могло быть. Помимо официальной роли — Прокофьев выступал с лекциями о ситуации на фронтах и международном положении, инструктировал комсоргов и парторгов по работе с летчиками и техническим персоналом и писал отчеты начальству — замполит, конечно, «выслеживал, как кто себя ведет».[501] К счастью, Прокофьев ни в ком из летчиков и техников не изобличил политических преступников и загубленных жизней на совести не имел.
Беседы, которые проводила с летчиками и техниками парторг третьей эскадрильи Антонина Лебедева, касались в июле сорок третьего года нового приказа Сталина, имевшего совсем другой тон, чем опубликованный за год до этого приказ № 227: теперь речь шла о том, что Красной армии, гнавшей немцев на запад, и государству, которое смогло повернуть маховик войны в другую сторону, требуется максимальная поддержка, полная самоотверженность населения.[502] В свете приказа особое внимание Лебедева в беседах уделяла сбору средств в фонд Красной армии, но касалась и более отвлеченных предметов. В число рекомендованных ГлавПУРККА — Главным политическим управлением Красной армии — тем для бесед, докладов и лекций входила тема о патриотизме великих русских писателей Пушкина, Гоголя, Толстого и Чехова, а также рассказы о великих русских полководцах, в том числе Кутузове, с именем которого в русском сознании в первую очередь отождествлялась победа над Наполеоном.[503] Пусть Лев Толстой был графом, а Кутузов служил своему отечеству, отождествляя его с царем и православной верой, сейчас, в разгар войны, было, как никогда, нужно поднять патриотический дух советского народа, напомнив ему о героях русской истории. В беседах об истории и литературе бывшая студентка МГУ, девушка из интеллигентной семьи Тоня Лебедева была в родной стихии. Но кончился июнь, и для бесед совсем не стало времени. Стояла, почти все время, летная погода — ясная, жаркая и сухая. В воздухе становилось тесно: обе стороны готовились к одному из самых больших сражений Второй мировой войны — Курской битве.
Солдаты и техника, разгрузку которых 65-й гвардейский авиаполк только что прикрывал на станциях Выползово и Скуратово, теперь форсированным маршем днем и ночью шли к фронту. Через несколько дней кровавой мясорубки сражения у деревни Прохоровка большая часть техники, над которой в глубоком тылу, на Урале и в Сибири, в три смены трудились полуживые от голода люди, превратится в никому не нужные груды искореженного металла. Людям досталось не меньше. «Из тыла, из многочисленных пунктов формирования и обучения непрерывным потоком шло к фронту пополнение — массы истощенных, измученных тыловой муштрой людей, кое-как умеющих обращаться с винтовкой, многие из которых едва понимали по-русски», — вспоминал писатель-фронтовик Василь Быков. По крайней мере больше половины, а по некоторым источникам — две трети этих людей будут вскоре внесены в списки потерь в Курской битве.
Весенняя распутица дала обеим сторонам передышку, возможность освежить армию резервами и поправить положение с техникой и вооружениями, и немцы, которым нужен был реванш за Сталинград, стали готовить новое большое наступление.
Линия фронта на тот момент проходила от Баренцева моря к Ладожскому озеру, затем по реке Свирь к Ленинграду и далее на юг; у Великих Лук она поворачивала на юго-восток и в районе Курска образовывала огромный выступ, глубоко вдававшийся в расположение немецких войск; далее от района Белгорода шла восточнее Харькова и по рекам Северский Донец и Миус тянулась к восточному побережью Азовского моря; на Таманском полуострове она проходила восточнее Темрюка и Новороссийска.
Немецкое командование пришло к выводу, что самым удобным участком для нанесения решительного удара является выступ в районе Курска, получивший название Курской дуги. С севера над ним нависали войска группы армий «Центр», создавшие здесь сильно укрепленный орловский плацдарм. С юга выступ охватывали войска группы армий «Юг». Противник рассчитывал срезать выступ под основание и разгромить действовавшие там соединения Центрального и Воронежского фронтов. Играло роль и то, что выступ имел исключительно большое стратегическое значение для Красной армии.
Немецкое командование дало операции условное название «Цитадель». Планировалось, что ударные группы нанесут сходящиеся удары со стороны Орла на севере и Белгорода на юге и соединятся в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Срезать Курский выступ немцы бросили почти миллион человек, три тысячи танков и две тысячи боевых самолетов.
Согласно мемуарам Анастаса Микояна, Сталин зал о том, что немцы готовят эту операцию, уже в конце марта, то есть еще до того, как план был подписан Гитлером. Было даже известно время начала операции: в три часа ночи 5 июля. Советская сторона ответила на начало немецкого наступления контртподготовкой и воздушным налетом с использованием более четырехсот штурмовиков и истребителей.
Бои не прекращались. Обе стороны несли огромные потери. За несколько следующих дней немцам удалось продвинуться лишь на несколько километров. Немцы планировали овладеть Курском за два дня, однако через семь дней они все еще были далеко от цели, пройдя всего километров тридцать. К 11 июля советские войска, отступая в непрерывных боях, дошли до золотых полей совхоза «Комсомолец» Прохоровского района.
От совхоза «Комсомолец» до самых окраин никому пока не известной деревни Прохоровки лежали необозримые, переливающиеся мягкими волнами под ветром поля золотой ржи. Сеять на полях в ту весну было нечего, кроме ржи: в церкви в Прохоровке остался запас ржаного зерна, которое немцы не успели вывезти. Поэтому все поля засеяли рожью, и в первой половине июля набравшие силу колосья отливали на солнце золотом. С началом здесь новых боевых действий это огромное хлебное море стали уродовать черные воронки от бомб и снарядов. Солдатам, для которых золотые колосья были символом дома и мирной жизни, эти воронки запали в душу как одно из самых болезненных воспоминаний войны.
В 65-м полку после недели боев осталось восемнадцать летчиков и семь исправных самолетов. Начав активные боевые действия 12 июля, полк за неделю сделал 175 боевых вылетов. Задания выполняли всевозможные: прикрывали от немецких бомбардировщиков переправы, летали на разведку, прикрывали действия наземных войск, но больше всего сопровождали Илы, вылетавшие на штурмовку войск противника.[504]
«Маленькие, прикройте!» — просили штурмовики по радио. За потерю Илов при сопровождении грозило суровое наказание. Бронированные Илы расстреливали и бомбили немецкие войска и технику с высоты всего двести метров, и истребители должны были их прикрывать, конечно, на большей, но все равно малой высоте, становясь отличной мишенью для атак истребителей сверху и для всех зенитных вооружений снизу. А брони у Яков не было. «Одна пуля попала в радиатор — и все, выходи из боя», — вспоминал один из пилотов. Потери при сопровождении штурмовиков были самые высокие.
В 65-м гвардейском полку гибель молодого летчика Петра Королева из второй эскадрильи на одном из таких заданий запомнилась как обидная потеря. При сопровождении Илов 14 июля шестерка Яков приняла неравный бой с группой немецких истребителей. Когда его ведущий Попов был атакован тремя «Фокке-вульфами», Королев неожиданно пошел в лобовую атаку против одного из них и таранил его в лоб. «Самолет Королева разбит, летчик погиб», — отмечал в донесении майор Прокофьев, характеризуя гибель Королева как «особенно выдающийся поступок самоотверженности». У летчиков и техников гибель Петра Королева вызвала другие чувства: досаду на него, отдавшего свою жизнь, которая была так нужна и ему самому, и родине, восхищение его безрассудным мужеством и, наверное, еще большую досаду на потерю исправного хорошего Яка. Самолеты были нужны как воздух, воевать советские летчики уже научились, и таран вышел из моды.
В такой же спешке, в какой собирались самолеты, в тылу ковали кадры молодых летчиков. На смену погибшим приходили все новые и новые летчики-сержанты, обученные по ускоренной программе в военное время и имевшие небольшой налет. К лету 1943 года летчики, пробывшие на фронте несколько месяцев, считались закаленными в боях воинами, а из тех, кто воевал с начала войны, в живых остались единицы. С начала боев (12 июля) майор Прокофьев ежедневно докладывал о потерях: не вернулось два летчика, один летчик, четыре… 17 июля не вернулось семь летчиков из восьми, отправившихся в вылет по прикрытию наземных войск. Донесение об этом подписал другой офицер: Прокофьев был среди семи не вернувшихся из боевого вылета.[505] Не вернулась в тот день и Тоня Лебедева.
Двух подруг, Тоню и Клаву, всегда придерживали, следуя негласному приказу командира дивизии беречь их. Их это расстраивало: они считали себя опытными летчицами и действительно были таковыми по сравнению с пришедшими в полк новичками. Обе ничего не боялись. «Да мы обе были бесшабашные, смелые и дерзкие в деле, не желали от мужчин отставать», — вспоминала Клава.[506] Тоня, фанатичная коммунистка, к тому же не хотела, чтобы кто-то мог упрекнуть ее в том, что она отсиживается на земле, прикрываясь должностью парторга. Но в июле 1943-го придерживать их уже не было возможности, слишком велики были потери. Их выпускали каждый день, и не по одному разу; выпускали, успев только немного подготовить, и новичков. Концентрация самолетов с обеих сторон была самой большой за всю войну, потери с обеих сторон высочайшие.
На свое последнее боевое задание младший лейтенант Лебедева вылетела во второй половине дня 17 июля в составе группы из девяти самолетов. Чтобы создать большую группу, у которой были лучшие шансы защититься от «мессеров» и «фокке-вульфов», включили даже майора Прокофьева и штурмана полка майора Пленкина. Группе дали задание прикрывать наземные войска в районе Просетово, Гнездилово, Знаменское, что к юго-западу от Болхова.[507]
Советские части медленно двигались вперед, пытаясь замкнуть несколько колец вокруг групп немецких войск и прорваться к железной дороге. Немцы, сколько могли, подбрасывали резервы. Со стороны Орла немецкие бомбардировщики летели бомбить наступающие советские войска. Их появлению теперь всегда предшествовали большие группы истребителей «фокке-вульф», — это наши летчики наблюдали уже несколько дней.
Из девяти летчиков в полк вернулось двое. Из тониного звена не вернулся никто. Звеном командовал Герой Советского Союза Гавриил Гуськов, «высокий широкоплечий парень с типично русским лицом и спокойными карими глазами», один из лучших летчиков в полку. У него было шестнадцать сбитых, звание Героя он получил в мае 1943-го. Отправляясь в тот день в боевой вылет, Гуськов надеялся увидеть сверху свою родную деревню, находившуюся в этом районе. Гуськов и Тоня Лебедева полетели ведущими, а ведомыми — недавно пришедшие в полк молодые летчики Пономарев и Альбинович. На подходе к Орлу, у деревни Бетово, группу атаковали истребители «фокке-вульф». Что случилось потом, никто точно не знает: погибли все четыре летчика. Летчик Адиль Кулиев из другого звена потом доложил, что видел, будто Лебедева отделилась от самолета и раскрыла парашют. По его словам, немецкий летчик стал расстреливать Лебедеву в воздухе. Но Кулиев ошибся: Тоня осталась в своем самолете.
О судьбе замполита ничего не было известно. Не вернулся и штурман полка Пленкин. «Личный состав, — писал полуграмотный автор донесения, — сильно переживает невозвращения наших лучших товарищей». Он сообщал, что обращения к наземным частям с целью найти «пропавших товарищей» не дали результата. По всей видимости, они сбиты над территорией, занятой противником. Три человека, совершившие вынужденную посадку, в том числе Прокофьев, возвратились в полк на следующий день. Было установлено, что два летчика из группы погибли. О судьбе остальных пропавших, в том числе Гуськова и Тони Лебедевой, ничего известно не было.
Откуда-то взялся слух о том, что Лебедева попала в плен. После освобождения Орла стало известно, что кто-то якобы видел ее там, в госпитале, раненную — скорее всего, спутали с какой-то другой девушкой, раненной и попавшей в плен. Кто-нибудь сказал, что это была Тоня, и все поверили — наверное, хотелось хотя бы придуманной определенности. Ранее родным сообщили, что Тоня пропала без вести. Теперь адъютант полка решил, что для родных лучше недостоверная информация, чем никакой, и написал тониному отцу в Москву вот такое письмо.
Здравствуйте, Василий Павлович! Получил Ваше письмо с просьбой рассказать о судьбе Тони. На Вашу просьбу я сейчас ничего точного ответить не могу, а что было раньше известно о Тоне, то напишу.
После освобождения города Орла мне стало известно, что Тоня находилась в госпитале и после эвакуации ее увезли немцы. Работники этого госпиталя рассказывали, что, когда ее допрашивали немецкие офицеры, она вела себя как большевик и патриот Родины. И когда они ей сказали: «Мы все равно победим», она им плюнула в лицо. После этого нам ничего о ней не известно. Все наши боевые товарищи не забыли о Тоне и никогда не забудут — ведь она была исключительно смелая, храбрая и инициативная в бою летчица, имела на своем счету 3 сбитых самолета противника. Память о Тоне мы чтим в своих сердцах. До свидания.
Пестряков Евгений Иванович, п/п 35428».[508]
Отец, мать и сестры много лет ждали, что Тоня вернется, постоянно искали ее. Тонина кровать в московской квартире стояла заправленная, готовая в любой момент принять свою пропавшую хозяйку. Тонин отец Василий Павлович Лебедев умер незадолго до того, когда ее наконец нашли.
Мальчишки остаются мальчишками и играют в войну всегда и везде, играют даже тогда, когда вокруг них нет ничего, кроме войны. Хотя Мценский район был оккупирован немцами и те жили почти в каждой большой деревне, мальчишки в деревне Разинкино обожали собирать стреляные гильзы и играть в стрельбу; соревновались, кто больше найдет гильз. Как только где-то поблизости от них завязывался воздушный бой, они бежали туда, перегоняя друг друга, в поисках гильз, не особенно задумываясь о судьбе воюющих у них над головой летчиков. Боев вокруг шло более чем достаточно: ежедневно к вечеру со стороны Орла к городу Болхову в сопровождении истребителей направлялись тяжелые немецкие бомбардировщики. Они летели на небольшой высоте, и на крыльях были четко видны кресты. Часто их встречали советские истребители.
Жарким днем 17 июля мальчик Саша Межуев пошел с бабушкой в лес за хворостом. Со стороны Орла послышался гул большого количества самолетов, навстречу появились русские истребители, и начался бой. Один немецкий двухмоторный самолет загорелся и пошел в сторону деревни Поляны. Вывалился из карусели и советский истребитель. Саша подумал, что самолет подбит: за ним тянулась белая струйка дыма. Раздался удар, и наступила тишина. Саша побежал к самолету, который упал совсем близко, но не добежал: метрах в десяти от самолета он увидел на земле человека. Летчик медленно, опираясь на руку, стал приподниматься, пытаясь осмотреться вокруг одним глазом: второй затек кровью. Он тут же опять опустился на землю, сил у него уже не было. Подошла бабушка Василиса и пыталась ему помочь. Расстегнула шлем и положила ему под голову. Попыталась освободить шею, но не смогла. Взяла его руку, пощупала его пульс и сказала: «Сыночек, еще жив»…
Мальчик впервые увидел умирающего человека, и летчик навсегда остался в его памяти: худощавый, невысокого роста, с темными волосами. Был он в темно-синем кителе с четырьмя лычками на погонах.
Вскоре появились два немца, жившие в сашиной деревне, и запретили подходить близко к летчику. От них Саша услышал, что умирающий летчик был француз.[509]
16 и 17 июля в этом районе погибли трое летчиков из полка «Нормандия». Этот полк, сформированный на базе эскадрильи французских добровольцев — 14 летчиков и 58 авиамехаников, — участвовал в боях с апреля 1943 года.
После освобождения Знаменского района местные жители указали приблизительное место падения двух «французских» самолетов, но поиск был осуществлен лишь через тридцать лет. Один из них искали у деревни Бетово, но нашли не его, а самолет Тони Лебедевой.[510]
Школьники-следопыты, раскапывая место падения самолета, нашли среди обломков самолета останки летчика, его парашют, пистолет, нож и документы, среди которых были полетная и медицинская книжки. В обеих книжках еще можно было прочитать имя летчика: Лебедева Антонина Васильевна. Нашли записную книжку с тезисами для подготовки к партийному собранию. Нашли хорошо сохранившийся пулемет, номер которого тоже подтверждал, что он был установлен на самолете Лебедевой. А в останках пилота следопыты нашли шлемофон с фрагментами черепа и двумя короткими, с проседью, косами.
Останки захоронили неподалеку от этого места и поставили на могиле небольшой обелиск, сделанный из бронеспинки кресла пилота из тониного самолета.[511]
Немцев гнали на запад. В разрушенные поселки, сожженные деревни Курской области возвращались жители. Константин Симонов, видевший в 1941 и 1942 годах, как отступали в беспорядке армии и по дорогам брели, не зная куда, старики и женщины с детьми, написал под Сталинградом полные боли строки:
- Не плачь. Все тот же поздний зной
- Висит над желтыми степями.
- Все так же беженцы толпой
- Бредут; и дети за плечами…[512]
Теперь люди шли обратно, возвращались в родные места, но им было не легче. И сердце Симонова, поэта и солдата, снова переполняла та же страшная жалость, та же вина мужчины, который не в силах облегчить участь оставшихся без защиты и помощи женщин и детей.
Как только начались бои на центральном направлении — Курская битва, главный редактор «Красной Звезды» отправил туда Симонова, который, узнав о немецком наступлении, поехал со смешанными чувствами: слишком хорошо помнил страшное лето 1941 года и «почти такое же страшное» лето 1942-го. И поэтому, услышав от командира 75-й гвардейской Сталинградской дивизии Горишного фразу «Боюсь, не пойдут они сегодня на меня», он сначала не понял, и Горишный начал, как ребенку, объяснять ему, что его дивизию поддерживает восемь артиллерийских полков, и чем больше он перебьет наступающих немцев, тем легче ему будет потом, когда самому придется наступать на них. Симонов запомнил то утро и эту фразу, свой осадок удивления, что «вот мы те самые, которых так давили и гнали перед собой немцы, вдруг начали побеждать». После этого утра удивления уже больше не было, и то, что немцев били, стало наконец в порядке вещей.
На обратном пути в Москву, где корреспондент должен был «отписаться», Симонов с фотографом Халипом еще раз вернулись в район Понырей, где «печально стояли несжатые поля», «в балке искалеченные немецкие орудия, горы пустых плетенок из-под снарядов», неприметные сначала в густой ржи трупы убитых. Местные жители возвращались домой по пыльным проселкам или, «не по-крестьянски»,[513] сокращая дорогу, прямиком через поля. Корреспонденты остановили машину около женщины, идущей с детьми по промятой во ржи тропке. Симонов сосчитал детей: пятеро, а потом оказалось, что на руках у матери еще шестой, грудной. И женщина, и дети были «безмерно тяжело нагружены», еле шли, сгибаясь под тяжестью узлов. Женщина остановилась и сняла с себя два связанных друг с другом мешка, — вернее, «вылезла из-под них», так они были велики. «Устало отерев лоб», она села на один из мешков, и все дети тоже освободились от своей ноши и сели рядом с ней. «Издалека ли?» — спросил Симонов. Женщина ответила, что прошли они уже тридцать километров, а уже сил нет. «А бросить не могу. — женщина показала на мешки и на убогие, залатанные узлы с вещами. — Небось немец пожег там все у нас, в деревне, во всем нужда будет. Нельзя бросить. А еще сорок верст идти».
Она начала плакать. Лицо ее казалось лицом старухи. Симонов спросил, все ли дети ее, и она, подтвердив, поочередно назвала имена детей. Старшему было десять лет, младшему — восемь месяцев. Муж пропал на войне.
Симонов молчал. В эмке их было четверо, и ехали они в другую сторону. Если бы даже сделать крюк, все равно всю семью и все вещи в эмку не возьмешь.
«Ну, пошли, что ли», — сказала женщина и снова подлезла плечом под мешки, которые, когда она встала, оказались «почти в рост с нею».
Симонов смотрел, как «дети тоже молчаливо, серьезно, как носильщики или грузчики, поднимают свои мешки и мешочки, даже предпоследний, трехлетний, тоже поднимает с земли и, как большой, переваливает через плечо узелок». Они уходили по тропинке, и Симонов «бессмысленно и беспомощно» смотрел им вслед. Ему казалось, что он и без того уже «ненавидел фашистов так, что дальше некуда», и все-таки вдруг ко всей этой ненависти добавилась еще одна капля.
Советские войска двигались к Орлу. В 65-м истребительном полку после июльских боев восемнадцать оставшихся в полку летчиков летали по очереди на уцелевших семи самолетах.[514] Клаве Блиновой после гибели Тони разрешали летать неохотно. Но ей теперь еще важнее было летать: она хотела отомстить за любимую подругу.
У нее, теперь такой одинокой, холодело сердце при мыслях о судьбе Тони, с которой она любила петь про синий платочек. Попасть в плен было для советского человека позорно и очень страшно. Попасть в руки врага советский человек имел право только мертвым, иначе он предавал свою родину. О том, как ужасна участь попавших в плен, знал каждый: советские газеты были полны заметок об издевательствах, которым подвергаются в плену советские солдаты, обильно проиллюстрированных леденящими кровь фотографиями. А Тоня к тому же была женщиной.
Но попасть в плен, который Клаве казался страшнее самой смерти, было суждено как раз ей.
«Свои потери: самолетов — 6 шт., летчиков 5 чел. не вернувшихся с боевого задания», — писал в очередном донесении майор Прокофьев, который снова был в строю. Дальше кратко упоминались ведущий, член ВКП(б) гвардии старший лейтенант Ковенцов Н. И., и его ведомая, гвардии младший лейтенант, член ВЛКСМ Блинова К. М., которые не вернулись с задания по сопровождению штурмовиков. «По заявлению гвардии лейтенанта Сычева, два самолета Яка подбиты в воздушном бою ФВ–190. Из одного нашего подбитого самолета летчик выбросился на парашюте (предположительно Блинова). Другой на низкой высоте свалился на крыло и врезался в землю, где сгорел (предположительно Ковенцов)».[515] Выбросилась с парашютом действительно Клава Блинова.
Почему ее сбили, в какую минуту она ослабила внимание, Клава так и не поняла. Она помнила только сухой треск и скрежет металла. Ее сильно тряхнуло, ударило о борт, и самолет начал разваливаться. Какое-то время она падала вместе с кабиной, зажав в руке бесполезную теперь ручку управления.[516] Страха не было, была одна четко работающая мысль: «Жить, жить!» Она отстегнула шнур шлемофона и привязные ремни. В следующее мгновение, будто невидимой рукой, ее с дикой силой вышвырнуло из обломков машины. Раскрылся парашют, и тут она увидела, как, «на глазах все увеличиваясь, кажется, прямо на нее несется, стреляя огненными трассами», немецкий истребитель. Немец чуть не зацепил плоскостью за купол парашюта: Клава почувствовала, как ее сильно качнуло. Она услышала чей-то дикий крик — оказалось, свой собственный. Быстро-быстро намотав на кулак парашютные стропы, чтобы увеличить скорость падения, она понеслась к земле, и самолет с белыми крестами скрылся из виду.
В следующий момент в ее мозгу пронеслась тревожная мысль о том, куда она падает: ведь бой вели над вражеской территорией. Перед самым приземлением она заметила неподалеку лесок и решила бежать туда и спрятаться. Избавиться от парашюта — дело нескольких секунд. На бегу Клава вдруг услышала, как что-то «шлепается, обрывается вокруг… с незнакомым разбойничьим свистом». Она уже почти год была на фронте, но под обстрел на земле еще ни разу не попадала и, только почувствовав резкую боль в ноге, поняла, что по ней стреляют. Пуля попала ей в ступню. Она еще немного пробежала, пригнувшись, но больше не могла наступать на ногу и поползла. Немецкий солдат появился неожиданно прямо над ней.
Когда она поднялась, вся в пыли и земле, и сдернула с головы шлем, подбежавшие немцы запричитали удивленно и сочувственно: летчик оказался совсем молодой женщиной. Сочувствие сочувствием, а от сувениров немцы не отказались. С Клавы сорвали часы, погоны, оторвали «с мясом» от гимнастерки гвардейский знак и медаль «За отвагу». Потом ее на попутной машине отправили в полевую жандармерию, откуда, допросив, вместе с другими летчиками отправили в лагерь для военнопленных в город Карачев, к которому уже близко подошел фронт. В Карачеве все было в огне, рвались снаряды, «в панике метались мотоциклисты», на перекрестках орали регулировщики. Когда выбрались из Карачева, Клава уже знала, что их группу отправляют в Брянск.
В лагере военнопленных в Брянске лишь небольшая часть из восьмидесяти тысяч военнопленных жили в зданиях бывшей ремонтной базы, а большинство — просто под открытым небом. Как ни удивительно, среди этой огромной массы людей нашелся человек, который знал Клаву и окликнул ее по имени. У него на шее висела, как и у всех, вместо имени бирка с номером, а узнать кого-либо в обгоревшем обезображенном лице было невозможно.
— Да Головин я. Анатолий. Командир твой, — проговорил незнакомец еле слышно.
И только тут Клава не выдержала и расплакалась. «Плакала, как никогда в жизни».[517]
Двадцатичетырехлетний командир первой эскадрильи капитан Анатолий Головин в боях на Курской дуге показал себя как исключительно способный летчик. По документам, он сбил восемь немецких самолетов, но в своем последнем боевом вылете на прикрытие наземных войск все в тот же район поселка Знаменское (хотя со времени гибели Тони и ее звена прошло уже две недели, советские войска почти не продвинулись) был сам сбит «фокке-вульфом».[518] Докладывая о том, что Головин выпрыгнул с парашютом из горящего самолета над территорией противника, майор Прокофьев упоминал также, что штурмовики через свое командование передали Головину благодарность: на днях он их здорово выручил. За несколько дней до того, как его сбили, Головин с группой вылетал на прикрытие штурмовиков, и его ведомый застрял в грязи на старте. Из-за этой задержки всю группу повернули назад. Головин, которого повернуть не успели, в течение всего полета штурмовиков прикрывал их один и сбил два «фокке-вульфа». Он получил благодарность и от руководства своей истребительной авиадивизии. Ему светила высокая государственная награда, но судьба распорядилась так, что, раненный, страшно обожженный, он сидел на пыльной земле лагеря вместе с тысячами других советских военнопленных.
Вскоре Клаву и других летчиков отправили на железнодорожную станцию Брянска. Стало известно, что их увозят на запад. Они решили пытаться бежать в пути, и им, сильно рискуя, помогли местные женщины, которые пробирались к самой платформе, чтобы бросить военнопленным хлеб и картошку. В кульке с махоркой и в кастрюле с вареной картошкой Клава и ее товарищи по несчастью получили два ножа. Было решено прорезать в стенке вагона отверстие, чтобы откинуть у выхода дверную скобу.
Это удалось сделать только через три дня. Прыгали в темноту по очереди один за другим, как парашютисты, на полном ходу поезда. Клава на секунду замешкалась, рассчитывая, как не приземлиться на раненую ногу. Поднявшись, она прошла немного вдоль полотна и встретила остальных. Впятером они пошли через поле яровой пшеницы на восток.
У Клавы Блиновой было три брата: старший Сергей, Степан и Павел. Все трое ушли на фронт добровольно на второй день войны. Степан уже погиб под Смоленском, Сережа — под Сталинградом, младший Павел недавно еще был жив и воевал, но кто знает. Что, если его уже нет? Клаве нужно обязательно вернуться.
Собирая ягоды, грибы и коренья, минуя населенные пункты и дороги, они шли одиннадцать дней. Только через десять дней в первый раз зашли в деревню, где им дали картошки, табака и немного хлеба и объяснили, что до линии фронта осталось всего двадцать километров.
Реку, названия которой не знали, переплыли на досках от разрушенного моста. На советском берегу они наконец-то смогли выпрямиться во весь рост.
Кажется, Клава в жизни не слышала команды радостнее той, которая вскоре раздалась: «Стой! Кто идет?» Она думала, что все испытания позади, но предстояли новые.
В штабе одного из полков 21-й армии, куда их привели двое автоматчиков, с ними беседовал офицер из Смерша, недоверчиво реагировавший на любой их ответ. Каждому из них дали лист бумаги для объяснительной записки и покормили, только когда они закончили писать. «Спецпроверка» шла две недели; после нее их ждал фильтрационный лагерь. Условия там мало отличались от немецкого лагеря военнопленных: такие же нары, почти такая же скудная еда. Только вместо ненависти к тюремщикам была растерянность: ведь тюремщиками были такие же советские граждане, как ты сам.
Воздушный стрелок Николай Алексеевич Рыбалко, вместе с Клавой бежавший из плена и вместе с ней оказавшийся после немецкого в советском лагере, вспоминал, как бежали дни в этом лагере, «державшем в себе огромное количество боевой силы, способной брать любые преграды противника».[519] Все уже привыкли к лагерной жизни и работе. Многие люди находились здесь уже по году…
От советского плена Клаву спас ее старый знакомый — пьяница и грубиян Василий Сталин, любивший летчиков и по возможности защищавший их от длинных рук своего отца. Вскоре после того, как ей чудом удалось передать письмо в родной полк, в лагерь за ней приехал ее хороший друг, командир братской эскадрильи Вася Кубарев. Скоро она снова, со слезами на глазах, села в кабину истребителя.
Из новых друзей, которых Клава Блинова оставила в лагере, вернуться в летный строй не удалось почти никому. Судьба большинства из них была непоправимо искалечена. Многих ждали годы сталинских лагерей. Самого знаменитого, если говорить о побегах из немецкого плена, советского военного летчика Михаила Девятаева, который бежал из плена на немецком самолете, увезя с собой еще нескольких человек, родная страна наградила за подвиг десятью годами лагерей.
Глава 26
Это за Катю!
«Родная моя мама! — писала Катя Буданова 25 июня. — Я снова на фронте. Долетела благополучно. Здоровье хорошее. Приступаю к боевой работе. Мама, погибли мои четыре боевых товарища. Сейчас я вооружаю себя на беспощадную месть за них. Мамочка, ты обо мне не беспокойся. Я буду писать тебе часто, и ты мне пиши…»[520]
Подробнее Катя, только по возвращении в полк узнавшая о гибели «Бати», Алеши и Гриши Буренко, написала в письме сестре Вале.
«Дорогая моя Валюшенька! Долетела благополучно, но ты, дорогая моя, не можешь себе представить, какой удар… Помимо «Бати» и его заместителя погибли еще два — командир эскадрильи Герой Советского Союза Леша Соломатин и Гриша Буренко. И вот теперь ты понимаешь мое состояние, что значит потерять самых дорогих людей из своей родной семьи — своего полка. Это все произошло за один месяц — за мое отсутствие. Чувствовало мое сердце, поэтому я так и рвалась скорее на фронт…»[521]
Полк, когда Катя вернулась, стоял на другом аэродроме, но совсем недалеко от предыдущего: фронт совсем не продвинулся.
Командир звена из 2-й эскадрильи Иван Домнин в своих коротких воспоминаниях о Кате недоумевает, почему она не получила звания Героя. В его памяти и в памяти других однополчан она осталась настоящим героем. Домнин, часто бравший Катю ведомой, считал, что она спасла ему жизнь как минимум дважды. Как-то, садясь на аэродром около Миуса, Домнин «прозевал воздух». Оказалось, что за ним и Катей летела четверка немецких истребителей («по-воровски», выразился Домнин, хотя подкараулить самолет противника на взлете или посадке было совершенно обычным приемом). Домнин уже зашел на посадку, когда вокруг начали рваться снаряды, и он подумал, что по ним по ошибке бьют свои же зенитчики. Катя, вовремя сориентировавшись, спасла положение: осталась в воздухе и отбила атаку. Посадив самолет, она доложила пристыженному командиру эскадрильи: «Вы знаете, товарищ командир, пристали эти нахалы ко мне, еле выкрутилась, аж пот градом». Домнин, отдав должное ее чувству юмора, признался, что сам он немцев не видел. «За то, что меня не сбили, большое спасибо тебе».[522]
Второй случай, когда Буданова, как считал Домнин, спасла его, произошел совсем незадолго до ее гибели. Вместе с Катей он прикрывал штурмовиков, вылетевших на цель у Миуса. Налетели «мессера», и, увлекшись атакой, Домнин не видел, что по нему ведет огонь еще одна пара немецких истребителей, — снова, по его собственному выражению, «прозевал воздух». Эту атаку смогла отбить Катя, которая тогда, как и Домнин, сбила немецкий истребитель.
Стояло жаркое-жаркое степное лето, летчики 296-го полка, как и год назад, выбивались из сил. Немцы из-за небольшого количества самолетов в своих ВВС начали перебрасывать авиагруппы между фронтами и к середине июля, пользуясь наступившей плохой погодой под Курском, перебросили оттуда часть воздушной эскадры «Удет». Летчики 296-го полка иногда делали по пять боевых вылетов в день, по ночам плохо спали, не могли есть между вылетами, да и обед, когда его привозили на аэродром, был несъедобным из-за постоянно налетавших стаями и падавших в борщ полевых блох.[523]
Удивительно, но, несмотря на страшное дневное напряжение, по вечерам после ужина, если только находились желающие устроить танцы, Литвяк и Буданова по-прежнему «любили потанцевать». Как и раньше, Катя часто танцевала за парня.[524] Об этих вечерах, которых было всего два или три, не пишут биографы Литвяк. Если им верить, то после гибели Леши Лиля хотела только одного: «воевать и мстить за него». Но то, что Лилька ходила на танцы, — неужели это означало, что Леша уже ушел для нее в прошлое? Валя Краснощекова считала, что это просто разрядка после страшного напряжения дня, способ поддержать ребят, своих боевых товарищей.[525] Теперь с Лилей снова была Катя, которую она очень ждала, смелая и неунывающая. Но они пробыли вместе совсем недолго.
8-я воздушная по-прежнему поддерживала армии Южного фронта, который проводил перегруппировку, готовясь нанести удар. Сначала силы — десятки тысяч людей, тысячи орудий и сотни танков — перемещали только по ночам. Но июльские ночи короткие, так что к 14 июля командующий разрешил совершать марши и днем.[526] Огромные колонны машин двигались по фронтовым дорогам круглые сутки, нуждаясь в защите с воздуха: их бомбили большие группы бомбардировщиков, переброшенные из других мест, в том числе с Курского направления. К 17 июля требовалось быть в полной готовности, чтобы нанести удар по участку фронта длиной в тридцать километров — Дмитриевка — Куйбышево — Ясиновский и прорвать там оборону противника.
Вечером 16 июля, поднявшись на патрулирование в район села Куйбышево, Лиля Литвяк участвовала вместе с Яками из других частей (всего советских истребителей было восемь) в бою с примерно тридцатью немецкими бомбардировщиками, которые, как насчитали советские летчики, сопровождало восемь «мессершмиттов». Вылет этот был уже вечером, последний. Литвяк подбила бомбардировщик, Ю–88, который «после атаки со снижением и резким переворотом, сбивая с плоскостей пламя, ушел в западном направлении». Пилот, как отмечало донесение, «падения не видела, так как была атакована “мессерами”». Литвяк повезло: она сажала самолет «на пересеченной местности» около села Дарьевка, совсем недалеко от своего аэродрома, и посадила благополучно. Лилин самолет подбили: как отмечалось в другом документе, «самолет имеет пробоины фюзеляжа, левый бензобак, водосистема, воздушная система», из-за чего имеющую «большие повреждения» машину отправили в «заводской ремонт». Это был не тот самолет, на котором она обычно летала; на свой, номер 16131, который обслуживал Коля Меньков и в кабине которого она во время дежурства выцарапала «мама» и свои инициалы — «ЛЛ», она села уже на следующий день: от отдыха, несмотря на ранение, отказалась, сказав: «Я хочу летать на боевое задание, сейчас некогда отдыхать».[527]
Бои, и на земле, и в воздухе, шли с колоссальной интенсивностью. «Наиболее напряженным периодом боевой работы являлся период с 17.7 до 6.8.1943 года», — отмечал в донесении Крайнов, прибавляя, что основной задачей полка в этот период было «прикрытие штурмовиков и бомбардировщиков путем сопровождения над полем боя».
Советское наступление началось рано утром 17 июля, после артиллерийской подготовки. Однако первая атака сразу же захлебнулась: слишком силен был артиллерийский огонь противника и атаки с воздуха. Телефонист из роты связи Александр Брехов вспоминал: «Мы прорвали их фронт и сумели продвинуться вперед на несколько километров, но понесли большие потери. Немцы напустили на нас столько авиации, что буквально разнесли наш передний край. Их пикирующие бомбардировщики атаковали непрерывно, одну группу в воздухе сразу сменяла другая, а в таких группах было по 18, по 36 самолетов».
За день советским частям удалось продвинуться всего на глубину от двух до шести километров, выйдя на рубеж Степановка — Мариновка, лишь немного расширив плацдарм на берегу Миуса. Противник подтягивал резервы.
У села Мариновка, по воспоминаниям очевидца, «жестокий бой велся днем и ночью, каждый метр земли освобождался с боем». Перед деревней лежали трупы людей и лошадей, немцев и русских. Раненых ночью 17-го отвели к переправе и отвезли в тыл. В следующие дни Мариновку нещадно бомбили «Юнкерсы», каруселью заходя на бомбометание. Вскоре к селу прорвались немцы, советские войска отошли к кургану Саур-Могила, в очередной раз попав там под страшную бомбежку. Немцы продолжали контрнаступление, и поселок Саур-Могила «как-то опустел». Советское наступление захлебывалось.
Во второй половине дня 18 июля на правом берегу Миуса остался советский плацдарм примерно десять на десять километров. Подтянутая в помощь 5-й ударной армии, 18-го включилась в активные боевые действия 2-я гвардейская армия, которая должна была попытаться развить наступление и выйти на рубеж реки Крынки. Именно там и тогда при сопровождении штурмовиков погибла Катя Буданова.
Восемь штурмовиков, вылетевших в район села Покровское недалеко от Артемовска, они сопровождали всего лишь парой — лейтенант Катя Буданова и младший лейтенант Алехин. О том, что с ними случилось, стало известно со слов пилотов штурмовиков, которых эти два Яка защитили хорошо, отбив все атаки. На них напало шесть Ме–109, один из Як–1 ушел «домой», сопровождая подбитый Ил. Это был самолет Алехина, который, однако, на свой аэродром не вернулся. Второй Як–1, согласно донесению, «после ухода “мессеров”» на высоте около двух тысяч метров «вошел в отвесное пике — врезался в землю и сгорел…».[528]
Писарь из полевого госпиталя 2-й ударной армии Е. Швырова первой оказалась на месте падения самолета. Подробности она рассказала в письме, написанном в московскую школу № 63, в которой создали музей Кати Будановой. Она писала: «Воинская служба моя проходила в полевом подвижном госпитале, который находился в составе 2-й гвардейской армии. Июль — август 1943, когда шел штурм на Миус-реке, мы дислоцировались в селе Новокрасновка Антрацитовского района Ворошиловградской области».[529]
Швырова вспоминала, что бои шли такие жаркие, что из-за грохота снарядов и шума авиации в штабе можно было разговаривать, только крича друг другу на ухо.
«И вот так случилось, — продолжала автор письма, — что я оказалась на улице и мое внимание привлек снижавшийся самолет. Я поняла, что летчик ранен или убит; самолет упал и мгновенно вспыхнул…
Село расположено в низине, а самолет упал на пригорке, пока я его одолела, этот пригорок, самолет уже догорал, а летчица (это была Катя Буданова) лежала рядом с самолетом окровавленная, парашют окровавленный».
То, что обгоревший окровавленный труп был телом женщины, нашедшие Катю узнали из документов, которые были с ней. Похоронили ее деревенские женщины, а писарь Швырова и ее товарищи долго перечитывали письма, которые нашли у Кати, и пересматривали фотографии, только позже отослали все в Москву катиной сестре Вале. Среди писем было письмо Кате от Михаила Баранова и катино недописанное письмо матери. Были разные фотографии: в военной форме у самолета, в гражданской одежде и, совсем молодая, в красивой шляпе. Эти снимки Швырова хорошо запомнила — не верилось, что это фотографии девушки, которую переломанную, в крови, Швырова нашла у обломков самолета.
Девушки в штабе, хотя видели всякое, были потрясены гибелью летчицы. Ровно через день на том же пригорке упал и так же сгорел немецкий самолет. «Тогда у всех, как по команде, вырвался вздох: “Это за Катю!”»
Некролог на Катю, опубликованный в газете «Сталинский воин», подписали и начальники, и рядовые летчики, ее товарищи по полку: вслед за Хрюкиным, Сидневым, Голышевым и Шестаковым шли имена Литвяк, Линовицкого, Сошникова и других людей, которые были с ней рядом на фронте.[530]
Биографы Литвяк и Будановой писали, якобы со слов однополчан, что через несколько дней после того, как деревенские женщины похоронили Катю, в Новокрасновку прилетала девушка-летчица, белокурая, невысокого роста. Она спросила, где похоронили Катю, и ходила на могилу. Без сомнения, это была Лиля Литвяк.
Но это выдумка. В Новокрасновке не было аэродрома, а Як — не У–2, посадить его там было негде. На похороны Кати приезжали на полуторке с женщиной-шофером несколько человек из полка, летчиков и техников — все, кто в этот момент жестоких боев смог поехать.[531] Лиля не ездила на могилу к подруге, она все время была в воздухе. В день похорон, 19-го, она сбила еще один немецкий самолет.[532]
После гибели Кати Валя Краснощекова Лилю почти не видела: Литвяк летала в другой эскадрилье, и шли такие бои, что не продохнуть.[533] Валя про Лильку часто думала, жалела ее, потому что Литвяк осталась совсем одна, и решила, когда представится момент, просить командира полка, чтобы ее перевели в ту же эскадрилью. Но командир полка Голышев через два дня после Кати Будановой тоже погиб.
21 июля был плохой день: из вылета по сопровождению Илов не вернулись командир полка Голышев, Лиля Литвяк и ее ведомый Дима Свистуненко. Майор Крайнов писал в донесении, что командир полка ушел на задание пьяный: его пытались остановить начальник штаба Смирнов и полковой особист лейтенант Перушев. Голышев «послал Перушева матом». Для интеллигентного, строгого Голышева такое поведение не было типичным, однако возможно, что сказался сильнейший стресс последних недель, опасные задания по сопровождению штурмовиков, постоянные потери.[534] Голышев, вероятно находясь в пьяном азарте, считал, что он в прекрасной форме, поэтому особиста, которого, как и большинство людей в его полку, сильно недолюбливал, слушать не стал.
Они сопровождали шесть Илов в район деревни Криничка, близко от реки Крынка, где советские войска все еще обороняли маленький плацдарм, безуспешно пытаясь контратаковать. Над целью штурмовиков атаковала большая группа «мессершмиттов». Как докладывал начальник штаба Смирнов, «Литвяк прибыла в часть 22.7.43 г., доложила, что она была в бою подбита и преследовалась Ме–109 до земли, произвела ВП (вынужденную посадку) на фюзеляж в районе Новиковка».[535]
Когда по расчетам в самолете должно закончиться горючее, механики начинали ждать свои самолеты назад, высматривать их в небе — они их как-то узнавали еще издалека. «Мой летит», — говорил кто-то, а те, кто не дождался свою машину после того, как горючее по времени уже кончилось, еще какое-то время ждали, а потом в подавленном состоянии уходили со стоянки. Теперь надежда была на то, что самолет сел где-то на вынужденную посадку и пилот подаст о себе весточку. Так было в тот день и с Колей Меньковым: его самолет не вернулся и ему ничего не оставалось, как ждать и надеяться на лучшее.
Литвяк, с царапинами на лице, но невредимая, появилась в полку уже на следующий день, и механик поехал на полуторке с шофером-женщиной вызволять ее самолет.[536] Литвяк рассказала, что налетела большая группа «мессеров» и они приняли бой, но о том, что случилось с Голышевым и Свистуненко, ничего конкретного сказать не могла.
Судьба очень хорошего парня Димы Свистуненко, пришедшего в полк после полка ночных бомбардировщиков, в составе которого он воевал под Сталинградом, стала известна лишь в сентябре. После прорыва Миус-фронта в примерный район падения его самолета, указанный Литвяк, выехал полковой особист гвардии старший лейтенант Перушев. Помогли местные жители, к которым он обратился: около хутора Михайловский Перушев нашел самолет, на котором летал Свистуненко, — Як–1 с хвостовым номером 28. Около самолета Перушев нашел, если верить донесению Крайнова, труп с отдельно лежащей головой, опознать который было невозможно. «Единственные приметы — это на нем была суконная рубашка, которая сохранилась в целости, и брюки. Документов обнаружить не удалось, так как карманы в рубашке и брюках были вывернуты».
Жители хутора рассказали Перушеву, что произошло. Самолет Свистуненко подбил немецкий танк (видимо, пулеметной очередью). Летчик развернул самолет на 90 градусов и взял курс на восток, но мотор начал давать перебои, и летчик «стал производить посадку прямо на склоне горки по канавам». Удачно посадив самолет на фюзеляж, летчик вылез из кабины. Мы не знаем, видел ли Свистуненко, что к нему едут немецкие мотоциклисты, вылез ли он для того, чтобы вести с ними бой, или не видел немцев и надеялся скрыться. Как бы то ни было, увидев двух подъехавших к нему мотоциклистов, он поднял руки, как будто хотел сдаться, и, как только немцы начали слезать с мотоциклов, выхватил пистолет и застрелил обоих. С другой стороны к нему уже бежали немецкие автоматчики. Перед тем как выстрелить последним патроном в себя, Дима попрощался со своей любимой машиной. «Летчик обвернулся, сняв с себя шапку, помахал лежащему самолету, произвел выстрел и упал, — писал Крайнов. — Подошедшие к нему автоматчики постояли возле него и ушли». Местные летчика не похоронили, потому что тогда же, в ночь с 21 на 22 июля, хутор оказался на линии фронта и их эвакуировали в тыл.
Перушев похоронил Свистуненко, которому в ноябре исполнилось бы двадцать два года, на деревенском кладбище, сделав ему с помощью местных жителей гроб и памятник, на котором написал, что Свистуненко погиб как герой. Над могилой он отдал погибшему пилоту салют. Доброе имя Свистуненко было восстановлено, его родные теперь имели право на пенсию. А командира полка Голышева, пропавшего в том же районе, Перушев найти не смог. Его нашли через тридцать лет школьники, искавшие самолет и останки Лили Литвяк.
Жительница села Артемовка Закутняя Анна Лаврентьевна рассказала школьной экспедиции, что она видела, как немцы в районе Красной Горы сбили самолет. Он загорелся в воздухе и упал прямо на немецкую батарею. Летчик не выпрыгнул, скорее всего, был ранен. Его выбросило из кабины взрывом, и он был еще жив, когда прибежали немцы. Летчика тут же расстреляли.[537]
Немцы ушли, и местные женщины похоронили летчика возле разбитого самолета, который стал ему своеобразным памятником. Так делали часто, — не потому, что хотели оставить летчика с его машиной, а просто потому, что перенести куда-либо не было возможности. А для летчика его самолет становился, конечно, лучшим памятником. Лицо погибшего летчика Анна Лаврентьевна запомнила так хорошо, что через много лет сразу узнала его на групповой фотографии. Только глянув на показанное школьниками фото, она закричала: «Ой, деточки, вот же он!» Председатель сельсовета выделил телегу, и старуха показала экспедиции высокий обрыв, под которым в глубокой воронке и вокруг нее валялось множество обломков самолета. Там же потом нашли и останки командира 73-го истребительного полка Ивана Васильевича Голышева.
Поплутав с девушкой-шофером по деревням — спросить было некого, все местные жители были эвакуированы, ведь линия фронта была совсем рядом, — Меньков наконец нашел нужную деревню, около которой в высоком бурьяне лежал «на брюхе» Як — тот самый, под номером 16131, который он знал как свои пять пальцев.[538]
Несомненно, самолет побывал в переделке: у него был пробит радиатор, поврежден мотор, винт погнут при посадке «на брюхо». Подошли солдаты-связисты, один из них азиат, видевшие эту аварийную посадку. «Самолет сел, — рассказали они Коле, — считай, упал в бурьяне». Прибежав туда, они стали искать летчика, звать его. Тут, как они со смехом рассказали Менькову, они услышали тоненький голос: «Я летчик», но никого не увидели: бурьян был намного выше, чем Лиля Литвяк. Скорее всего, бурьян ее и спас, закрыв самолет от огня с немецкой стороны. Когда она подошла к солдатам, лицо ее было испачкано машинным маслом и кровью: она при жесткой посадке ударилась носом о прицел. Поев со связистами и переночевав в их части, Литвяк уехала утром на попутной машине.
«У самолета был разбит правый блок и картер двигателя», — вспоминал Меньков, и, как рассказали связисты, линию фронта Литвяк перетянула с трудом, сев «на пузо» всего в семистах-девятистах метрах от передовой. Меньков с другим техником доставили самолет в часть на полуторке, подняв его с помощью привезенных с собой баллонов с воздухом и закрепив хвост на машине: передние колеса самолета ехали по земле. «№ 16131 ремонтируется при части», — докладывал Смирнов. У самолета заменили мотор и ремень планера, и через пять дней он снова был готов к работе. Механик Меньков точно помнил, что на его самолете Литвяк сделала до своего исчезновения еще семь боевых вылетов.
Глава 27
Мне тяжело писать Вам про безвозвратную потерю…
Ночь на 1 августа сорок третьего года стала самой страшной из всех боевых ночей полка ночных бомбардировщиков.[539] Утром в оперативной сводке доложили: «В районе боевых действий экипажи встретили активное противодействие со стороны ПВО противника, и главным образом со стороны его истребительной авиации и прожекторов.[540] С задания не вернулись четыре экипажа: Высоцкая, штурман Докутович; Крутова, штурман Саликова; Полунина, штурман Каширина; Рогова, штурман Сухорукова. 3 экипажа сбиты ИА [истребительной авиацией] и 1 предположительно огнем ЗА [зенитной артиллерии]. Задание выполнено не полностью. Вылет был прекращен распоряжением из штаба дивизии».[541]
Фронт после немецкого контрнаступления, в результате которого в руках немцев оказался ряд населенных пунктов — например, станица Киевская, — не двигался. Летчицы бомбили немецкую линию обороны; советская сторона подтягивала войска, выбрав место для главного удара на правом фланге немецкой обороны в районе Новороссийска.
В ночь, когда погибла Галя, начальник штаба Ира Ракобольская вместе с Бершанской проводила в первый вылет один за другим пятнадцать самолетов. Цель была недалеко, и с аэродрома были хорошо видны лучи прожекторов, старавшихся поймать самолеты. Неожиданно Ракобольская увидела, как один из самолетов вспыхнул и стал падать «медленно, огненным шаром». Она кинулась к журналу вылетов, чтобы понять, «кто сейчас горит». Тут вернулась машина, вылетевшая первой, и экипаж доложил, что они видели, как горел какой-то самолет в 22:18. Другой экипаж, которому посчастливилось вернуться, доложил, что видел, как горел еще один самолет — в 23:00. Потом — еще два таких же доклада. Все вернувшиеся экипажи доложили, что немецкие зенитки не стреляли. Бершанскую это озадачило, однако она быстро поняла, в чем дело: впервые против ее полка немцы выпустили ночной истребитель. Их зенитки не стреляли потому, что в небе был свой самолет или самолеты. Медленные самолетики в ярком луче прожектора были отличной мишенью.
Наташа Меклин, переучившаяся со штурмана, в ту ночь вылетела в один из своих первых боевых вылетов в качестве летчика. Когда до цели оставалось около семи минут, она и штурман Лида Лошманова увидели, как луч прожектора поймал летевший впереди самолет. Наташа подумала, как похож в перекрещенных лучах У–2 на «серебристого мотылька, запутавшегося в паутине».[542] Зенитки почему-то молчали, что было очень непривычно. Тут же все выяснилось. В воздухе вспыхнула желтая ракета — это немецкий ночной истребитель дал на землю сигнал: «Я — свой». Тут же к пойманному прожектором самолету «побежала голубоватая трасса огоньков»: истребитель стрелял трассирующими патронами, чтобы, если промахнется с первого раза, потом точнее прицелиться. Он попал со второго раза.
Охваченный огнем У–2 стал падать, «оставляя за собой извилистую полоску дыма». От него отвалилось горящее крыло, он рухнул на землю и там взорвался.
Наташе, пусть еще неопытной летчице, помог инстинкт: она тут же свернула в сторону и стала набирать высоту, чтобы спланировать на цель с выключенным мотором. От цели Наташа уходила на малой высоте, и прожектор ее не поймал. То же самое сделали другие экипажи, не ставшие добычей истребителя.
Могли ли девушки спастись из подожженного самолета, имей они парашют? Успели бы выпрыгнуть? Возможно, что успели бы, если не были ранены или убиты пулеметной очередью и если высоты хватало бы для прыжка. Во всяком случае, у них был бы хоть небольшой, но шанс спастись — так спаслись два экипажа в 1944 году, когда ввели парашюты. Почему же не было парашютов? Почему Бершанская, такой прекрасный командир полка, сделавшая из него образцовую боевую единицу, так пренебрегала жизнями людей — и обученными в полку боевыми летчиками, и штурманами? Сейчас нам сложно это понять. Без парашютов летало большинство «ночников».
От мысли о сгоревших заживо подругах, на месте которых могла оказаться ты, сжималось сердце. Женя Руднева, пославшая Галю Докутович с неопытной летчицей Аней Высоцкой, попросившей «более опытного штурмана», отчасти винила себя в ее гибели. Она не видела, как горели Галя и Аня, а вот «Женю Крутову с Леной Саликовой сожгли» у нее на глазах: Женя Руднева была в этот момент над целью и видела, что самолет Крутовой и Саликовой с горящей плоскостью не падал, планировал. Он взорвался недалеко от станицы Киевской на территории противника, уже на земле. На аэродроме Рудневой доложили, что в 23:00 сгорел еще один самолет — либо летчицы Высоцкой, либо летчицы Роговой (оказалось, что сгорели оба).
Женя подбегала к каждому садящемуся самолету, но Галя не вернулась.
«Пустота, пустота в сердце… Кончено!» — записала Женя.[543]
Последняя ее запись о Гале сделана 15 августа, когда в полку уже были уверены, что Гали нет в живых. «Теперь, когда Гали нет и она никогда не вернется… ой, как это жутко звучит, жизнерадостная моя Галочка!» Женя все не могла переложить галину фотографию в маленький белый конвертик, где держала фотографии погибших подруг. «Всё говорит за то, что ее нет…» — продолжала Женя и в который раз анализировала свои отношения с Галей, которые теперь стали воспоминанием: «Да, вот теперь я хотела бы точно знать, как она ко мне относилась? Ей бывало скучно со мной, я это знаю, но по доброте своего сердца она мне слишком много прощала, больше, чем я ее упрямому характеру. И в ней никогда не было мелочной ревности — не потому ли, что не было и любви?.. Все-таки она искренне относилась ко мне очень тепло. И — немного странно — как старшая к младшей, хотя оснований для этого никаких не было…»
Жизнь продолжалась. Очень скоро так же, как в Галю, Женя влюбилась в летчицу Дину Никулину. Влюбилась по-настоящему: ревновала и плакала, когда на Дину заявила свои права другой штурман. И только в сердце Полины никто не мог заменить Галю.
Когда «Голубая линия» была наконец прорвана и Галю безрезультатно искали в тех местах, где горел ее самолет, Полина написала семье своей лучшей подруги письмо, полное любви к Гале и горя за нее, но еще и сдержанности в выражении этого горя, на какую способны только очень сильные люди.
«…Мне тяжело писать Вам про безвозвратную потерю самого близкого и дорогого человека. Каждое слово снова и снова вызывает горечь и боль. Я знаю, Вы больше, чем кто-то другой, поймете меня. Тяжело, очень тяжело. Галочка не вернулась с задания 31 июля. Все примирились уже с мыслью, что нашей общей любимицы нет в живых, потому что против факта не пойдешь. Но я упрямо ждала, ждала про нее известий, даже писала ей письма, чтоб при первой весточке послать. Но недавно наши части освободили те места, где ее подбили, и страшное подтвердилось. Я бы могла Вам писать слова утешения, такие же ненужные слова, какие говорили мне. Но я понимаю, что совсем не надо говорить и не надо утешать.
Вот и всё. Галочка Вам, наверное, писала, что она была награждена орденом Красной Звезды. Посмертно ее еще наградили орденом Отечественной войны второй степени. Второй орден вручат Вам. На днях я вышлю Вам ее вещи и фотоснимки, а также переведу через финчасть ее деньги.
Пишите мне. Мне всегда будет приятно знать всё про близких моего дорогого, незабываемого друга. Светлый образ Галочки никогда не сотрется в моей памяти. И если вражеская пуля меня не тронет и у меня будет когда-нибудь дочка, я назову ее Галей и воспитаю такой же благородной и замечательной, какой была наша Галочка…»[544]
Полина Гельман умерла в 2005 году, пережив Галю на шестьдесят два года. Она окончила институт военных переводчиков, став специалистом по испанскому языку, родила дочь, которую, как и обещала, назвала Галей, работала в Центральной комсомольской школе, защитила диссертацию по экономике, была два года в командировке на Кубе, до очень пожилого возраста читала лекции на испанском языке, была активным членом Еврейского антифашистского комитета и активным членом Комитета ветеранов. И всю свою жизнь, долгую, активную и яркую, она думала о том, что живет и за себя, и за Галю.
Родным десяти сгоревших над целью в конце июля летчиц и штурманов Ракобольская написала, что девушки — восемь человек в ту ночь и еще двое за день или два до этого — пропали без вести. Было понятно, что они не могли остаться в живых, но доказательств их гибели не было. Комиссару полка Рачкевич удалось отыскать их могилы только после войны.
В 2003 году Ирина Ракобольская узнала имя немецкого летчика-истребителя, который в ночь на 1 августа сбил целых три «швейные машинки», как называли немцы самолеты У–2. Это был оберфельдфебель Йозеф Коциок (Josef Kociok), и он тоже погиб через полтора месяца после той удачной ночной охоты.[545]
Последняя запись в галином дневнике сделана 6 июля и была, как и другие, о Мише. Кто-то рассказал Гале, как в санатории, хмурясь, он отказался идти в кино, потому что собирался писать ей. «Вот напишу ей, чтобы она все поняла…»
«Молодчина, Ефимыч! Сейчас и я напишу ему хорошее-хорошее письмо…» Этой фразой Галя заканчивала ту запись и свой дневник. Ей было двадцать три года.
Глава 28
Пошла!
Вечером 1 августа дежурившая Аня Скоробогатова в последний раз услышала по радио Лилю Литвяк. Та отчиталась: «Пошла!» — и больше на связь не выходила. Аню это не удивило: так случалось, радио работало ненадежно, и Литвяк была из тех летчиков, кто в воздухе много не говорит. Только закончив дежурство, Аня узнала, что Литвяк не вернулась.
Техник Коля Меньков, проводивший Литвяк в последний вылет на своем самолете с хвостовым номером 18, встретил остальных летчиков ее группы и еще долго ждал свой самолет, хотя давно должно было кончиться горючее, а потом в тревоге ушел с аэродрома.
Когда в московском издательстве вышла в 1979 году полудокументальная-полухудожественная повесть Валерия Аграновского о Лиле Литвяк, ее исчезновении и поисках ее останков и самолета, подполковник в отставке Николай Меньков написал автору повести длинное письмо, начав так: «Я очень взволнован, прочитав «Белую Лилию», потому что два месяца, июнь и июль 1943 года, работал вместе с летчицей-истребителем Лилей Литвяк в одной эскадрилье 73-го полка…» Меньков решил написать Аграновскому потому, что надеялся, что его информация поможет в поисках. Николай Иванович Меньков, отец двоих детей, бывший военный инженер, а теперь учитель труда в школе, и через столько лет помнил до мельчайших подробностей пропавший самолет, в который он вложил столько труда, и летчицу, которая навсегда пропала вместе с самолетом.
«На ручке управления самолетом (на верхней ее части) было выцарапано две буквы «ЛЛ» (то есть Лиля Литвяк, это она выцарапала ножом во время дежурства), а на приборной доске вверху выцарапано слово «МАМА». В кабине самолета педали ножного управления поставлены до отказа назад, так как рост Литвяк был небольшой. Цвет обшивки самолета сероватый. На щитках хвостового колеса (дутика) поставлены пластинки на потайных заклепках. Масляный бак ремонтировался, на нем должны быть сварные швы. Хвостовой номер самолета 18.
У Лили Литвяк на левой руке, на среднем пальце, был надет позолоченный перстень. На зубах, на верхней челюсти с левой стороны, — две золотые коронки (заметно было, когда она улыбалась). Одета в тот вылет Лиля была: хромовые сапоги с короткими голенищами, темно-синие брюки-галифе, гимнастерка цвета хаки, а темно-синий берет она всегда убирала в планшет».[546]
Мама Лили Анна Васильевна, когда Валя Краснощекова приезжала к ней после войны, все спрашивала: «Валя, а Лиля не болела? А как она выглядела? Может быть, она была очень усталая?» Но Валя ничего не могла сказать. Авторы очерков о Литвяк писали, что в последние недели перед гибелью она казалась усталой и подавленной и гибель Кати так сильно на нее подействовала, что она была сама не своя. Ссылаются на рассказ Инны Паспортниковой — в то время Фаины Плешивцевой, но Плешивцева, уехав из полка в конце мая или начале июня, в полк не вернулась. Ни техники, ни летчики, кто был рядом с Лилей в последние дни, ничего не говорили об усталости или подавленности. Воевала она с таким же азартом, как раньше. Настроение у нее, когда она шла в последний вылет, было «веселое и бодрое».
Лилино последнее письмо маме, которое она во время дежурства, сидя в кабине истребителя, продиктовала адъютанту эскадрильи, тоже не содержит намеков на усталость или тоску — только на то, что она очень скучала по маме и дому. Лиля писала:
«Все-все: и луга, и изредка встречающиеся здесь леса напоминают мне сейчас наши родные подмосковные места, где я выросла, где провела немало счастливых дней. Давно отвыкла от шума улиц Москвы, от грохота ее трамваев, от снующих всюду авто. Боевая жизнь поглотила всецело. Мне трудно урвать минуту, чтобы написать вам письмо и сообщить о себе, что жива и здорова, что люблю на свете больше всего свою родину и тебя, моя дорогая.
Я горю желанием как можно быстрее изгнать с нашей земли немецких гадов, чтобы снова зажить счастливой, спокойной жизнью, чтобы вернуться к тебе и тогда рассказать обо всем, что я пережила, что перечувствовала за те дни, которые мы не были с тобой вместе… Мамочка, это писал адъютант во время моего дежурства. Пока, крепко целую… 28.7.43 г.».[547]
В день своего исчезновения она сделала четыре вылета, в основном на сопровождение Илов, штурмовавших немецкие наземные войска, хотя Южный фронт уже получил приказ отходить.
Немцы бросили к району прорыва все свои оперативные резервы, с белгородско-харьковского направления в Донбасс перебросили значительные силы авиации. Южный фронт срочно произвел перегруппировку для того, чтобы 31 июля перейти в контрнаступление, однако этот план сорвала переброска трех немецких танковых дивизий из-под Харькова. 30 июля немцам удалось нанести мощный удар, в котором участвовало большое количество танков. То же самое повторилось и на следующий день — по советским данным, у немцев было 400–500 танков. Танки активно поддерживала авиация. Войскам Южного фронта дали приказ отходить на левый берег Миуса.[548]
Штурмовики продолжили свою работу уже на левом берегу, с прикрытием истребителей. В третьем вылете Лиля сбила Ме–109.[549] Когда она пошла к самолету, чтобы лететь в четвертый раз, техник Меньков, хоть и должен был помалкивать со старшим по званию, не выдержал и стал ее отговаривать. Он сказал, что «очень тяжело одному человеку в такую жару делать столько вылетов», и заметил: «Что, обязательно тебе столько летать, есть же ребята!» — Литвяк ответила: «У немцев появились слабаки-желторотики, надо еще одного трахнуть!» Перед вылетом Лиля, как всегда, попрощалась с техником: «улыбнулась, качнула головой», а потом подняла левую руку, чтобы закрыть фонарь кабины, и пошла на взлет.[550]
Шесть Яков вылетели сопровождать группу из восьми Илов, Лиля, как часто бывало, с ведомым Сашей Евдокимовым. Илы, не дождавшись их, ушли к линии фронта и, подлетая, летчики группы прикрытия увидели, что они уже ведут воздушный бой у Миуса. Истребителям удалось сбить два Ме–109 и сохранить все Илы. Единственной потерей группы стала Литвяк, сбитая уже в конце, при выходе из боя. Ее падение видели ведомый Саша Евдокимов и Борисенко: самолет падал беспорядочно, не горел. Летчик не выпрыгнул с парашютом, видимо, был убит в воздухе или тяжело ранен. Вернувшись с задания, Евдокимов доложил командиру, что Литвяк упала где-то в районе Дмитриевки, за линией фронта. Борисенко докладывал, что он видел, как, вынырнув из облаков, «мессер» дал очередь по оказавшемуся неприкрытым хвосту ближайшего Яка и тут же исчез. Он считал, что прошит очередью был самолет Литвяк.
Документ полка, озаглавленный «Сведения о летных происшествиях, боевых и небоевых потерях по 73 Гв. Сталинградскому Истребительному Авиаполку за период с 1 по 9 августа 1943 года» содержит запись о том, что Командир звена Гв. мл. лейтенант Литвяк Лидия Владимировна «не возвратилась на свой аэродром после выполнения боевого задания в период 10.40–11.50 по прикрытию своих войск» (здесь уже две ошибки: вылет произошел вечером, и ее группа не прикрывала свои войска, а сопровождала штурмовики). Как утверждает документ, «в районе Мариновка вели бой с несколькими группами Ме–109 и до 30 Ю–87».[551] Вероятно, автор донесения спутал этот вылет с вылетом 16-го июля, когда Лиля действительно участвовала в бою с группой из тридцати бомбардировщиков. Как бы то ни было, сведения о месте падения самолета совпадают с наблюдениями Евдокимова и Борисенко: «Экипажи в бою видели падение 1 Як–1 4–5 км северо-восточнее Мариновка». Автор документа заключал, что экипаж самолета, предположительно, погиб, самолет, предположительно, сбит.
По воспоминаниям ветеранов, в полку «был траур», почти никто не ужинал.[552] Ее, несмотря ни на что, ждали, но Лиля не вернулась. На следующий день в полк приехал Сиднев, который, заикаясь, сказал кому-то из командиров звеньев: «Ккакие же вы мужчины, если одну девчонку не смогли уберечь!»[553] Горевала вся 8-я воздушная.
Через день, когда советские войска немного продвинулись, Саша Евдокимов с Меньковым отправились на поиски упавшего самолета, объездили весь район, где в тот день шли бои, — от Дмитриевки до Куйбышево, объехали все деревни и балки, но ничего не нашли. В прифронтовых поселках почти не осталось гражданских, военные «давали противоречивые разъяснения», да им, у самой линии фронта, в жестоких боях, было не до пропавшего самолета. И самолетов в те дни здесь упало очень много.
Через три недели, когда советские войска освободили Донбасс, полк перелетел на аэродром Макеевка, и Меньков с Евдокимовым снова ездили на поиски, и снова ничего не нашли.[554] Саша Евдокимов погиб при перелете на новый аэродром 25 августа: «прозевав воздух», был вместе с летчиком Бывшевым сбит над советской территорией парой «мессеров». Когда в полку узнали, что он выбросился с парашютом и парашют не раскрылся, его, такого молодого, красивого и хорошего парня, очень жалели, ведь это была «самая страшная смерть — ты летишь и все знаешь». После гибели Саши Евдокимова поисков больше вести не стали, занеся Лилю навечно в списки 73-го гвардейского истребительного полка. Посмертно ее наградили орденом Отечественной войны степени. О ее гибели написала «Комсомольская правда», где их с Катей так тепло принимали за четыре месяца до этого.
Все ждали, что Литвяк присвоят звание Героя, но получилось совсем по-другому.
Все изменилось месяца через полтора, когда вернулся из плена один из летчиков соседнего истребительного полка, заявивший, что видел Литвяк в плену.
Валя Краснощекова из девушек, когда-то улетевших под Сталинград в 8-ю воздушную, осталась одна: Лиля и Катя погибли, Плешивцева уехала. Валя попросила, чтобы ее отправили обратно в женский полк, но Запрягаев, новый командир 73-го полка, «хороший летчик (он был одним из знаменитой семерки Еремина), но командир никакой»,[555] в свойственной ему грубоватой манере малообразованного человека отказал ей, напомнив о том, что из своего женского полка она убежала.
Для Вали настали неприятные дни. Мучило не только одиночество, в сентябре ее начали вызывать на допросы в Особый отдел. Предметом допросов была Лилька. «Какая она была комсомолка? О чем она с вами говорила? Могла ли перейти на сторону немцев?» Валя возмущенно отвечала то, что думала: «Преданная комсомолка. Попасть в плен могла только тяжелораненой. На сторону немцев перейти никак не могла, смешно даже об этом думать». Вызывали и Менькова, но лишь раз. Вызывали, по одному, и летчиков. Сначала никто не мог понять, в чем дело.
Ползли и множились слухи, слишком уже благодатная была для них почва: бесследное исчезновение красивой девушки-летчицы. О Лиле Литвяк много сплетничали при жизни, не оставили в покое и теперь. Говорили, называя даже деревню, что местные рассказали, будто за линией фронта прямо на дорогу сел самолет. Из него вышла девушка-летчик маленького роста, с прямым носом и белокурыми волосами, которая уехала на машине с немцами.
Другие говорили, будто слышали, что Лилю немцы похоронили в Краматорске со всеми воинскими почестями. Будто бы целая процессия шла через город с оркестром, так как «фашисты для поддержания пошатнувшегося боевого духа своих войск» решили воспитывать их на примерах героизма «русгероев».
Шел и другой слух — будто кто-то видел немецкую листовку с ее фотографией: в листовке говорилось, что летчице Литвяк хорошо у немцев.
Постепенно распространилась информация о том, что все началось с рассказа бежавшего из плена летчика. Называли — вполголоса, так как официально, конечно, ничего не говорили — и его имя: Володя Лавриненков. В это не верилось: кто-кто, а Лавриненков, честный и смелый парень, не был похож на человека, способного оклеветать боевого товарища.
Сбивший 26 немецких самолетов Лавриненков, уже очень известный истребитель, автор статей о тактике воздушного боя, публиковавшихся с продолжением в газете «Красная звезда», Герой Советского Союза. Именно Хрюкин приказал ему в конце августа сбить «раму» — ненавидимый всеми немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф–183».[556] Лавриненков взлетел выполнять задание гордый и взволнованный: за ним с земли наблюдало командование. Сбить «раму» никак не удавалось, она ловко уходила, и Лавриненков, помня уроки Шестакова о том, что стрелять надо наверняка, гнался за ней и стрелял. Что произошло, он точно не знал: то ли он попал и «рама» потеряла управление, то ли он не рассчитал скорость, но Лавриненков столкнулся с немецким самолетом, в результате чего пострадали и «рама», и «аэрокобра» Володи: «рама» начала падать, но и у самолета Лавриненкова отвалилось крыло (его биографы потом писали, что он намеренно таранил немецкий самолет, но сам летчик в своих воспоминаниях рассказал о происшедшем честно[557]). Выпрыгнув с парашютом, Лавриненков видел, что его несет за линию фронта, но ничего не смог сделать.
В плену он не стал скрывать, кто он, и с ним обращались хорошо, не били и не морили голодом, после первых допросов решили отправить в Германию: видимо, считали очень важным потенциальным источником информации. По дороге в Германию он вместе с товарищем по несчастью бежал из поезда, и они много дней шли назад к линии фронта, иногда, когда начинал сильно мучать голод, обращаясь за помощью к гражданским.
Линию фронта они не переходили: встретились с партизанским отрядом, в который их после проверки приняли. Вскоре отряд соединился с наступавшей Красной армией, и Лавриненков, в снятой с убитого немца шинели, вернулся в 8-ю воздушную. Его, видя радость Хрюкина от володиного возвращения, встретили с распростертыми объятиями, как настоящего героя, вернули награды и повысили в звании. Скоро он был в родном полку. Лавриненкову, если верить его воспоминаниям, очень повезло: даже после партизанского отряда ему могли не поверить, отправить в советский лагерь на проверку, а то и разоблачить в нем шпиона.
В воспоминаниях Лавриненков рассказывает, что полтора месяца после возвращения в полк ему не давали летать: проверял Особый отдел, который связался и с отрядом, где он партизанил. Лавриненкову пришлось исписать много страниц, давая подробные показания о своей истории. Сохранились ли эти показания? Будут ли они когда-либо преданы огласке? О чем спрашивал Лавриненкова Особый отдел и что Лавриненков рассказал по собственной инициативе? Разумеется, в его воспоминаниях и воспоминаниях о нем нет ни слова об истории с Литвяк.
Мог ли Лавриненков — без сомнения, человек бесстрашный — оговорить погибшего товарища по оружию, девушку, которой он восхищался? Оговорить ее, если от него это потребовали, оговорить под угрозами? Это трудно себе представить. Но для Володи Лавриненкова небо, авиация были всей жизнью, и он знал, что вернувшимся из плена летчикам летать больше не разрешают. Что касается Литвяк, то она была мертва, и он знал, что повредить ей самой он уже не может — только ее честному имени. «Смутно все как-то…» — сказал об этой истории через много лет Борис Еремин — но не сказал, что уверен в том, что рассказанное вернувшимся из плена летчиком было ложью. В конце жизни Лавриненков отказался от своих слов.
Прошло много лет, ни одного из участников этой истории уже нет в живых, и мы почти точно знаем, что Лавриненков солгал, оговорив честное имя погибшего летчика. Если бы Литвяк согласилась сотрудничать с немцами или даже просто осталась жива и была у них в плену, немецкая пропаганда непременно раструбила бы это повсюду. Но ни одного упоминания о ней, ни одной фотографии на немецкой листовке, ни слова с радиоустановок, вещавших на русском языке для советских солдат, ни одного упоминания вернувшимися из лагерей военнопленными, которые такую девушку, конечно, запомнили бы. Лиля, скорее всего, погибла, оставшись, как еще восемьсот тысяч советских солдат, в земле у Миус-фронта.
А историю с пленом подтвердил — как оказалось, под давлением — летчик 85-го полка Голюк, вернувшийся из плена после окончания войны. Он тоже сказал, что видел в плену Литвяк, окончательно испачкав ее имя. Впоследствии он не скрывал, что его вынудили. На встрече ветеранов Валя Краснощекова как-то улучила момент, чтобы поговорить с ним наедине, и спросила, почему он так поступил. Голюк не стал запираться, ответил, что оболгать Лилю его вынудили, сказав, что иначе у него самого, попавшего в плен, могут возникнуть большие неприятности. Валя кипела. Отходя от этого человека, она бросила ему на прощание, переделав его фамилию: «Говнюк».[558]
С чего все началось? С листовки? С чьего-то доноса о том, что Литвяк собиралась это сделать? Известно ли было Особому отделу, что у нее репрессирован отец? Почему Сиднев не положил конец кампании против честного имени Лилии Владимировны Литвяк? Или Хрюкин, который тоже следил за ее боевой работой и гордился ею? Если они не предприняли никаких мер, значит, не были уверены в том, что Лиля погибла.
В Лилином родном женском полку, узнав об этих слухах, многие сразу поверили. Ничего удивительного в этом не было, считала Валя Краснощекова: «девки» завидовали «Лильке», ее красоте, популярности, тому, что она здорово летала, а к лету 1943 года и ее славе, гремевшей на всю страну. Считали, что победы ей записывали «за красивые глаза», и даже много лет после войны говорили и писали об этом, не стесняясь чернить память погибшей. И когда одна из летчиц полка через много десятилетий после войны рассказала, что она узнала Лилю в якобы показанной по Первому каналу передаче о советской летчице, попавшей в плен и прожившей благополучную жизнь то ли в Швеции, то ли в Швейцарии, — многие согласились, что это конечно же была она.[559]
Фаина Плешивцева, к тому времени ставшая Инной Паспортниковой, трепетно относилась к памяти Лили Литвяк и много лет вместе со школьниками из поселка Красный луч на Украине и их учительницей Валентиной Ивановной Ващенко организовывала экспедиции по поиску останков Лили и ее самолета. Они нашли многих других летчиков, в том числе командира полка Голышева, однако самолет и останки Литвяк им найти не удалось. Правда, в семидесятых годах, как они узнали, останки неизвестной летчицы нашли деревенские мальчики, пытавшиеся вытащить из норы ужа. Это было около деревни Мариновка. То, что осталось от самолета, было давно сдано в металлолом. Как узнала школьная экспедиция, находка была запротоколирована, а останки затем захоронены в братской могиле. Согласно рассказу Валентины Ващенко, в протоколе фигурировали сохранившиеся в останках фрагменты нижнего белья — а именно бюстгальтера из парашютного шелка и, кроме того, фрагменты летного шлема и обесцвеченные волосы. Однако копии этого протокола нигде нет, где искать его, неизвестно, а полагаться на слова Плешивцевой-Паспортниковой нельзя: если верить ее рассказам, то она не только проводила Литвяк в последний полет, но и сама сшила ей тот бюстгальтер. За перекисью для обесцвечивания волос Лиля якобы посылала тоже ее, Плешивцеву. Если верить Паспортниковой-Плешивцевой, то Литвяк еще и сказала ей незадолго до гибели, что без вести ей пропадать никак нельзя: тогда припомнят репрессированного отца. Фаина Плешивцева не была рядом с Литвяк перед ее гибелью, и кроме того про такие вещи в то время никто и никогда не говорил даже с самыми близкими. Как часто бывает, Фаина Плешивцева — Инна Паспортникова сыграла в посмертной судьбе Лили Литвяк двоякую роль: посвятив себя увековечению ее памяти, очень много сделала для этого, однако при этом создала вокруг имени Литвяк столько выдумок, что сама же здорово навредила.
Мать Лили, оставшись без ее аттестата и без пенсии, которую назначали за погибшего на фронте кормильца, сильно бедствовала после войны. Однако формулировка «пропала без вести» в извещении из 73-го полка была для нее несравнимо лучше, чем «погибла смертью храбрых»: оставалась надежда. Вокруг, хоть и редко, происходили чудеса: возвращались даже те, на кого, не разобравшись, прислали похоронки. Встречаясь с Валей и Фаиной, она всякий раз задавала все тот же вопрос, на который никто не мог ответить: «Если она жива, то почему не подаст хоть какую-то весточку о себе?» И потом, покачав головой, говорила, что Лили, должно быть, уже нет. И все равно до конца жизни ждала. Ждали с войны своих близких и другие люди вокруг нее, ждали тысячи, сотни тысяч, миллионы людей.
Константин Симонов, читавший свои стихи «Жди меня» несметное количество раз и на войне, и после нее, через двадцать лет после окончания войны решил, что больше никогда их читать не будет: все, кто мог вернуться, уже вернулись, больше ждать было некого.
Библиография
Абрамов А. Мужество в наследство. Свердловск, 1988
Аграновский В. Белая Лилия. Москва, 1979
Адам В. Трудное решение. Москва, 1967
Алексашин М. Последний бой Василия Сталина. Москва, 2007
Алтухов П. В. Интервью // Российская газета. 2012. 9 мая
Амет-Хан Султан. Профиль // www.airaces.narod.ru
Аронова Р. Ночные ведьмы. Москва, 1980
Асы против асов. Москва, 2007
Баклан А. Я. Небо, прошитое трассами. Ленинград, 1987
Берия С. Мой отец — Лаврентий Берия. Москва, 1994
Бешанов В. Летающие гробы Сталина. Москва, 2011
Бокк Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы. Москва, 2009
Бронтман Л. К. Военный дневник корреспондента «Правды». Москва, 2007