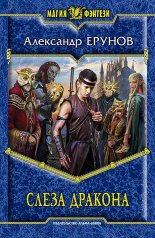Русский самурай. Книга 1. Становление Хлопецкий Анатолий
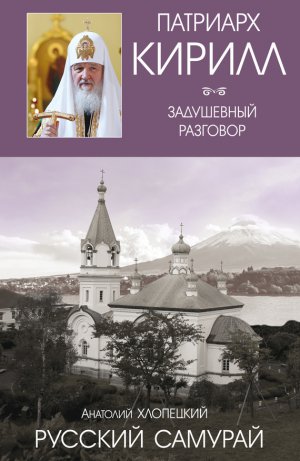
Был и еще один предмет, которым Васька занимался с увлечением, хотя и многое казалось ему в этих занятиях загадочным и таинственным. Это были восточные единоборства. Преподавал их японец-сэнсэй. В школе часто поговаривали, что из-за него, Васьки, японцы считают учителя клятвопреступником: он-де клятву давал, никому не сообщать секретов своего мастерства, а сам обучает единоборствам русского, высланного с Сахалина. Грозились уже учителю какие-то люди, что добром это не кончится: плевали вслед ему на улице, подбрасывали написанные иероглифами свитки с угрозами. И верно, вскоре произошел случай, который запомнился Ваське на всю жизнь.
Шел обычный урок.
– А теперь запомни, – узкие, восточного разреза глаза не отрывали пристального взгляда от него, Васьки, сидевшего в позе «лотоса» на тонкой рисовой соломе татами, – запомни: прежде всего надо научиться правильно дышать.
В спортивном зале было светло. От нагретого солнцем пола пахло воском… Запах напоминал Ваське о печальном: погребальные свечи, напевное бормотание священника. Но отвлекаться было нельзя.
– Если не научишься правильно дышать, то не научишься ничему. Повторяю: это крайне важно. Придется тренироваться до тех пор, пока ты просто не сможешь дышать неправильно.
Стало немножко смешно: дышал же до сих пор! Правда, мамка говорила, что не сразу – думали уж, что родился мертвым. Но повитуха дала такого шлепка, что сразу и задышал, и заорал благим матом… Мамка, где ты? Батюшка говорил, что Боженька взял. Зачем ему? А Ваське без мамки бывало вот как плохо. Особливо пока не подрос…
Сухие желтоватые пальцы больновато ткнули в лоб:
– Где твои мысли, мальчик? Ты разве забыл, что находишься в до-дзе?
Забудешь, как же – и так все свободное время проводишь в этом до-дзе – зале для тренировок. А говорили, что будут учить на батюшку. И верно – учат. Только при чем здесь эти тренировки? Говорят, что способный к этим их японским боям… Может, и так. Только сейчас об этом лучше не думать, а то учитель, по-ихнему сэнсэй, опять будет сердиться. Надо скорее сложить ладошки вместе да поклониться.
– Дышать будем так: вдох на два счета, два счета – задержка дыхания, два счета – выдох. Смотри: чтобы не считать тебе постоянно, я запускаю этот маятник. Он стучит – слышишь? Стук – вдох, стук – задержишь дыхание, стук – выдох. Понял? Начали.
Ну и муторный же это урок! Качается блестящая штука, стучит, будто сердце бьется. Аж в сон клонит…
Вдруг шум какой-то за дверями. Голоса. И учитель насторожился. Ваську за полог толкнул, туда, где раздевалка. Шипит чуть слышно: «Не вздумай высунуться – не твое дело». А сам почему-то не на двери, а вверх, на окна смотрит. А в окнах – вот они! В черном все и на рожах маски Тоже черные. Сколько же их? Четверо? Шестеро? А сэнсэй-то один…
Их было семеро, и самый здоровенный выдвинулся вперед – руки выставлены, кисти болтаются. Сэнсэй потом объяснит: поза «богомола». Шагнул вперед, в голову учителю замахивается. Васька и не видел, что сэнсэй сделал – быстро все очень. Только верзила уже лежит на татами. Сэнсэй объяснил потом: дал ему пальцами в солнечное сплетение, ребром ладони рубанул шею, колено вверх – в лицо.
Остальные, видать, поняли, что поодиночке слабо им – все вместе двинулись. Васька не выдержал – пискнул тихонько. Учитель обернулся мимолетно – и вот уже лежит на татами. Но зацепил чью-то ногу рукой, дернул и незаметным движением перекинул одного через голову. Потом двинул кого-то промеж ног, перекувыркнулся, вскочил на ноги. У одного из тех-то маска свалилась – сэнсэй его за волосы и как даст сверху! Это рассказывать долго, да и не разобрал Васька в этой куче разные подробности – потом уже учитель все расписал, как на тренировке.
Теперь их осталось четверо. У одного, видать, коленка повреждена – аж посинел от боли и злости. Здоровой ногой замахивается. Учитель поднырнул как-то ему за спину, зацепил за ногу больную, подсек ее, схватил нападавшего за шею и, видать, придушил. А сам движется, движется, будто танцует, туда, где в углу дощечки для тренировок карате валяются. Схватил две, отражает ими удары. Потом как-то защемил одному голову между дощечками, да, видимо, сильно уж очень… Тот больше и не вставал…
Тут двери распахнулись – народ набежал: охранники миссии, полицейские. Последнего повязали. Васька вылез, трясется весь. А сэнсэй вроде и не видит, что с Васькой делается, взял так тихонько за плечо, присадил на татами и пальцем своим длинным маятник проклятущий качнул. И Ваське на него кивает: дыши, мол.
А что делать: приходится дышать. Васька только спросил, осмелился: это якудза были? Учитель рукой махнул – просто бандиты, фанатики. Потом сам подробно весь бой разобрал, по приемам. Васька слушал в оба, на ус мотал. Все же попробовал узнать: убивать-то их было обязательно? Сэнсэй отговорился, что это их, японские дела, и не впервой они на него нападают, надоело, дело далеко зашло. Мол, не он их, так они его. Может, и правда – учителю виднее…
Однако отец Анатолий недоволен был: сказал, что не по-христиански это – мстить врагам своим. Достаточно было напугать как следует. «Дак они уже пуганые, а все равно лезут», – вступился за сэнсэя Васька. Но отец Анатолий не согласился, сказал, что тогда надо было их обезвредить и сдать полиции. «А почто они его так?» – поинтересовался Васька, заранее зная ответ.
Отец Анатолий сказал, что это, мол, отрыжка войны – немало тех, кто ненавидит русских и христиан вообще. А учитель дает уроки борьбы в миссии – раскрывает-де тайны мастерства иноземцам.
Было над чем подумать. Здесь, в миссии, в училище, он успел привыкнуть к тому, что все, связанное с войной, осталось там, на Сахалине. А тут все относятся друг к другу и впрямь по-братски, охотно делятся едой, книгами, если что – приходят на помощь. И нет различия – что Васька, что Иитиро или там Мосаку. Жили мальчишки вместе в небольшом, на восемь циновок, помещении. Солнца там было маловато, зато когда вечером зажигалась старинная лампа на бамбуковой подставке, было так хорошо подсесть с книгой поближе к огню. Потом уходили на кухню присматривавшие за домом сторож и его жена, а все остальные засыпали и наступала такая тишина, что Васька слышал, как шуршат листья за стеной. Порой было холодновато, и тогда все мальчишки усаживались вокруг жаровни с углями, как стайка воробьев около дымящегося на снегу свежего конского навоза.
Но, значит, за стенами миссии далеко не всем было наплевать на то, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, ходишь ли ты молиться в консульскую церковь или в буддийский храм…
Когда осень накрепко перешла в зиму и Ваську с товарищами переселили в дом, где проходили занятия, однажды произошло событие, еще раз перевернувшее всю Васькину жизнь.
Как-то под вечер во двор миссии въехала тележка, запряженная парой низкорослых мохнатых лошадок. Из повозки легко спрыгнул высокий священник, сказал несколько слов вознице и стремительной походкой направился к дому. Не успел он сделать и нескольких шагов, как навстречу ему бросился с крыльца отец Анатолий и подошел под благословение, радостно приговаривая:
– Батюшки, ваше высокопреосвященство! Как же вы? Такими дорогами… Господи, вот радость-то нежданная!
Уже через несколько минут вся миссия знала, что миссию в Хакодате удостоил своим посещением ее первооснователь – архиепископ Николай, глава Японской православной церкви.
Шла обычная суета, связанная с нежданным визитом высокого гостя, но, отказавшись отдохнуть с дороги, архипастырь отправился в церковь. Служил, как обычно, местный священник, но, против обыкновения, маленькая консульская церковь была забита до отказа: прослышав о приезде преосвященного, кроме учеников и сотрудников миссии собрались почти все прихожане епархии. Ждали слова архиепископа.
Широко раскрытыми глазами смотрел зажатый в толпе верующих Вася Ощепков на этого высокого старца в епитрахили и омофоре и, затаив дыхание, ждал громовой проповеди, каких-то особенных пламенных слов, которые раздвинут стены этой крошечной церквушки, распахнут низкое зимнее небо…
Но все было иначе – ни парадного выхода, ни громовых речей. Толпа потеснилась, откуда-то появился обычный деревянный табурет, преосвященный уселся на него и негромко, но внятно и проникновенно начал свое слово. Это была простая, понятная каждому человеку речь о начальных словах молитвы Господней, о радости, что у нас есть Отец Небесный, о том, что всякое дело должно совершаться людьми во славу Божию.
Вася уже не помнил о том, что вначале был почти разочарован простотой всего этого – облика преосвященного, самой окружающей обстановки, начала проповеди. Теперь он, забывая себя, слушал убежденные, мудрые слова святого Николая: «Есть люди, призванные на служение церкви или сами себя посвятившие Богу. Эти прямо совершают дело Божие и тем спасаются. Но и всякий, оставаясь при своем деле, может точно так же делать дело Божие. Для этого необходимо свое служение совершать не ради славы, не из корысти, а для Бога, совершать его как долг, положенный Богом. Земледелец, учитель, воин, купец – все они необходимы для человечества, для общества, всем им быть повелел Господь. Пусть они трудятся в сознании этого, тогда одним исполнением своего служения они получат Царство Небесное».
Как во сне, выходил Вася из церкви или, точнее, его выносил оттуда людской поток. «А я? – впервые за всю свою недолгую жизнь подумал он. – В чем мое призвание, мое служение? Точно ли я призван стать проповедником, как будут Иитиро, Мосаку или Мотомэ? Или что-то другое ждет меня? Для чего мне повелел быть Господь?»
Он так задумался, что не заметил, как его догнали по пути к миссии отец Анатолий и нынешний высокий гость. Он опомнился, услышав рядом громкий приятный голос:
– Я думаю, что у ваших прихожан еще есть к вам дела, отче Анатолий, воспользуйтесь же нынешним многолюдным собранием. Обо мне не беспокойтесь – не забывайте, я здесь у себя дома. Да вот молодец меня для верности сопроводит, чтобы вы не пеклись обо мне более.
И Вася почувствовал на своем плече теплую сильную руку.
Несколько минут они шли молча. Потом тот же приятный голос спросил его об имени и о том, давно ли он в училище и как попал туда. Сначала запинаясь от робости, потом все более уходя в воспоминания, Вася незаметно для себя рассказал этому большому и доброму человеку всю свою жизнь, все ее горести и неожиданные повороты.
Словно заново пережил он все, что сохранила его мальчишеская память: нежные руки матери, ее запах, родное тепло; голос, повторявший начальные слова вечной молитвы: «Отче наш, да святится имя твое…» Вспомнил и рассказал про добрую усмешку отца, его рассказы про русский рукопашный бой, про деда, про старинные мудрые книги, которые хранились в их семье.
Не утаил Вася от владыки и горести своего сиротства, но, рассказывая, с удивлением обнаружил, что больше, чем обиды, помнятся добрые люди, не всегда щедрые на ласку, но не скупые на краюху хлеба с кипятком, на пяток-другой вареных картофелин с солью, мисочку риса; люди, всегда находившие для сироты и теплый угол, и кожушок, чтоб накрыться.
Когда он умолк, обнаружилось, что они давно уже стоят у крыльца миссии, а ладонь, прежде спокойно лежавшая на его плече, теперь сжалась нежно и участливо. Он поднял голову и встретил глубокий, все понимающий, проникновенный взгляд, казалось, видевший его насквозь. «Владыка, благословите меня!» – само собой сорвалось у него. Он сам испугался своих слов, которые, может быть, были недостаточно почтительными для преосвященного. Но тот молча положил на его стриженую голову свою благословляющую руку.
Долго не засыпалось ему в ту ночь. Непонятное, неизведанное творилось у него на душе – будто кто-то и впрямь взял на себя всю боль, которая жила в нем, обласкал по-отечески, успокоил. Он вдруг понял весь огромный смысл простого напутствия: «Господь с тобой!», с которым отпустил его преосвященный Николай. Да, на душе у него был мир, но еще жило в ней какое-то смутное предчувствие будущих событий и свершений, которые пока не дано ему было узнать и понять. С этим чувством и лежал он навзничь на своем жестком матрасике, рассеянно глядя на встающую в окне зимнюю яркую звезду.
А в другом крыле здания тоже долго не гаснул мягкий свет лампы в покоях отца Анатолия, где разместили архиепископа Николая. Он допоздна вел негромкую беседу со своим гостеприимным хозяином: расспрашивал, рассказывал о событиях в столице, о вестях с Родины, но больше слушал о заботах миссии, советовал, где мог – обещал помощь.
Под конец этой затянувшейся беседы, когда, казалось, все темы были уже исчерпаны, преосвященный вдруг спросил:
– А тот молодец, что сопровождал меня из церкви, каков он? – и остановил жестом отца Анатолия, когда он начал было пересказывать житейскую историю отрока.
– Да что, ваше преосвященство, – в науках тверд. Язык осваивает быстрее, чем нам предполагалось. С товарищами своими ладит – не задира. Набожен в меру. Да вот еще – не знаю, к чему отнести – сэнсэй здешний, что борьбу им восточную по программе преподает, говорит, будто талант к этому у отрока. Изо всех его отличает.
– Всякий талант от Господа, отче Анатолий. А что, не задержался ли он на училищной программе – кое-что ведь, поди, по второму разу проходит. Не перевести ли его в Киото, на семинарский кошт? Язык японский ему препоной не будет – способности есть, догонит. Да еще английский ему там преподадут. Что касается борьбы, у нас там учитель Сато, из знаменитого токийского Кодокана – слыхали, вероятно? Согласны? Вот после рождественских вакаций – и с Богом!
Архимандрит Анатолий только руками развел, дивясь способности владыки посреди дел поистине великих не затерять и судьбу безвестного ему до сей поры сахалинского отрока.
Наутро спозаранок вся миссия высыпала во двор провожать высокого гостя. Вася Ощепков стоял в этой толпе, ничем из нее не выделяясь, и все же ему казалось, что взгляд архиепископа отыскал его и на особицу именно ему предназначался прощальный взмах благословляющей руки преосвященного.
Минуло Рождество, и как раз через несколько дней после Нового года по российскому календарю, Васю отправили с сопровождающими в Киото.
Грустно было расставаться с товарищами, к которым успел привыкнуть, с учителями, с отцом Анатолием. Но видно, судьба была такая – отрывать от сердца то, к чему едва успевала прикипеть душа. И в который раз охватывала его легкая дрожь ожидания нового, еще не изведанного, в который раз ждали его «казенный дом и дальняя дорога».
Здесь мы и оставим пока на очередном перекрестье судьбы нашего паренька с дальнего русского острова Сахалина. И вернемся мыслями к преосвященному Николаю. Наверное, нелегко ему уже давались в эту пору поездки по епархиям, особенно таким отдаленным, как Хакодате. И тем больше времени выкраивал он для работы за письменным столом, для которой порой, украдкой от заботливого окружения, отрывал часы даже от насущного ночного отдыха.
Это была и отрада, и привычка, и то, что он понимал как долг, всегда памятуя начальную фразу Библии: «В начале было слово…» Донести до новообращенных жителей Японской земли Слово Божие на их родном языке – чтобы уразумели и могли пересказать детям и внукам своим Премудрость Господню – в этом видел свой долг владыка Николай.
15. В начале было слово
(По рассказу митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла)
Все чаще задумывался преосвященный Николай о мере своего возраста. В одном из рапортов Священному синоду он писал еще в 1897 году: «Я уже перешел за ту черту возраста, где начинается естественный заштат, что, не принимая непредвиденных иных обстоятельств, недалеко от предела сей жизни…» Все настойчивее ставил он вопрос о преемнике, а пока это решалось, все свои силы он отдавал миссии и тому, чтобы, по возможности, завершить начатые еще в самом начале миссионерской деятельности переводческие работы. Особенно занимала его эта работа во время войны, когда обстоятельства ограничивали и поездки, и выступления с проповедями.
Он любил слова святого Дмитрия Ростовского: «Моему сану (несмь его достоин) надлежит слово Божие проповедати не токмо языком, но и пишущей рукой. То мое дело, то мое звание, то моя должность».
Перевод богослужебных книг был начат святителем еще в Хакодате. Тогда он успел перевести только самое необходимое для отправления всенощной, литургии и совершения таинств.
Первой трудностью, с которой столкнулись переводчики, было отсутствие в японском языке богослужебных и религиозных терминов. Огромное значение имел перевод уже самого слова «Бог», неправильно было бы пользоваться для этого словом «ками», которым японцы обозначали свои дохристианские божества. Преосвященный Николай предложил воспользоваться японским словом «Сю», которое означало хозяина, имеющего вассальных слуг, о коих он заботится. Это было ближе к сути Божественного Промысла, и после перевода, предложенного святым Николаем, так именуется христианский Бог во всех переводах христианских вероисповеданий.
Даже при переводе простой молитвы «Господи, помилуй!» камнем преткновения стал вопрос, как перевести слово «помилуй». Дело в том, что это слово часто воспринимается как помилование преступника. «У нас, – говорил святой Николай, – таких отношений с нашим Богом нет. Мы возьмем слово “аварема”. Так мать “милует” ребенка, “жалеет” в исконном древнерусском смысле».
Так доносился в переводе преосвященного истинный смысл молитвы – евангельская любовь во Христе.
Не сразу удалось найти верный способ перевода – думалось, что проще будет переводить с китайского оригинала, пользуясь близостью иероглифического письма. Работа пошла было быстро, но, занимаясь китайским оригиналом, святой Николай увидел в нем ошибки и шероховатости. Пришлось вернуться к славянским и греческим евангельским текстам. «Передо мною лежат славянский и греческий тексты богослужения, с книгами под рукою, способствующими правильному разумению их. У моего сотрудника под руками китайские и японские лексиконы и грамматики; также перед нами китайский текст богослужения, заимствованный нами из Пекина, от нашей миссии. Смотря в славянский текст и проверяя его греческим, я диктую перевод, стараясь выразить смысл с буквальной точностью; сотрудник записывает китайскими иероглифами вперемежку с японскими алфавитными знаками».
Помощник святого Николая, Никаи-сан, решал вместе с ним трудную задачу, как сделать язык перевода простым и доступным каждому и вместе с тем избежать вульгаризации текста, которая отвратила бы от него высшие слои общества.
Сложность состояла и в том, чтобы избежать тех иероглифов, которые имеют уже буддийское или синтоистское толкование. Нужно было также добиться того, чтобы по всей книге для одних и тех же оригинальных слов и выражений были употреблены одни и те же переводные иероглифы и прочтения.
Эта скрупулезная работа не всегда удавалась. Святой Николай вспоминает, какая накладка произошла, например, с иероглифами, обозначающими страх. В японском языке есть обозначения обычного страха и страха, соединенного с любовью. «В отпечатанном ныне «Служебнике» только потому, что именно один иероглиф «страх», несмотря на нашу внимательность, вкрался вместо другого, более желательного, пришлось перепечатать целый лист», – рассказывает святитель в статье о своей переводческой работе.
Думается, что если бы святой Николай посвятил себя только исключительно переводческой деятельности, мы и тогда могли бы назвать его жизнь подвигом. Исключительно высока его требовательность к чистоте перевода, к сохранению высокого звучания подлинника: «Я полагаю, что не перевод Евангелия и богослужения должен опускаться до уровня развития народной массы, а наоборот, верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгарный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно тождественных иероглифа или выражения и оба они для японского глаза и уха одинаково благородны, я, конечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю никаких компромиссов в отношении точности перевода…»
Была и другая опасность, которой святой Николай старался избежать: он не был согласен в принципе с работами католических и протестантских переводчиков, которые вольно или невольно устанавливали сходство между отдельными терминами буддийской философии и христианского богословия. Так произошло, например, с переводом первого стиха первой главы: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Католические переводчики, работавшие над китайским текстом, нашли для понятия «Слово» иероглиф «Дао», придавая ему смысл Пути – то есть чего-то ведущего, направляющего и человеческие судьбы, и жизнь всего мира. Так же было переведено католиками это понятие и на японский язык, с тем чтобы и японцы, и китайцы сразу поняли, что речь идет о чем-то верховном, ведущем все судьбы мира.
Однако и святой Николай, и его помощник Никаисан не хотели смешения христианского богословия с конфуцианством и применили другой иероглиф. Архипастырь подчеркивал: «Я по принципу не читаю больше ни католических, ни протестантских переводов Библии из опасения подчиниться им и хотя бы невольно что-либо из них заимствовать».
В ходе перевода был составлен особый японский православно-богословский словарь терминов. Это была уже сама по себе очень трудоемкая научная работа. Святой Николай вспоминал: «После первоначального ознакомления с инословными переводами я увидел, что текст их местами непонятен и очень часто изукрашен до совершенной перефразировки, до пропуска и вставки лишних слов. Это заставило меня тщательно следить за текстом по русскому и славянскому переводам; изредка встречающиеся несогласия… побудили меня заглядывать еще и в английский текст, наконец достал я греческий Новый Завет. Просматривая начальный стих во всех этих чтениях, а в трудных местах прочитывая и толкования Златоуста, я наконец дошел до такой медленности в переводе, что в пять часов, которые посвящались в сутки на эту работу, переводил не более пятнадцати стихов».
Лишь после этого перевод просматривал с точки зрения законов японского языка Никаи-сан. Так святитель работал над переводами почти до самой своей кончины.
Однако дело не ограничивалось лишь переводами богослужебных книг и евангельских текстов. Под эгидой архиепископа было создано японское «Общество переводчиков». Его целью было также и ознакомление соотечественников с лучшими образцами русской и европейской беллетристики. Святитель благословлял и переводы светской литературы, говоря: «Пусть переводят нашу литературу и читают. Узнав русскую литературу, узнав Пушкина, Гоголя, Лермонтова, графов Толстых, нельзя не полюбить России».
На японский язык были переведены книги многих русских писателей и поэтов – от Державина, Пушкина, Крылова до Тургенева, Толстого, Чехова, и кончая Бальмонтом, Блоком, Б. Зайцевым и другими писателями конца того столетия.
Миссия вела и значительную издательскую деятельность, кроме книг и брошюр здесь выходило несколько периодических журналов. В «Православном вестнике» («Сейкео симпо») – одном из крупнейших японских миссионерских изданий – кроме переводов печатались и самостоятельные духовно-нравственные произведения японских авторов. Это были, главным образом, молодые люди, закончившие русские духовные академии. Писал журнал и о событиях текущей жизни Японской православной церкви.
Женский ежемесячный журнал «Сокровенная добродетель» («Уранией») издавался при женском миссионерском училище. В нем печатались духовные и нравственные наставления, а также и художественные произведения для женского чтения. Святой Николай уделял серьезное внимание женскому духовному просвещению и роли женщины в христианской семье.
Выходили также периодические издания, предназначенные для миссионеров и священнослужителей. Многие книги, изданные Русской духовной миссией в Японии, были пересланы в Россию и вошли в фонды библиотеки Румянцевского музея.
Но не менее драгоценным, чем печатное, было живое слово святителя, освещенное высоким светом его души. Сохранились воспоминания тех, кому выпало счастье слышать его проповеди – его современников. Очевидцы рассказывали, что, поучая, он весь горел и зажигал сердца слушателей.
Архимандрит Сергий в книге «По Японии» рассказывает об одной такой проповеди, произнесенной архиепископом Николаем на японском пароходе во время поездки в отдаленную епархию. Капитан сказал владыке, что команда хотела бы послушать его, и получил согласие. В небольшой кают-компании собрались почти все, кто был на пароходе, – от офицеров и механиков до матросов и пассажиров третьего класса. Преосвященный присел у стола и, обратившись ко всем присутствующим, с час говорил об основных положениях христианского учения, о Господе и таинстве Пресвятой Троицы.
Нельзя называть только русским или каким-либо другим учение Христа, подчеркивал Святитель, оно – Божие, пришедшее свыше и принадлежащее всем людям, без различия страны и народа. Поэтому и принимать это учение не унизительно ни для какой нации, как не унизительно перенимать, например, пароходы, железные дороги и прочие полезные для жизни изобретения.
Святой Николай сказал: «Объявляя свое учение истинной верой, мы не говорим, что ваши теперешние верования никуда не годятся, нет, в буддизме и синтоизме много хорошего, что признаем и мы. Только эти религии несовершенны, они выдуманы самими людьми при незнании истинного Бога.
Это то же, что лампа, придуманная, чтобы освещать жилище человека, когда нет солнца. Лампа – вещь полезная, и даже необходимая вещь вечером или ночью, но никому и в голову не придет зажигать ее днем. Так и буддизм и синтоизм хороши только при отсутствии христианства, при незнании истинного Бога».
На примере этой проповеди хорошо видно, как умел преосвященный обращаться к обычным, казалось бы самым бытовым примерам, когда видел перед собой аудиторию, неготовую к богословским истинам. Но разной была аудитория, разные задавались вопросы, да и реакция слушателей не всегда была однозначна. Об этом предупреждал преосвященный миссионеров, с этим порой сталкивался и сам. Вел он себя в таких случаях спокойно и умел найти укоризненные и обезоруживающие слова, обращаясь к природной воспитанности японцев.
Очень ответственно относился он к тем беседам, которые вел во время объезда своей епархии и, надо сказать, это совершенно не зависело от величины прихода и количества прихожан. Тот же архимандрит Сергий вспоминает такие слова святителя:
«Я, когда посещаю церковь, как бы мала она ни была, на то время делаюсь всецело ее членом так, что для меня в это время других церквей, да и всего мира, как бы не существует. Если приходят письма из других церквей, мне и в голову не приходит прочитывать их среди дел той церкви, а читаю ночью, освободившись от местных дел. Естественно, что все состояние той церкви, со всеми местными нуждами, скорбями и радостями, до малейших частностей, целиком вольется в душу, и трудно ли затем обсудить, посоветовать, убедить, наставить и т. п. Все это так просто, так само собою льется с языка, из сердца. Только надо иметь благоразумие не обращать внимания на все брызги, исчезающие бесследно…»
А для того чтобы не забывать, когда, где и что поручено и иметь возможность проверить исполнение, вел преосвященный по каждому приходу четыре тетради: о церквах, о молитвенных домах, о сказанных проповедях и о наставлениях.
Так уживались в его душе и страстность, и деловая рассудительность, достигалось замечательное равновесие сердечной и умственной деятельности.
Как многому, подумалось мне, следовало бы поучиться у своих святых нам – всегда слушающим первого движения сердца в гневе ли, в жалости ли; выбирающим обязательно сердцем, а не головою. Не потому ли у любимых героев русской литературы непременно «ум с сердцем не в ладу»? И, как писал, не без одобрения, один из графов Толстых: «Коль любить – так без рассудку, коль уж бить – так не на шутку, коль губить – так сгоряча, коль рубить – так уж сплеча…» А не слишком ли сплеча мы порою решаем многие важные проблемы?
Помнится, рассказывал преосвященный Кирилл, что в своей книге «На Дальнем Востоке» архимандрит Сергий давал такую характеристику святителю: «Вместе с мягкостью он был железным человеком, не знавшим никаких препятствий; практичным умом и администратором, умевшим находить выход из всякого затруднительного положения. Вместе с любезностью в нем была способность быть ледяным, непреклонным и резким с людьми, которых он находил нужным воспитывать мерами строгости, за что-либо карать или останавливать. Вместе с обаятельностью в нем была большая, долгим опытом и горькими испытаниями приобретенная сдержанность, и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие и откровенность».
Когда я привел это высказывание в беседе с Николаем Васильевичем Мурашовым, он, помолчав, заметил:
– Знаете, если бы вы не сказали, к кому относится это высказывание, я бы почти полностью применил его к Василию Сергеевичу Ощепкову той поры, когда мы с ним были знакомы. Именно таким он мне и запомнился на всю жизнь.
…Мы сидели, как обычно, за чаем в уютном особнячке Николая Васильевича – так было удобнее встречаться ему, привыкшему держать под рукой все свои справочные тома, да и я полюбил ту особую атмосферу умудренной неторопливости и спокойствия, которая здесь царила.
– Ну, сдержанность – это понятно: у Василия Сергеевича тоже горьких испытаний хватало. А вот администраторская, организаторская жилка – это откуда?
– А вы забыли про духовную семинарию в Киото? Ведь преподаватели вольно или невольно избирали стиль Владыки, который был для них идеалом и примером для подражания. По этому подобию воспитывали и семинаристов. Вот вы мне рассказывали о том, как занимались борьбой, поступив в техникум. Согласитесь, что в то время вы, порой осознанно, порой нет, подражали своему тренеру?
Я задумался и живо вспомнил Ивана Ефимовича Павела – моего тогдашнего тренера. Как живой, встал передо мной этот заводной усатый молдаванин – настоящий «батя» для нас – техникумовской пацанвы…
Он действительно работал с нами, отдавая себя всего, не тая секретов мастерства, и научил нас, между прочим, главному: не сгибаться перед авторитетами, не трусить перед громкими именами. Он был из тех, кто за честь для себя считал воспитать ученика сильнее, чем он сам. Но и своим спортивным авторитетом он дорожил и в поддавки играть не собирался… Помню, я был на втором курсе, осенью был в нашем городке традиционный праздник урожая. Обычно он не обходился без национальной молдавской борьбы трынте – главным призом был баран. И я скажу так: ты можешь выиграть любые соревнования и получить любой чемпионский титул, но пока ты не выиграл хоть одного барана на трынте, тебя не будут признавать первым борцом.
В тот памятный осенний день наш тренер и три его ученика должны были выступить на празднике против местной школы вольной борьбы и желающих попробовать свои силы в схватке. Между прочим, среди борцов этой школы выступал против нас чемпион молодежных игр Молдавии по самбо и вольной борьбе.
Так вышло по жеребьевке, что первая схватка мне предстояла с нашим тренером, с Иваном Ефимовичем. Трынте – борьба без курток – захваты возможны только за пояса. Восемь минут ни один из нас не мог применить результативного приема. Ну, казалось, показал я борцовский характер, можно было бы и уступить – ведь не кому-нибудь, а Ивану Ефимовичу, который уже лет семь не знал в этой борьбе поражений. Две минуты оставалось до конца схватки, и тут меня, что называется, заело: «А почему я, собственно, должен проиграть?!» Я собрался, сделал решающий бросок – и выиграл!
Это был шок! Зашумели и примолкли зрители. Иван Ефимович нахмурился, видно было, что обидно ему проигрывать… Он не сказал мне ни слова и впервые не поздравил с победой.
А меня уже ждала схватка с «вольником». Ну я, что называется, поймал кураж и уложил соперника за сорок секунд. И тут, уже позабыв про свой личный проигрыш, ко мне с поздравлениями бросился мой счастливый тренер. Оказывается, он боялся, что я проиграю. Такой он был – наш Иван Ефимович Павел – нашим победам он умел радоваться больше, чем своим.
Иван Ефимович верил в меня и поэтому спрашивал больше, чем с остальных, тем более что уже в это время я нередко помогал ему проводить тренировки.
На этой же волне подъема я в следующей схватке уложил тренера «вольников» и – выиграл своего первого барана!
Ну конечно, наши ребята бросились меня качать, потом был круг почета, но главное – мы гордо шествовали в техникум с выигранным бараном по центральной улице, и уже оттуда я звонил домой, чтобы сообщить о своей победе – спокойно так, как будто это было самое обычное дело.
Потом были и другие победы, и выигранные бараны, которых я дарил и тренеру, и друзьям. Но вкус первой победы и первого приза всегда самый сладкий и самый запоминающийся…
Я совсем ушел в свои счастливые воспоминания, но мои раздумья прервал Николай Васильевич:
– Кстати, не пора ли нам посмотреть, как там в Киото наш новенький, переведенный из Хакодате?
– Пожалуй.
16. Всякому да откроется стезя своя
(По рассказам митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла и Н. В. Мурашова)
В этом зимнем странствии из Хакодате в Киото перед Васей Ощепковым прошла почти вся Япония. Сначала были шесть-семь часов морского странствия до порта Аомори, потом по Северной железной дороге добирались до Токио.
Минули, прямо с вокзала, эту нынешнюю столицу, о которой спутник, уроженец Киото, пренебрежительно заметил: «Мы на одиннадцать веков старше!»
Он ехал на юг из сурового, таежного, необжитого северного края. Менялись деревья, другое зверье выбегало на лесные дороги, мягче и влажнее становилась день ото дня погода.
Если бы его в ту пору кто-нибудь спросил: «Япония – это что за страна?», он бы, не задумываясь, ответил: «Леса да горы».
Ночевали в маленьких придорожных гостиницах и Васе были уже не в диковину ни ночевка на татами, ни ужин из большой миски риса и маленьких тарелочек с рыбными и овощными приправами. Есть полагалось палочками и Вася про себя добрым словом поминал и Мосаку, и Мотомэ, и других сверстников из Хакодате, которые шутками да смехом научили его легко забрасывать в рот непослушные рисинки.
Еще научили они его собственным примером прятать подальше свои чувства: обиду, боль, страх, удивление полагалось переживать про себя. Радоваться тоже надо было вежливо, прежде всего не раз поблагодарив того, кто доставил радость. Поэтому рассматривая во все глаза чудеса своего путешествия, он изо всех сил старался выглядеть невозмутимым, что порой было довольно забавно при его живой русской физиономии.
А чудес хватало: небывалые деревья – низкорослые сосны, изогнутые, будто кто нарочно выворачивал по-всякому их горизонтальные ветки; бамбук, который здесь шел на все: и на постройки, и на остроконечные шляпы, и в еду. И вовсе диковинные криптомерии, про которые один из спутников сказал непонятное слово «реликтовые».
Чудной была одежда: длинные, в широкую складку не то юбка, не то штаны – «хакама», деревянные сандалии «гета» – скамеечки на двух подставках. Для них даже носки нужны специальные – «таби»: не носки, а рукавички с отдельно вывязанным большим пальцем. Это чтобы шнурки цеплять за него. Смех да и только!
Но больше всего носили кимоно – и женщины, и мужчины. Зимой по несколько штук на себя навьючивали.
Вася и не подозревал, что все это придется носить и ему и что, обвыкнув, он поймет и примет удобства чужой одежды.
Рано или поздно всякому пути приходит конец. Киото, в который они так долго добирались, показался, не в пример Хакодате, большим. А вот семинария, которой, честно говоря, побаивался, встретила по-свойски, так, будто и не уезжал никуда. Только вместо отца Анатолия оказался отец Арсений, да с местными японскими сверстниками еще предстояло познакомиться. Дух, что ли, и здесь, и в Хакодате был одинаковый? Да оно и немудрено – одно и то же незримое присутствие владыки Николая чувствовалось всюду и подтягивало, настраивало на деловую, но добрую волну.
Однако стоило начаться занятиям, как все же почувствовалась разница. Была она такая же, какую мы бы сегодня ощутили между музыкальной школой и консерваторией. Здесь уже не начинали с азов – здесь шлифовали, доводили до более высокой ступени то, что было усвоено раньше. И так было по всем предметам – от географии до богословия. Был еще один иностранный язык – английский.
И еще – готовили семинаристов к миссионерской деятельности не только среди крестьян и рыбаков. Собеседниками могли оказаться буддийские философы или синтоистские жрецы, врачи или учителя, люди из высших слоев общества. Не исключалась отсылка выпускников семинарии в Россию для продолжения образования в духовных академиях Российской империи. Поэтому шлифовке подлежали не только знания, но и манеры. Пришлось и Васе понемногу расставаться с привычными простонародными оборотами речи, прежними крестьянскими привычками. Помогали книги – читал он в это время как никогда много. На всех трех языках.
Что же касается уроков в до-дзе, то сэнсэй Сато-сан только одобрительно кивнул, посмотрев, что уже знает русский новичок, однако было непонятно, к чему относится одобрение: то ли к Васиным умениям, то ли к добротной работе его прежнего тренера. Кто их, сэнсэев, разберет! И, хотя готовила семинария людей духовных, заниматься в до-дзе здесь Василию приходилось до седьмого пота. Бывало, что и проклинал он про себя настырного наставника, но в глубине души понимал, что тот прав: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Зато какое было неповторимое чувство, когда тело подчинялось и, порой еще помыслить не успеешь, как бы само выполняло то, что от него требовалось долгими днями и неделями тренировок!
Свободного времени почти не оставалось: отец Арсений наладил что-то вроде взаимной помощи – бывалые семинаристы гоняли Васю по английской грамматике, зато он натаскивал их в разговорном русском.
Наособицу стояли молитвенные службы в соборе. Недавно открытый и освященный самим архиепископом Николаем, храм как бы хранил его невидимое живое присутствие. И порой, особенно во время поздней всенощной, когда слегка покруживалась голова от дымки ладана и горящих свечей, казалось Васе, что с иконы в отдаленном приделе смотрит на него лик преосвященного. Он крестился, отгоняя наваждение, но в глубине души рад был видению.
Он надеялся еще хоть раз увидеть владыку Николая, поговорить с ним обо всем, в том числе и о том, как ему совместить в душе книжное церковное учение и занятия по борьбе, которые все больше захватывали его. Однако отец Арсений только с сомнением покачивал головой: редко стал выезжать в епархии преосвященный – годы уже не те. Говорят, хлопочет о преемнике.
Но семинария еще хранила в рассказах старших, в устных легендах память о том, как в прошлые приезды быстрой своей, энергичной походкой входил преосвященный в большую комнату, где учились и играли младшие. Его громко и дружно приветствовали, непременно по-русски.
«Здорово, молодцы!» – живо и весело откликался он. И приостанавливался, чтобы перемолвиться словом. Его окружали, нередко выносили на его суд свои мальчишеские несогласия и ждали его слова с тем же чувством, с каким дети ждут от отца разрешения их взаимных недоразумений. И преосвященный никогда не отмахивался от этих вопросов к нему, какими бы мелкими они ни казались. После первого его приезда и даже комнату, где он чаще всего бывал, так и прозвали «молодцовской».
Почти с завистью слушал Вася эти рассказы, но успокаивал себя тем, что ведь и его однажды назвал владыка Николай «молодцом», и его рассказ о своей маленькой жизни выслушал не перебивая, с участием и сочувствием. Об этой своей встрече с преосвященным он никому не рассказывал, у него даже не возникало желания похвастаться, вступив в общий разговор. Он чувствовал, что встреча эта – нечто заповедное, только для него одного. И еще было предчувствие, что она только начало. А начало чего – он и сам не мог бы сказать.
По пути из собора в семинарию и в редкие дни отдыха, сначала с товарищами, а потом и один, Вася нередко сворачивал на узкие улочки древнего Киото – глазел на пеструю, незнакомую здешнюю жизнь. Город постепенно разворачивался перед ним своими прямоугольными кварталами – показывал диковинные храмы, старинные постройки, целые улицы искусных ремесленников, которыми издавна славился. А в самом центре северной части, как бы организуя и сплачивая вокруг себя все городские строения, высился дворец – древняя резиденция японских императоров. Ведь и Киото совсем еще недавно носил громкий титул столицы, как бы ни старался его затмить молодой растущий Эдо. От дворца шел очень широкий проспект, который делил город на восточную и западную половины.
Незаметно подходила к концу зима 1906 года, для Васи – первая зима в Киото. Просыпалась природа, и это придавало особую прелесть древним храмам, прудам и паркам. Когда императорская семья покинула Киото, была опасность, что все это придет в запустение. Но город взял на себя заботу о бывшей императорской резиденции, а жители получили возможность вблизи полюбоваться ее красотой.
Сверстники особенно расхваливали Васе знаменитый сад храма Реандзи. Его предупредили, что сад этот не похож на другие – это сад камней.
– Наверное, необыкновенные какие камни? – заинтересовался Вася.
– Да нет, – ответили ему. – Просто пятнадцать необработанных камней разбросаны по белому песку. А сделал это много веков назад один монах по имени Соами. Да ты сходи – сам все увидишь.
– Да на что глядеть-то? – заупрямился Вася. – Разыгрываете меня, поди? Сами же говорите, что камни обыкновенные.
– Камни-то обыкновенные, а в саду том скрыт великий секрет, – наконец объяснили ему. – Мы тебе сказали, что камней пятнадцать?
– Ну? И что?
– А то, что все пятнадцать вместе ты не увидишь, как ни становись. Один камень остается невидимым.
– Так может, дурит народ тот монах? Может, их и вовсе четырнадцать?
– Да нет, в том-то и дело, что если ты перейдешь на другое место, невидимым окажется другой камень. А тот, который прятался, теперь виден.
– А потрогать-то их можно? – поинтересовался недоверчивый Вася.
– Э, нет. Смотреть на камни можно с галереи, которая идет по одному краю сада. А с трех остальных сторон – монастырские стены.
И Вася отправился к саду Реандзи. Наверное, он оказался там одним из самых дотошных посетителей: стараясь никого не потеснить или, упаси Боже, не толкнуть, он так и эдак прилаживался смотреть – даже на корточки садился и очень жалел, что нельзя взобраться на перила галереи. Уж сверху-то, наверное, всяко видно все пятнадцать камней сразу.
Загадка сада камней долго не давала ему покоя, и однажды он не утерпел – спросил у сэнсэя Сато, что же имел в виду монах Соами, что он хотел сказать своими камнями. Тот ответил: «Видишь ли, мальчик, мы бываем уверены, что видим то, что есть, до конца. И в голову иной раз не придет, что есть такое еще, чего мы не видим. А оно всегда есть». И сэнсэй даже палец вверх поднял.
Ну что ж. И такое объяснение годилось. Но каким-то уж очень простым оно было. И Вася, набравшись смелости, спросил о саде камней отца Арсения – все же он тоже был монахом, может тот Соами ему понятнее?
– Мне кажется, – задумчиво сказал отец Арсений, – тот буддийский монах имел в виду не сами камни, а людей, которые на них смотрят. Ты помысли: сколько вас было на галерее – и у каждого был свой невидимый камень, каждый видел другие четырнадцать камней, чем его соседи. Может, хотел сказать монах, что ни одну точку зрения нельзя назвать единственно правильной?
Есть у японцев такая конституция, написанная еще в седьмом веке, говорят. А в конституции записаны такие слова: «У каждого человека есть сердце. А у каждого сердца есть свои наклонности. Он считает это хорошим, я – дурным. Я считаю это хорошим, он – дурным. Но я вовсе не обязательно мудрец, а он вовсе не обязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди».
– А как же тогда распознать, где правда, где лжа? – горячо возразил Вася.
– Так ведь это их, японская, древняя конституция гласит, – нахмурившись ответил отец Арсений, пожалев про себя, что смутил незрелый ум отрока чужой мудростью. – А у нас мера одна: Божья Истина, Заповеди Господни. Вот их и слушай сердцем – не ошибешься.
Была еще кроме садов камней необыкновенной красоты императорская вилла Кацура Рикю, но туда не то что Васе или другим семинаристам – и остальным жителям Киото хода не было. Говорили, что императрица с придворными дамами до сих пор часто приезжает на виллу – скучает по ее красоте. Ходило много рассказов о парке при вилле, о трех павильонах и чайном домике на сваях, о фонарях – «Три сияния», у которых три окошка: в виде солнца, полумесяца и звезды; «Три угла», где все треугольное – тренога в основании и главная часть; «Три камня» – его широкой крышей можно любоваться в снежные зимы, там нарастает пушистая снежная шапка.
Занимала и простая здешняя жизнь, особенно ремесленная. Недаром Киото славился мастерами по изготовлению шелковых тканей, одежды, кулинарами. Однажды проходя со сверстниками возле речки Камо, Вася увидел, что все ее берега устланы длинными разноцветными полотнищами. «К празднику, что ли, какому готовятся?» – подивился он.
Ему объяснили, что это ткани для будущих кимоно. Их соткали вручную, а потом кисточкой нанесли рисунок, обвели рисовой пастой по контуру, и мастерицы тонкими кисточками раскрасили каждый завиток орнамента, каждый лепесток цветка натуральными красками из трав и минералов. Потом еще раз покрыли специальной пастой – и в парилку. Ну а после этого шелка полощут в Камо и сушат тут же на берегу.
Рассказала обо всем Васе лохматая черноглазая японочка, которая болталась тут же около шелков с рисовой метелкой на длинной бамбуковой палке – то ли смахивала случайно налетевший сор, то ли просто караулила. Вася выслушал ее с интересом и уже сложил было ладони, чтобы вежливо поблагодарить за рассказ, когда его сильно дернули за полу и, отведя в сторонку, зашипели: «Ты что? Это же “эта” – подметальщица! Это она тебя должна благодарить, что ты ее удостоил вопросом». А в глазах говорившего мальчишки явственно читалось: «Эх, одно слово – иноземец. Как дети малые – порядков не знаете».
Подметальщица и в самом деле кланялась, старательно сгибаясь пополам. Вася только рукой махнул: всю прогулку испортили. Знал, что долго будет помниться испуг в живых и веселых до того девчоночьих глазах. А про шелка подумалось: много этаким способом не выработаешь. А раз мало вырабатывают – значит, дорого. Должно, одним богатым по карману.
Когда весна разгулялась вовсю и в Киото стали готовиться любоваться цветущей сакурой – японской вишней, в семинарию без предупреждения приехал владыка Николай. Как всегда без сопровождающих, с одним возницей, в легком открытом экипаже. Видно было, что сдал он за эти зимние месяцы, но держался все так же прямо и так же громок был голос, весело ответивший семинаристам: «Здорово, молодцы!»
Держась в толпе семинаристов, Вася слышал, как преосвященный на ходу возражал начальнику семинарии, пенявшему владыке, что он утруждает себя и отказывается от отдыха с дороги: «На покой миссионеру, когда у него есть хоть капля силы служить своему делу? Это для меня представляется столь несообразным, что я и в мечтах никогда не пытался примеривать покойный халат. Хочется умереть на той борозде, где Промысел Божий судил и пахать и сеять».
Как обычно в день приезда владыки Николая, были и служба в соборе, и проповедь его там, и длительная беседа с руководством миссии в Киото. Как всегда, шли своим чередом и занятия семинаристов. Разве только к ночи, против обыкновения, никак не могли угомониться взбудораженные событиями «молодцы». И тогда Вася сквозь гомон сверстников услышал в коридоре знакомые энергичные шаги. Услышали их, как видно, и остальные – все голоса смолкли. В спальню вступил преосвященный Николай. Он тихо, будто не ведая, что отроки не спят, прошел между койками, где-то, склонившись, поправил край сползшего одеяла, подоткнул подушку, так же тихо вышел. И будто осталась в спальне принесенная им тишина – больше никто не шелохнулся, не вымолвил ни слова.
А затем пришел сон.
На другой день после утренней молитвы, которую начал первыми фразами сам преосвященный, занятия для Васи начались со спортивного зала. Он любил эти тренировки в утренние часы, но в этот раз его мысли были очень далеко от до-дзе: он думал о том, как бы все-таки поговорить с владыкой Николаем до его отъезда.
Сэнсэй Сато, как всегда, каким-то шестым чувством угадывал состояние своего питомца и потому был в этот день особенно безжалостным. Когда, еще в борцовском кимоно, вытирая рукавом пот, Вася выскочил наконец из до-дзе, он почти уткнулся разгоряченным лбом в пахнущую ладаном епитрахиль владыки Николая.
– А, молодец из Хакодате! – неторопливо проговорил преосвященный, слегка отстранив его и как бы любуясь взъерошенным Васиным видом. – Ну как твои успехи у мастера Сато? – И тут же прервал себя: – Ну, беги, беги – остынь, переоденься, да после обеда зайди ко мне. Потолкуем.
Не чуя под собой ног, как во сне, летел Вася в «молодцовскую». Не помнил потом, чем кормила в тот день семинарская кухня: ел, не разбирая, то ли рыба, то ли рис, то ли бобы ихние – соей называются. Весь послеобеденный отдых лежал с закрытыми глазами, твердил про себя, что надо не забыть сказать владыке, о чем спросить.
И вот настал час – отпущенный с послеобеденных занятий, как никогда умытый и причесанный, стоит он у дверей комнаты преосвященного: робеет постучать.
Когда потом припоминал разговор (а припоминал не раз и не два – помнил всю жизнь), неважным оказалось, и как вошел, и что отвечал на первые вопросы владыки. Да, видимо, и спрашивал преосвященный больше для того, чтобы успокоить отрока, помочь ему справиться со смущением.
Он перестал смущаться, когда зашел разговор о занятиях в до-дзе. Подробно рассказал, чему выучился у сэнсэя Сато, как умеет теперь одолеть в схватке двоих, а то и троих. Владыка Николай слушал с затаенной усмешкой в глазах: знал, что молодец не бахвалится – до того преосвященный успел перемолвиться с мастером Сато. Японец вначале тоже робел, все пытался кланяться, но когда речь зашла о Васе-сан, оживился и стал горячо доказывать, что такого способного ученика у него еще не было и что делать из него проповедника – загубить большой талант.
Убедил не учитель – сам видел, что вряд ли получится миссионер из способного, но очень уж по-мирскому живого и любопытного ко всем жизненным проявлениям молодца. Надо как-то иначе решать его будущее. Но дело было не только в этом – что-то еще очень значимое проглядывало в ясных серьезных глазах, в которые засмотрелся сейчас, задумавшись, преосвященный.
Он опомнился от своих дум, услышав настойчивый вопрос юнца, который тот, видимо, задавал уже не в первый раз:
– И еще непонятно мне, владыка, достойно ли тому, кто должен побеждать язычников только Словом Божьим, усваивать их языческую борьбу? Не грех ли это, что я иной раз все другие занятия променял бы на уроки учителя Сато? Борьба ведь – дело воинское, а не духовное. И как же быть с Заповедью Божией «Не убий»?
Еще внимательнее всмотрелся преосвященный в побледневшее лицо отрока и заговорил, будто перед ним был равный собеседник, но речь повел, казалось бы, совсем не о том, что его спрашивали:
– Думается мне, что узел, который сейчас здесь, на Дальнем Востоке, завязался, Россия еще не один год развязывать будет. Наш долг – помочь своим знанием и своей верой здесь, на месте. Но кто-то должен будет и там, на Родине, показать, с каким противником нам, может быть, придется бороться. И более того – надлежит нам создать умение выше здешнего.
Владыка Николай помолчал, словно убеждаясь, что его поняли, и уже по-другому, будто снисходя к возрасту своего собеседника, продолжил:
– Что же до воинского и духовного, сдается, не прав ты, молодец. Когда при Лжедмитрии вороги осадили Троице-Сергиеву лавру, монахи на стенах сражались яко простые пушкари и ратники. А еще ранее, при святом благоверном Дмитрии Донском, сам Сергий Радонежский благословил монахов Ослябю и Пересвета на ратный подвиг. И они совершили его, и погибли как воины. Знаешь ли ты, что Александр Пересвет, что вышел против монгольского богатыря на поле Куликовом, был монахом самой высокой степени пострижения? Не потому ли сподобил его Господь постоять за землю Русскую, смертию смерть поправ! А начал он битву без какого-либо защитного снаряжения. Господь был ему щитом, когда он не уступил победу Челубею. А Ослябя с Божьей помощью прошел невредимым через страшную сечу и увидал нашу победу на поле Куликовом.
Широко раскрытыми глазами смотрел Вася на преосвященного и словно увидел в тот миг черную мантию Осляби, свисавшую на конские бока; куколь, прикрывавший шею и грудь; шитый золотом крест, белокипенного коня…
– Они были как Илья Муромец? – на одном дыхании спросил он.
Преосвященный кивнул:
– Богатырь Илья Муромец монашество принял под конец жизни. Прах его хранится в Киево-Печерской лавре.
Запомни, – продолжал владыка Николай, – Господь дает жизнь от Жизни Своей всякому творению, всему сотворенному бытию. Жизнь есть драгоценнейшее достояние Божие, и если кто дерзнет покушаться на чью-нибудь жизнь, тот покушается на саму Жизнь Господа… Но ратное дело – это иное. В ратном деле всегда побеждает тот, кто защищает правое дело. А если и гибнет в битве, то в памяти людской героем остается он, а не тот, кто его превозмог. А драться, защищать веру и землю отцов и дедов надобно – и в прежние века, и в нынешнее время, и впредь. И драться надо учиться. Хотя бы и у язычников.
И, усмехнувшись, добавил:
– Только менять все занятия на уроки мастера Сато не надобно. Все знания, что здесь получаешь, во благо. Вырастешь – спасибо скажешь, что выучили, молодец.
Вася понял, что и этот его разговор с преосвященным подходит к концу, и испугался, что не узнал еще что-то самое главное, что не произнесено вслух – то важное, о чем, казалось, говорили глубокие, всевидящие глаза архиепископа. И, заторопившись, взмолился несвязно:
– Владыка, а как же я теперь? Куда же мне?..
И услышал в ответ спокойное:
– В свое время Господь укажет, сын мой. Неисповедима милость Господня. Молись и слушай сердце свое и разум свой. Там и найдешь ответ, если будет Бог в твоей душе. На Него одного уповай. Если не можешь найти верный ответ, помяни имя Божие – и свет осветит твою душу, и загадка разрешится…
В эту ночь, последнюю перед отъездом архиепископа из Киото, Вася долго не мог заснуть – ему все казалось, что встреча с преосвященным не получилась, что не сумел он до конца открыть ему все сомнения своей души и потому не получил определенного ответа, которого так ждал.
Он не знал, что в это самое время преосвященный ведет о нем разговор с отцом Арсением и что оба они решили в дальнейшем воспитании семинариста Ощепкова больше внимания уделять дисциплинам светским, особенно языкам.
– Что же до единоборств, в которых отрок настолько преуспел, то мыслю, дорога ему в Кодокан, к доктору Кано, – завершил беседу преосвященный. – Да не смотрите на меня с таким укором, ваше преподобие: в Кодокане не цирковых борцов готовят. Это школа посерьезнее, и замах у нее тоже куда как серьезный. Читал я работы доктора Кано – он, между прочим, доктор философии. Так что для нашего философа семинарского там повариться не унизительно. Ну а отличать зерно от плевел мы его еще здесь успеем научить. Сами говорили, что в вере православной он тверд. Значит, убережет душу свою от чуждых влияний.
Договорились, пока есть еще не один год в запасе, не смущать молодца дальними планами, вести его в нужном направлении твердо, но незримо. Пусть сам дозреет до нужного решения, в коем и надлежит его в тот решающий час поддержать.
В глубине души сознавал владыка Николай, что не все до конца и подробно сказано им и самому отроку, и его духовным руководителям. Но всего пока и не следовало говорить, потому что многое из того, что виделось ему в этом коренастом пытливом пареньке, было на уровне предчувствия, интуиции и словесному выражению не поддавалось.
Преосвященный знал только, что всему, связанному с мальчиком, должно свершиться не здесь, а там, в России. И было это связано с той стороной многогранной деятельности архиепископа, о которой он не писал в докладах Священному синоду, но которая занимала немалое место в его личной переписке.
В одном из этих писем он восклицал: «Вы представить себе не можете, как, живя за границей, страдаешь за недостаток людей для общественной деятельности в России… Отчего это? А нет их оттого, что русский народ еще не развит. Наличия образованного класса едва хватает для службы в самой России… Иное дело будет, когда она будет образованна. Итак, развитие массы – вот что насущнейшая потребность России».
Это письмо было адресовано известному педагогу – профессору С. А. Рачинскому – не просто единомышленнику, но и земляку: родовое имение Рачинского Татево находилось всего в нескольких верстах от села Егорье-на-Березе, где была родина архиепископа.
Был профессор Рачинский первым организатором сельских школ в России, и владыка Николай видел тогда в этом начинании то самое массовое движение, которое будет способствовать образованию и духовному развитию всей страны.
Он писал своему земляку: «Боже! Как подумаешь, что за необъятное значение имеет сельская школа! Велика и обширна Россия: шестую часть света занимает она, и на каждом клочке ее в трех-четырех квадратных верстах водятся вот такие бриллианты, какие открыты Татевской школой и отшлифованы в виде художников, священнослужителей, учителей и т. п. Будь Россия покрыта сетью школ, подобных Татевской, как заблистала бы она в мире!»
Но в том-то и дело, что опыт Рачинского, который считал, что народная школа долженствовала быть построена на началах народной жизни и во главе ее должно быть поставлено национальное воспитание, был еще далек от того, чтобы действительно «сетью» распространиться по всей России.
Этот опыт держался зачастую на энтузиазме таких людей, как сам Рачинский, инспектор народных училищ И. Н. Ульянов, граф Л. Н. Толстой, писатель и врач А. П. Чехов или владыка Николай. Он, узнав, что в родном Вельском уезде открывается Рачинским Жизлинская сельская школа, пожертвовал всю свою первую годовую пенсию на ее постройку и предназначил для той же цели пенсию за следующий год.
Преосвященный Николай направлял к Рачинскому в Татево питомцев японских православных школ, открытых миссией, и молодых японцев, командированных в русские духовные академии – за опытом, за воспитанием души.
А между тем здесь, в самой Японии, возникала и на государственном уровне внедрялась система, духовным отцом которой был основатель Кодокана доктор Дзигоро Кано. Как узнать досконально, в чем был секрет ее успеха? Нельзя ли было, отбросив то, что было неприемлемо русскому и христианину, и наполнив ее тем национальным содержанием, о котором пекся Рачинский, заставить эту систему служить благу России?
Но для этого к доктору Кано должен попасть хотя бы один русский ученик – не только тот, кто способен блестяще овладеть системой, но и такой, кто сумеет пойти дальше, внести в нее душу русскую, самую ее основу.
В этот приезд в Киото преосвященный Николай был почти уверен, что он нашел для Кодокана такого ученика.
– Неужели вы думаете, что внедрение в систему Кодокана было частью замысла святого Николая относительно будущего России? – засомневался я, обсуждая эту версию с Николаем Васильевичем Мурашовым, прежде чем писать предыдущую главу.
– О, как вы четко формулируете – что называется, сразу быка за рога. А почему нет? – горячо ответил он. – Прежде всего – борьба может быть привлекательной для молодежи, стать массовой, народной. Для спортивного зала нужно меньше места и средств, чем для целой школы. Будут расти поколения здоровых людей – работников, а если понадобится – и воинов.
Затем, – продолжал он, – дополняя народную школу, борьба может воспитывать именно тех собранных, сильных людей для общественной деятельности, в которых так нуждалась и сейчас нуждается Россия. Речь ведь идет о принципе. Не о том философском принципе, который так громко провозглашал доктор Кано (хотя мне кажется, что, будучи забыт дзюдоистами, он успешно работает в современной японской экономике), а о принципе организации всего этого дела – внедрении дзюдо в школы, университеты, все виды учебных заведений. И ведь сработало: выросли там поколения, для которых укрепление тела и духа каждого человека и наиболее эффективное приложение сил каждого для достижения всеобщего благоденствия – жизненная философия.
– Да, но святой Николай… и единоборства? Вроде не совсем вяжется.
– Бог с вами, ну почему же? – возразил Мурашов. – Вы, видимо, не осознали еще до конца, насколько святой Николай проникся за эти годы всеми сторонами японской жизни: он просто не мог пройти мимо новой национальной японской идеи. И при этом он оставался глубоко русским человеком, ни на йоту не утратившим духовной связи с Отчизной. Да и не только духовной – а эта его обширная переписка, не говоря уже о приездах в Россию. Я думаю, что и с Рачинским он виделся во время нескольких приездов на Родину, а не только переписывался.
А кроме того, я просто уверен, – продолжал он, – что именно святой Николай благословил в ранней юности Василия Сергеевича Ощепкова и на поступление в Кодокан, и на его дальнейшую деятельность в России. Прямых свидетельств, то есть каких-то признаний Василия Сергеевича, у меня нет – не те у нас были отношения, да и времена были не те, но видели бы вы, как освещалось все лицо Ощепкова, когда ему доводилось хоть мельком упоминать об архиепископе! Да вот посмотрите: как получилось, что выпускник духовной семинарии поступает в школу единоборств – и никто его не порицает, даже не отговаривает?
Может быть, замысел не настолько четко формулировался, – добавил он, – хотя и в этом я сомневаюсь. Правда, об этом не сохранилось упоминания в переписке или дневниках архиепископа, но не забывайте, что при жизни владыки Василий Сергеевич еще только поступил в Кодокан, еще не было известно, насколько успешно он там себя проявит и как закончит. А жития владыке оставалось меньше года.