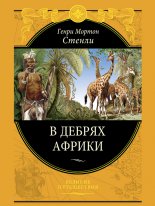Буддист-паломник у святынь Тибета Цыбиков Гомбожаб
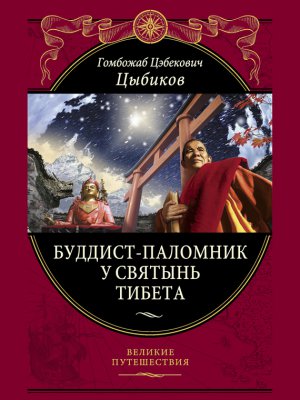
Одна треть монеты, долженствующая весить 5 китайских фынов, называется гарма-на, что буквально значит «пять звездочек», а в переносном значении 5 фынов; 1/2 монеты называется че(дб) – чжа(д), «рассеченная половина»; 2/3, соответствующие одному цину, называются шоган – «один цин»; разница между двумя последними, а также между чечжа и гармана, т. е. 1/6 монеты, называется кхаган, т. е. «одна шестая часть», но для последней нет отдельного кусочка, и в обиходе она уплачивается вышеупомянутыми разницами. Точно так же нет, конечно, отрубка для 5/6 монеты, хотя и существует для них особое наименование хача(д), т. е. «недостаток (до монеты) одной части». К этому следует добавить, что рассеченные части почти никогда не встречаются в целом виде, а обращаются в дуги слесарями, видящими выгоду в серебре, отсеченном из середины полукруга.
Золотых монет в обращении нет, а золото продается в слитках. В 1901 г. лан золота стоил около 40 с(р)анов местных монет, т. е. 53,33 руб., или 1 золотник золота стоил около 5 рублей.
Кроме местной монеты в Лхасе охотно принимаются за 3 и 3 1/3 монеты британско-индийские рупии (по-тибетски – пилин-гормо). Монеты эти охотно скупаются купцами из провинции Кам, где, как говорят, индийские рупии стали ходячей денежной единицей.
При торговле принято употреблять все способы, рекомендуемые известной поговоркой: «Не обманешь – не продашь». Поэтому привыкли при продаже весьма сильно запрашивать цену наряду с непременным восхвалением предлагаемого товара и неоднократным призыванием в свидетели своих слов «Чжу» или «Чжу-ринбочэ», к которому в таких случаях прибегают и магометане-кашмирцы. Покупатель, понятно, начинает давать с самой малой цены. Постепенным понижением запрошенной цены продавцом и повышением данной цены покупателем, наконец, приходят к соглашению. После отмерки покупатель обычно просит сделать прибавку; это практикуется в особенности при покупке съестных припасов. Тогда продавец обычно делает прибавку, а затем и следующие, постепенно уменьшая дозу, более назойливые покупатели просят прибавки до 6–7 раз.
Принято делать обыкновенно прибавку три раза, хотя бы такими долями, что приходится удивляться терпению той и другой стороны. Если продавец не уступчив на прибавку, нередко покупатель бросает товар и удаляется. Когда сделка уже кончена и стоимость уплачена, покупатель заставляет продавца «сказать благопожелание» (по-тибетски – монлам-даб или чжаб). Тогда продавец берет проданный товар в руки и читает заговор, смысл которого сводится к тому, чтобы вещь служила очень долго и доставила счастье и долгоденствие потребителю. Потом, приложив ее к своему лбу, отдает покупателю, который и уносит купленное.
Лхаса не отличается никакой отдельной промышленностью, которой можно было бы охарактеризовать занятие его жителей. Жизнь этого города обусловлена тем, что он является религиозным и административным центром ламаистского мира и Центрального Тибета, притягивающим многочисленных богомольцев и немало чиновного люда. Скопление народа, как известно, требует торговли, которою и можно охарактеризовать занятие жителей этого города. Торговля, как сказано выше, преобладает мелочная, состоящая в перепродаже деревенских продуктов и товаров оптовых продавцов.
Оставив подробности о занятиях исключительно столичных жителей, скажем несколько слов про занятия жителей вообще Центрального Тибета. Главным занятием тибетцев должно считать земледелие и скотоводство, причем земледелием заняты все долины рек и вообще более низкие и неудобныее места, а скотоводством – травянистые горы и высокие окраины страны.
Земледельцы сеют главным образом ячмень (арнаутская пшеница), из которого приготовляется мука цзамба, составляющая главную пищу всех классов населения; затем пшеницу для производства крупчатки, горох и бобы. Огородники садят преимущественно китайскую (с красной кожурой) и тибетскую (с белой кожурой) редьку, которая служит главным приварочным и закусочным овощем, два вида капусты, затем картофель, репу и морковь.
Скотоводы разводят яков и овец, а также небольшое число лошадей. Разводят также и помесь между яком и рогатым скотом, называемую цзо. Это более красивое и выносливое животное, чем его родители. Земледельческое население подспорьем своего главного хозяйства разводит ослов и простой рогатый скот, идущих под полевые работы и вьюки, а также овец для получения шерсти и мяса. Кроме того, уже в самом ограниченном числе разводят мулов и лошадей. Все эти животные отличаются низким ростом и вообще некрасивым видом, но зато чрезвычайно выносливы и невзыскательны в пище и уходе за ними.
Обработка полей производится небольшими сохами, в которые впрягается преимущественно пара цзо или яков. Бороньба чаще производится ручным способом: граблями и деревянными молотками. Нам не приходилось наблюдать отдыхающих полей. Вследствие недостатка в удобной для хлебопашества земли, пашни засевают ежегодно, причем удобряются золой, смешанной с человеческими извержениями. Весною, при посеве, поля обильно орошаются посредством канав, в достаточном числе проведенных даже на большие расстояния. В земледельческом районе очень мало подножного корма для скота даже летом, поэтому зимою кормят скот исключительно соломой и горохом. Трава, вырываемая с болотистых мест и промежутков засеянных нив, стоит сравнительно дорого и составляет корм более дорогих, преимущественно городских животных. Трава, растущая на болотистых местах, высокая, грубая, вроде камыша. Ее скармливают зеленой, так как, высыхая, она настолько твердеет, что делается негодной для корма.
Пастушеское население не делает запасов сена, и животные целый год проводят на подножном корму.
Передвижение по стране совершается только верхом и вьючным способом. Нам приходилось видеть неуклюжие двухколесные телеги только для перевозки больших каменных глыб, и то очень редко. Толстые бревна, даже на большие расстояния, переносятся пешими людьми на плечах.
Из сказанного выше, что Тибет страна ламаистов, читатель уже может заключить, что среди населения должно быть очень большое число духовенства, требуемое уже характером религиозного учения. Эти рабчжюн – «совершенно вышедшие» (подразумевается из мирской жизни) – делятся на монахов и монахинь. Те и другие, по теории, должны питаться доброхотными подаяниями мирян. На деле же, конечно, этого нет, но тем не менее духовенство составляет уже особое свободное сословие, имеющее громадное влияние на быт и экономическое положение простолюдинов. Общая численность монашеского сословия нам неизвестна, но монахи или, вернее, духовные численно далеко превосходят мирян мужчин, монахини же составляют меньшинство женщин.
Недостаток мужчин-мирян обусловливает то, что женщины должны переносить на себе все тягости как отдельных хозяйств, так и общественных повинностей. Вековая борьба с жизненными невзгодами развила в женщинах Центрального Тибета значительную самостоятельность, т. е. умение существовать без помощи мужчин. Поэтому женщина является главною рабочею силою страны, и затруднительно найти такой род занятия, где она не принимала бы преимущественного участия.
Так, мы видим более или менее обширные монастыри, принадлежащие исключительно самостоятельным общинам монахинь; видим по городам и селам отдельные группы последних (обыкновенно четыре человека в каждой), ходящие с предложением совершить чтение кратких молитв, видим прорицательниц, предвещающих, наравне с ламами-прорицателями, судьбу того или другого общества и человека и подающих разные советы вопрошателям; затем видим их торговками и приказчиками, нередко ведущими значительное предприятие самостоятельно; чернорабочими в полевых работах, при постройках домов; прядильщицами и ткачихами при приготовлении местных шерстяных материй; подмастерьями в типографиях; кузнечных, слесарных, токарных мастерских, кожевенных заводах; водоносками, чистильщицами нечистот в городах и селениях; сторожихами и дворничихами при правительственных и общественных учреждениях и т. д.
Эта самостоятельность, вызванная общественною жизнью, оставляющая большинство женщин вне брака, с другой стороны, дает им полную свободу в любви, которая выражается, как известно, в распущенности. Разврат этот мы не хотели бы назвать – применительно к большинству – проституцией как ремеслом, так как даже в сравнительно многолюдном городе, как Лхаса, нет специальных домов и даже специальных одиноких женщин, какие встречаются в других странах. Конечно, немало женщин, пользующихся мужской слабостью и эксплуатирующих дурные наклонности мужчин, но, повторяем, это совершается тихо, некрикливо и не оставляя своих обычных занятий. Зачастую женщина имеет знакомого из окрестных мест, который во время своих приездов в город квартирует и живет, как с женой, часто имея от нее детей. Рождение ребенка нисколько не считается позором для женщины, а лишь радует материнское чувство и обнадеживает ее иметь со временем помощника в трудной борьбе для изыскания средств к существованию.
Содержание большого числа духовенства, малодоходносьб страны и почти полное отсутствие промышленности служат, по-видимому, причиной общей бедноты простого народа. Беднота эта заставляет тибетца ограничиваться самыми малыми потребностями. Простой народ очень скромен в пище: питается исключительно низшим сортом ячменного толокна (цзамба), почти никогда не употребляя мяса и лишь изредка забеленный маслом чай.
Его можно обвинять разве только в страсти к ячменному вину, но опять-таки чрезмерно пьяных редко можно встретить, даже в дни больших праздников.
Только при малых потребностях тибетца может существовать такая заработная плата: чернорабочий получает в день не более 1/3 дам-ха (около 7 коп.) на хозяйском продовольствии; наилучший ткач местного сукна – 2/3 дам-ха (14–20 коп.), при тех же условиях; домашняя при слуга – не более 20 дам-ха в год, но чаще живет за пищу и небольшое пособие в одежде, монах-чтец – 20 коп. за день беспрерывного чтения, группа из 4 монахинь за 1,5—2-часовое беспрерывное чтение хором – не более 7 коп. на всех и т. п.
Эта общая бедность служит причиной господства богатых, которые, пользуясь своими капиталами, подчиняют себе бедноту. Этим, без сомнения, объясняется преклонение перед всемирным кумиром – деньгами, которые в Тибете имеют особенную силу, служа мерилом добродетели до святости и знатности, до высших степеней сановничества. В этом преклонении перед богатством кроется причина забитости и показной льстивости тибетца. Он, увидев на улице хотя не знакомого, но более или менее хорошо одетого человека, не преминет показать знаки почтения, которые состоят главным образом в снимании шапки и высовывании языка, почесывании затылка или еще почтительнее – прикладывать свою руку на задницу, а при разговоре ежеминутно называть собеседника гюшю («высокородный», «святой») и на всякое слово отвечать «Лха, лагсо» («Хорошо!»).
Бедность и отсутствие общественного призрения развили в стране огромное число нищих самых различных возрастов обоего пола. Часто попрошайничество сопровождается чтением молитв или пением с игрою на двухструнной скрипке, пляской малышей и т. п.
Особенно назойливыми являются могильщики – дон-цхон-па, люди, которые относят трупы на съедение собакам (в городах) или птицам (в монастырях). Они ходят толпами и выпрашивают с громким хоровым криком, сопровождаемым по временам страшно жутким визгом. В случае подачи малого количества цзамбы или денег они отказываются брать, но если их прогнать, то при уходе не стесняются выругаться и погрозить намеком, что хорошую расправу сделают они с телом скряги после его смерти. Это, конечно, неприятно действует на иных людей. Не менее нахальными, но не связанными известным отношением к жителям после смерти являются нищие-преступники. Эти лишенные тех или иных органов и частей тела, как то: глаз, носов, кистей рук, закованные в вечные кандалы и колодки по судебному приговору, обыкновенно ходят также небольшими группами и при малейшем недосмотре хозяев крадут все, что плохо лежит.
В семейной жизни у тибетцев существуют, между прочим, полиандрия и полигамия[50]. При этом нам довелось только узнать, что женитьба нескольких братьев на одной и выход нескольких сестер за одного считаются идеалом родственных отношений. К этому добавим, что даже во временных связях с женщиной братья имеют одну любовницу и несколько сестер – одного любовника […].
Монахи в силу религиозного учения избегают непосредственного убиения насекомых своего платья, но, поймав их, бросают на землю или на пол, так что гость монашеской квартиры не гарантирован от унесения с собою приставших к его платью назойливых насекомых. Во время обычных долгих и монотонных богослужений в храмах в задних рядах сидящих монахов можно видеть черномазых малышей, которые, добыв из-под платья насекомое и оглядываясь на строгих блюстителей порядка, ловят удобный момент, чтобы положить в рот пойманное насекомое. Малыши эти очень напоминают обезьян. И действительно, это сходство заставляет ныне обратиться к легенде о происхождении тибетцев, легенде, которая, на тибетский взгляд, оправдывает эту современную некрасивую манеру уничтожения насекомых.
Эта легенда, как известно, приписывает происхождение тибетского народа связи обезьяны с женским духом (якша). Потомство появилось похожим на обезьяну. К нему принадлежат все цари Тибета и вообще благородное сословие, покровительствующее и покровительствовавшее ламаизму. Поэтому всякий тибетец не гнушается давить в своем рту насекомое, отысканное на своем теле: ведь это признак благородного (благочестивого) происхождения.
Ввиду особенного положения, какое занимает в Лхасе и в Тибете духовенство, не лишним будет сказать несколько слов о буддийских сектах в Тибете.
Туземное население по вероисповеданию почти все буддисты, и притом самых различных сект, появившихся уже на туземной почве. Первоначальное введение буддизма, как известного религиозно-философского учения, относится к VII столетию по Р. X.; в VIII столетии главным проповедником его называют Падма-Самбаву. Но его проповедь придавала преобладающее значение мистике и, по-видимому, была очень близка к первобытной народной религии. Распространившись по Центральному Тибету, это учение стало подвергаться различным изменениям благодаря нововведениям и влиянию более или менее знаменитых проповедников. При сильной обособленности общественной жизни во время удельной системы ни одно вероучение не могло охватить всей страны, что послужило причиной развития и сохранения разных сект посредством введения тех или других учений. Таких сект насчитывают до 18, но мы упоминаем здесь только о главнейших из них, так как мы лично имели дело почти исключительно с представителями господствующей секты гэлуг-па.
Первоначальная туземная религия была бонская (по-тибетски – бон-па или бон-по), которая сходна с древней религией монголов – шаманством (по-монгольски – бо)[51]. С введением буддизма она была оттеснена на окраины, и в настоящее время один бонский монастырь, ближайший к Лхасе, находится в верховьях долины Пэн-бо.
Буддийские секты делятся на две большие группы, которые принято называть в нашей литературе «красношапочной» и «желтошапочной». Первая группа имеет общее определение ньин-ма, т. е. «старой», и, в свою очередь, делится на много отделов, самыми крупными представителями коих считаются: сакья, главный монастырь которой находится к западу от Даший-Лхунбо; каргью(д)ба, нинмаба, брихунба (или дихунба) и др. Последняя господствует в восточной части провинции Уй и имеет своего перерожденца. Вторая группа, называемая иначе еще сарба, т. е. «новая», имеет своим главным представителем секту гэлуг-па, основателем коей был не раз упоминавшийся выше Цзонхава. К этой секте принадлежат главнейшие монастыри около Лхасы, цзанский монастырь Даший-Лхунбо и много мелких. Она является господствующей не только в Тибете, но и в других ламаистских странах. Не входя в разбор тонкостей отличий этих старых и новых сект, мы скажем, что духовенство первых может вступать даже в открытый брак, тогда как монах гэлуг-па должен вести безбрачную жизнь.
Кроме того, должно заметить, что при существовании всех этих подразделений не только простой народ, но и само духовенство питает одинаковое религиозное чувство к жрецам других сект.
Глава VI. Жизнь Лхасы
Для полноты описания обычной жизни города сделаю теперь несколько выписок из моего дневника, когда обыденная однообразная жизнь – и городская, и моя – немного разнообразилась; оставляя до другой очереди описание жизни окрестных монастырей, придержимся порядка очередных записей 1900 и 1901 гг.
16 августа 1900 г., по местному 2-го числа 7-й луны, местный прорицатель Карма-шяр, спустив своего чойчжона[52] в своем доме, расположенном в восточной части города, совершал шествие вокруг квартала Чжу в сопровождении многочисленных, вооруженных пиками и шашками слуг в особых нарядах и нескольких лам-музыкантов. Густая толпа народа следовала за ним. Двое прислужников поддерживали его под мышками. В большом шлеме с изображением человеческих черепов и развевающимися флажками, одетый в пеструю парчовую одежду, с искаженным донельзя лицом, шел он ускоренными шагами, порывисто покачиваясь из стороны в сторону. На южной стороне квартала он быстро обратился назад. Толпа в испуге остановилась и через минуту в страшном смятении отстранилась на обе стороны: прорицатель бросил в толпу меч, который во время шествия он держал в правой руке.
Меч ни в кого из людей не попал и упал безвредно для видимых существ на землю, недалеко от меня. Я, в удивлении от такой неожиданной выходки, при которой прорицатель мог ранить кого-нибудь, поинтересовался посмотреть – что это за меч. Оказалось, что он был сделан из тонкого медного листа, так что, и попав в человека, не причинил бы большого вреда, но, по верованию народа, в толпе невидимо шел какой-нибудь враг религии, которого чойчжон, без сомнения, поразил этим мечом. Далее церемония продолжалась по-прежнему. Дойдя до главных ворот Чжу, прорицатель и процессия отправились на поклонение Чжу-ринбочэ. При выходе оттуда процессия в том же порядке направилась в дом прорицателя.
21 августа я, придерживаясь обычая благочестивых паломников, пригласил своих бурятских лам для чтения и поднесения чжямчо(д) двум статуям Чжу. В вознаграждение за труд я роздал всем им по 3 местных монеты (по 65 коп.). Лам оказалось 45 человек, за исключением двух живущих в монастыре Сэра. Эти 47 бурятских лам распределялись по монастырям так: в Галдане – 3, в Сэра – 2, а остальные – в Брайбуне.
Начиная с 16 августа, почти целую неделю шли представления уличных актеров, коих я видел 12 августа (по местному 30-го числа 6-й луны) в Брайбуне на церемонии смены шамо, речь о чем будет впереди. Эти актеры дают групповые представления во дворах богатых домов и на площадках рынка. В тех и других случаях им дают деньги и чаще съедобное (цзамба) и хадаки. Торговцы дают какую-нибудь безделицу. Актеры ходят и поодиночке, и попарно. Тибетцы, вообще большие охотники до зрелищ, сопровождают актеров большой толпой и скопляются на местах представлений.
25 августа. Подле дома Том-си-хан, где остановился проездом из Пекина непальский или, вернее, гуркаский князь, собралась большая толпа. Народ хотел ворваться во двор. Вдруг кто-то выскочил из дома, откуда раздавались чьи-то душераздирающие крики, и, выгнав всех, человек закрыл ворота. Народ был в сильно возбужденном состоянии. Мелкие рыночные торговцы ближайших мест стали убирать товары, за ними поспешно стали закрываться и лавки в домах, в особенности непальские. На мой вопрос мне разъяснили, что свита князя затащила к себе одного простого монаха и, связав, била весьма жестоко. Толпа, однако, успокоилась, когда узнала, что был виновен сам наказываемый. Говорили, что если толпа возмутится, то происходит уличная драка, легко переходящая в разграбление лавок.
11 сентября, сегодня (по китайскому счислению 30-е число 7-й луны, а по тибетскому – 1-е 8-й луны), видел церемонию поклонения маньчжурского амбаня статуе Чжу. Утром стали собираться у наружных ворот китайские чиновники. Незадолго перед амбанем приехал на лошаке его помощник с красным шариком на шапке и с красным почетным зонтом, который несли сзади его. Амбань явился в синих носилках, несомых четырьмя китайцами. Впереди шли до двадцати солдат, вооруженных секирами, трезубцами и копьями, в красных с черными каймами куртках, с обычными китайскими надписями, обозначающими их воинскую часть. Сзади ехали свитские чиновники и несли также красный зонт.
18 сентября (8-е число). Процессия, состоящая приблизительно из 30 человек тибетских чиновников и лам, верхом объехала посолонь квартал Чжу и направилась в сторону китайского амбаня. Мне объяснили, что это едут для осмотра казенных хлебов, посеянных и сжатых в окрестностях города. Действительно, при вечернем их возвращении можно было видеть на копьях хлебные колосья, пестро украшенные цветами.
18 ноября 1900 г. нам пришлось видеть одну церемонию, исполненную совместно двумя дацанами Чжюд[53]. Тибетское правительство, оповещенное тогда об известных беспорядках в Китае, потребовавших вмешательства оружия европейцев[54], заказало обоим дацанам Чжюд чтение книги Дордок Кшэтрапалы с приготовлением двух «соров» и опрокидыванием котла. Для исполнения этого поручения монахи двух упомянутых дацанов три дня собирались во дворе Большого Чжу и читали вышеназванное сочинение. В назначенный день (18 ноября 1900 г.) собралась депутация от Сэ-нбра-гэ-сума[55], т. е. трех главных монастырей в 500 человек. Все монахи дацанов Чжюд во главе с настоятелем Галдана и депутаты с высшими хутухтами, по определенному церемониалу, вышли на восточную сторону города, где приготовлены были солома для сожжения «соров» и большой котел с чаем, в который было наложено много масла и яств.
Первыми отправились на церемонию духовные Сэ-нбра-гэ-сума, впереди коих шел старший шамо Брайбуна с пачкой зажженных курительных свечей. Сзади его шли последовательно: умцзад (главный уставщик) Брайбуна, хамбы дацанов, перерожденцы и простые монахи. О каком-нибудь правильном шествии (марше) у тибетцев нечего говорить: его нет даже у солдат. Придя к месту церемонии, главный уставщик занял место на приготовленном возвышенном седалище, а остальные – на земле. Распоряжался общим порядком шамо, стоя и прохаживаясь взад и вперед. Началось чтение молитв. Спустя около часа времени приехал на лошаке со свитой прорицатель Гадон. Почти одновременно с ним явились и духовные Чжюд со старшими впереди и пешком галданский сэрти со свитой и своим отличительным желтым зонтом.
Сначала сожгли «соры», затем в особой палатке прорицатель Гадон, о котором слово впереди, спустил чойчжона и отправился к котлу, куда собрались и все мофнахи. После непродолжительной пляски и жестикуляций прорицатель выпустил из лука одну стрелу на восток, причем котел вместе с содержимым был опрокинут в яму, и монахи, сняв свои желтые шапки, потрясли ими, и этим церемония закончилась. Нам не удалось добиться удовлетворительного объяснения значения этой церемонии, но говорили, что кушанье приготовляется как бы для угощения чойчжонов-хранителей, а опрокидывается в наказание за их нерадение в войне с врагами богдохана. Тогда, говорят, страшные чойчжоны за лишение кушанья (т. е. воздаяния почестей) должны мстить врагам. Нам передавали, что точно такая же церемония была совершена во время недавней японо-китайской войны, исход которой, благодаря этой церемонии, был в пользу Китая, как установилось мнение простого народа в Тибете[56].
4 февраля 1901 г. я был на поклонении у далай-ламы как обыкновенный богомолец. За три дня до этого я внес через монгольского переводчика, состоящего в штате далай-ламы в звании цзэдун, восемь ланов местных монет, т. е. 10 р. 66 коп. на наши деньги. Из этой суммы 5 ланов идут в казну далай-ламы за прокат упомянутых ниже предметов, а 3 лана – на угощение. Переводчик, обязанный руководить всеми поклоняющимися монголами, из предосторожности велел нам прийти во дворец немного позже полудня. В точности исполняя его слова, я в сопровождении трех монгольских лам, пожелавших поклониться со мною, пошел в Поталу и поднялся по многочисленным лестницам в зал на лицевой стороне. В этой приемной не было никакой мебели. Только стены и частые колонны могли немного облегчить ногам неудобное времяпрепровождение. Здесь собрались и другие поклонники из верхних, или цайдамских, монголов, во главе которых был один дряхлый старик, принявший под старость обеты гэлона и приехавший со своим сыном, вероятно, на последнее в этой своей жизни поклонение далай-ламе. Он также внес, как оказалось, восемь ланов серебра, – так что и он, и я оказались с одинаковыми правами на поклонение.
В числе людей, желавших воспользоваться случаем поклониться в качестве товарищей старика, оказался один цайдамский монгол вместе с женой. Эта супружеская чета, осмелившаяся или, вернее, вынужденная ехать из Цайдама в Лхасу только вдвоем, подверглась подле перевала Дан-ла нападению разбойников, еграев, которые отобрали у них лошадей и всю кладь, а самих, израненных, бросили на произвол судьбы. Счастье покровительствовало им – на них наехал караван камских торговцев, которые дали им подводы и довезли до жителей Накчу. Там они оправились от изнурения и пешими пришли в Лхасу, где в них приняли участие сородичи. Впоследствии мне случайно пришлось узнать, что такая смелая поездка имела под собою романтическую подкладку. Именно – этот несчастный супруг соблазнил жену своего соседа и, чтобы укрыться от преследования закона, предпринял данную поездку, кончившуюся так печально.
Во время долгого и скучного ожидания к нам изредка заходил переводчик и отбирал хадаки для той или иной надобности при церемонии поклонения. Немного раньше заката солнца, после того как мимо нас прошел первый советник далай-ламы чжишаб-хамбо в желтой длинной куртке, – нас пригласили подняться еще на один этаж, и мы очутились под навесом второго сверху этажа Красного дворца, середина которого – обычный колодезь тибетских построек – была окружена решетчатой стеной. Противоположные решетки стены имели множество дверей, очень массивных и украшенных резьбою по косякам. Двери на южную сторону вели в квартиры четырех «придворных писцов» (дун-йигши). На западной стене были решетчатые окна, из-за которых была видна верхушка золотой ступы с прахом пятого, «Великого», далай-ламы, а внизу были видны и ступы других далай-лам, бывших после него. На северной и восточной стороне было несколько дверей, ведших неизвестно куда.
С закатом солнца нас повели еще на один этаж выше, по деревянной, очень крутой лестнице, и мы очутились под открытым небом, имея перед собою широкую площадку перед дверью приемного зала далай-ламы. Здесь у стен, по сторонам от двери, на более высоких скамейках сидели знатные ламы, а под прямым углом к ним, на длинных коврах, сидели простые ламы из придворного штата. Поставили нас гуськом; впереди всех стал я, за мною следовали мои товарищи, за ними стал упомянутый старик монгол, имея с собою своих товарищей. Таких товарищей можно иметь сколько угодно. Здесь пришлось ждать недолго; минут через десять, в течение которых переводчик снова повторил правила предстоящей церемонии, нас ввели в зал, который представлял довольно большую комнату, страдающую, как всякая тибетская комната, малым количеством света, к чему в данную минуту присоединилось и позднее время.
Прямо против двери был поставлен высокий трон, обращенный к двери, на котором по-восточному восседал далай-лама, завернувшись желтой мантией, называемой чжянши, что буквально значит «китайская шелковая материя с разноцветным шитьем (рисунками), с богато отделанным воротом». Голова его была покрыта желтой остроконечной шапкой цзонхавинского образца. Его престол представлял простое возвышение из дерева около 1,5 аршина над полом вроде кубического сундука, но отделанного резьбой. Подробно рассмотреть резьбу не было возможности, но обыкновенно такие престолы бывают с изображениями двух львов в положении как бы поддерживающих престол (верхнюю доску).
Остальное пространство наполняется различными рисунками, как то: цветов, листьев, просто узоров и т. д. Сверху дерева было наложено несколько толстых квадратных тюфячков, обшитых материей местного и китайского производства. Лицевая сторона престола была закрыта отдельным шелковым платком, на котором были изображены два вачира (по-тибетски – дорчжэ), сложенных крест-накрест; а за спиной была стенка, обшитая желтым китайским атласом. По обе стороны этого престола, над которым изображен сидящим ныне живущий восьмой перерожденец Чжэ-бцзун-дамба, стояла свита, состоявшая из 4–5 человек, среди коих на первом плане стояли два телохранителя, выбираемые из самых высоких и представительных по наружности лам. Большая половина зала оставалась на левую руку от далай-ламы. Здесь, на низких скамейках, сидели знатные ламы и высшие сановники.
Лишь только мы вошли в дверь, началась какая-то спешная погоня нас, стоявшие здесь ламы заставляли как можно скорее двигаться вперед, а если кто обращал взоры в сторону или иным образом мешкал, того немилосердно толкали вперед. Мы, приблизившись к далай-ламе, сделали поспешно три земных поклона, а затем, держа на вытянутых вперед руках длинные хадаки, приблизились к престолу. Тут сбоку один из свитских прислужников поставил на хадак последовательно четыре вещи: мандал, будду, книгу и субурган. Далай-лама дотрагивался до них, как бы принимая поднесение, а стоящий по правую руку свитский лама поспешно убирал. После всех подношений далай-лама принял хадак и благословил меня приложением своей правой руки к моему темени. В это время ему подали шнурок из ленты шелковой материи, он связал узел и, дунув на него, положил на мою шею. Такой шнурок с узлом называется по-монгольски цзангя (по-тибетски – с(р)ун-дуд), т. е. «охранительный узел, «освященный дуновением», после прочтения известного заклинания он считается талисманом, предохраняющим от несчастий.
Я отошел в сторону; моих товарищей он только благословил помянутым способом. Когда очередь дошла до старого цайдамца, то он проделал то же, что и я. Затем нас посадили на тоненький коврик, разостланный недалеко от престола, против его лицевой стороны, перпендикулярно к ней, так что мы сидели боком к далай-ламе и спинами обращенными к тем лицам, которые были в аудиенц-зале. Перед нами в одной сажени была только голая стена; между нею и нами стоял один лишь, достаточно надоевший нам, переводчик. Внесли в кувшине чай. Я и старик должны были встать и подойти к престолу и подставить свои чашки. Нам налили по глоточку. Мы выпили и сделали по три земных поклона. Тогда налили этого чая далай-ламе, который откушал один глоток. Тогда мы сели на прежние места, и всем в чашки налили по несколько капель чая.
В это время далай-лама громко, обыкновенным голосом, но скороговоркой спросил: «Хорошо ли вы совершили путь и благополучны ли все на вашей родине?» Мы по церемониалу не должны были ничего отвечать, а только немного приподняться с места и сделать поклон в сторону переводчика, который передавал нам эти слова по-монгольски. Переводчик тоже безмолвно сделал поясной поклон далай-ламе. После этого принесли вареного риса, далай-лама также отведал из поданной ему чашки и сполоснул рот из особого кувшинчика. Нам же понаклали в чашки рису очень щедро и даже через края, но не успели мы и отведать его, как сказали, что церемония кончена и нужно поспешно удаляться. Конец вышел не особенно гостеприимный. Два громадных телохранителя с бичами в руках выталкивали и кричали в присутствии самого далай-ламы: «Убирайтесь поскорее!» Мы, понятно, в некотором смятении бежали вон и… ушли домой. Вся церемония не тянулась и десяти минут.
7 февраля 1901 г. был местный Новый год (по-тибетски – ло-сар). В этот день жители города встают задолго до рассвета и совершают поклонения дома и в храмах Чжу. Затем, после рассвета, начинают разносить по знакомым и соседним квартирам в особом кувшине ячменное вино и на тарелке цзамбу, из которой делают коническую кучку и втыкают в нее стебельки трав и вылепленные из масла цветки. Эта мука с украшениями называется чи-мар, т. е. «мука и масло». Хозяева того дома, куда приносят чи-мар, сначала должны захватить щепотку муки и бросить вверх, как бы в жертву духам, а затем взять другую щепотку и положить в свой рот. Затем это запивается принесенным вином. Когда в этот день входят в знакомый дом, то гостей угощают тем же чи-мар и вином. Целый день тянутся поклонения в храмах Чжу. Дети и взрослые пускают беспрестанно бураки, причем главное внимание, по-видимому, обращают не на цвет, а на звук. В темноте разжигают спички, дающие розовый свет.
На улицах пляшут хороводы с песнями; дети, взрослые, и в особенности женщины, бьют «жестку» и прыгают через веревку следующим образом: две женщины держат за концы не особенно длинную веревку и вертят ее; третья женщина, преимущественно девушка лет 10–15, став посредине, перепрыгивает через веревку, переменяя ноги. Это проделывает или на ходу или стоя на одном месте; причем между двумя женщинами, с одной стороны, и девицей, с другой, происходит короткий разговор, который я не записал в точности, но только узнал, что держащие за веревку первые спрашивают прыгающую: «Куда идете?» – «Туда-то». – «Зачем изволите идти?» – «Новый год справлять» и т. д.
8 февраля, за неимением у этой луны второго числа, сегодняшний день считают уже третьим. У тибетцев, как известно, счет времени по лунным месяцам. Астрологи, заготовляя заранее календарь на известный год, каким-то образом определяют неблагоприятное совпадение чисел с днями недели (7 дней). Этого не должно допускать, и такое число выключается. Например, вчера было первое число, сегодня третье, потому что второго числа не должно быть в этом месяце. Но если такое выключение причиняет неправильность в фазисах луны, то какое-нибудь число удваивается. Например, может случиться два 21-х числа и т. п.
Сегодня день приезда в Лхасу духовенства из Сэ-нбра-гэ-сума, главным образом администрации, для предстоящего собрания духовенства, для так называемого Лхаса монлам или монлам чэнмо, т. е. «лхасских благопожеланий», или «великих благопожеланий». Администрация эта состоит из двух цокчэнских шамо Брайбунского монастыря, из двух их помощников (шабдэгма), одного шин-нера (буквально – «заведующий дровами», но собственно – хозяйственной частью), подчиненных ему 21 гэика, из которых четверо держат на плечах по железному жезлу, четырех старших администраторов и нескольких светских прислужников (табьёков). Все они приезжают на разукрашенных лошадях в самых лучших своих нарядах и по пути в Лхасу заезжают на Поталу для поклонения далай-ламе. Только табьёки идут пешими; некоторые из них ведут под уздцы лошадей двух шамо и двух их помощников, а остальные, держа в руках длинные прутья, идут спереди и сзади и громко кричат: «Па-чжюг-чжи» («Отстраняйся!», или «Беги прочь!»).
Городские жители со страхом встречают прибытие сих полновластных временных правителей города, вычистив улицы, по которым они должны шествовать. Эти правители управляют Лхасой в течение 20 дней в первой луне, вполне полновластно и с некоторыми ограничениями в течение 11 дней в последней трети 2-й луны. Объехав квартал Чжу посолонь, они слезают с лошадей у вторых западных ворот храма Чжу и после поклонения Чжу размещаются по своим квартирам, отводимым во втором и нижнем этажах домов второго двора этого же храма. Все это происходило часа в 3 пополудни.
Незадолго до заката солнца по улицам раздаются те же крики, что и при въезде администрации. На этот раз все вышеназванные лица, за исключением двух шамо, уже пешими выходят из дома, где квартируют и идут по тому же «солнцекругу», причем шабдэгма имеют в руках четырехгранные, железные, с позолоченной резьбой жезлы шин-нер – толстую палку длиной около двух саженей, совершенно освобожденную от коры, а гэики – палки немного менее сажени длиною, очищенные от коры наполовину. Эти палки бывают сырые, только что вырубленные из садов по реке Уй. Толщина и длина их находятся, как мне передавали, в зависимости от того, который год служит гэик, обладатель ее, – гэики, более старшие по службе, имеют менее толстые, но более длинные палки, а новички – самые короткие, но толстые.
Впрочем, некоторую роль играет удальство гэика, т. е. тот, кто хочет доказать свою физическую силу, берет палку потяжелее. Табьёки имеют те же длинные хворостины, какие имели при вступлении в город. Вся эта процессия проходит до площади перед судилищем города, называемым нанцза-(д)шяг. Здесь гэики и табьёки окружают площадь, которая уже вычищена от мусора и разукрашена кругами из сухой извести. На середину выступают два шабдэгма и шин-нер. Народ окружает площадь и удерживается лишь угрозами и действиями вышеназванных лиц.
Первым выступает старший шабдэгма и, обращаясь к поставленным перед крыльцом судилища писцам и прислужникам нанцза-(д-шяга, стоящим изогнувшись в пояс, говорит в грозных выражениях так называемый цокдам, т. е. «слово перед собранием», или «наставление собранию», состоящее в изложении происхождения и правил большого монлама. В конце он говорит, как должны вести себя жители города во время монлама.
По окончании его речи говорит второй шабдэгма, речь которого более касается наказаний, которые ждут нарушителей правил. Тот и другой при речи имеют на голове свои желтые монашеские шапки, называемые шасэр, и после каждой паузы стучат концом своего тяжеловесного жезла о землю. Речи произносят, расхаживая взад и вперед очень важной походкой, и при произнесении сильных выражений топают с силой ногами. В словах своих они ничуть не скрывают, что достаточно малейшего повода, чтобы безжалостно и беспощадно разорить каждого нарушителя установленных правил.
После окончания речей процессия тем же порядком двигается далее, и на северо-восточном углу квартала ее ожидает прислужник от лхасского чойчжона, вышеупомянутого Карма-шяр. Он становится также в положении поясного поклона. Тут говорит речь только старший шабдэгма. Суть речи состоит в том, что теперь настало время выступления Лхасы под покровительством Найчун-чойчжона, а потому Карма-шяр не должен ни давать предсказаний, ни проявлять каких-либо действий в соперничество Найчуну.
Затем процессия движется к трем общественным колодцам, расположенным в различных частях города, здесь также говорят цокдам, чтобы они давали духовенству большого монлама хорошую и обильную воду. В противном случае угрожают совершенно засыпать ослушавшиеся колодцы. Значение этой церемонии зиждется, понятно, на вере, что каждый колодец имеет своего хозяина-дракона.
Обойдя с такими наставлениями почти весь город, процессия возвращается домой. Так начинается время лхасского монлама.
Сегодня же, как передавали мне, происходило спускание трех цзанцев по веревке с верхушки Поталаского дворца. Для этой ежегодной церемонии с юго-восточного угла Красного дворца натягивается веревка к каменному столбу-тумбе на земле перед дворцом. Эти три акробата надевают кожаные передники и рукавицы и скатываются сверху вниз по веревке на животе. Проделавший это освобождается, говорят, на один год, от податей.
9 февраля. Сегодня первый день монлама. Происходит занимание мест монахами. Рассаживает их администрация каждого дацана. Главные места в двух больших дворах Чжу занимают монахи монастыря Брайбуна. У центральной колонны навеса северной стороны садится так называемый цокчэн-умцзад (главный уставщик) монастыря Брайбуна, обратившись лицом на юг. От него на юг идет главный ряд, состоящий, в свою очередь, из четырех рядов, обращенных по два на запад и восток. Ближе к умцзаду, в крайних рядах, садятся чтецы, из которых главные, именуемые кадайба, являются как бы помощниками умцзада. Они первые подхватывают начатую умцзадом молитву и читают установленным тоном до конца. Остальные из многотысячного духовенства участвуют лишь незначительным числом желающих, начиная и прекращая чтение совершенно произвольно. Далее садятся перерожденцы, приобретшие звание дацанского чоймцзада, а за ними – имеющие духовные степени лхарамбы, сограмбы, дорамбы, габчжу, т. е. так называемые «гэбшей», о которых речь будет ниже.
Высшие перерожденцы, имеющие звание цокчэн-чоймцзад, садятся рядом и выше умцзада. Весь двор занимается такими четверными рядами, между коими оставляется узкий проход для надзирателей и лиц, раздающих чай и кашу. Точно так же занимается и рядом находящийся южный двор, где имеется свой умцзад. Монахи из Сэра и Галдана занимают места под навесом перед самым храмом Чжу и в круговом дворе его. Не поместившиеся во дворах рассаживаются на втором этаже или, вернее, на крышах навеса. Сюда, понятно, идут маленькие послушники, так как здесь слабее надзор и потому более свободы для детских шалостей. При занимании мест строго соблюдается порядок старшинства поступления в известный факультет. Занявшие не подобающее себе место наказываются плетями или дубинами гэиков, а иногда и железными жезлами высших распорядителей. Вообще, должно сказать, что при исполнении всех распоряжений приходится в значительной мере прибегать к помощи дубин, жезлов и длинных прутьев.
Когда все монахи, числом около 20 тысяч, займут свои места во дворах Чжу, в главный двор являются все распорядители, и идут оба шамо по обе стороны центрального ряда, старший на восточной стороне, следующие два прохода занимают двое шабдэгма, гэики идут по разным рядам. Затем все, за исключением двух шамо и состоящих при шамо двух гэиков, расходятся по другим дворам. После краткого доклада собранию старший шамо читает так называемый чжаик большого монлама или, иначе, законоположение, составленное пятым далай-ламой. Чжаик написан на китайском желтом атласе и представляет сверток, бережно хранимый в двух шелковых платках. Сверток этот приносит гэик на своем плече и, ставши перед шамо, начинает развертывать при помощи другого. Развернувши, один конец подают шамо. Тот начинает читать сначала речитативом, но затем переходит уже в беглую декламацию.
По окончании чтения чжаик свертывается по-прежнему и уносится, а шамо, надевши свою шапку и взяв в руку жезл, начинает говорить цокдам, т. е. правила, какие должны соблюдаться при монламе. Излагает их, ходя взад и вперед по главному проходу, иногда останавливаясь и обращая свои взоры в какую-нибудь сторону. Собрание хранит глубокое молчание. Между прочим, он сказал: «Я не побоюсь человека высокопоставленного, я не обижу человека ничтожного». По окончании им речи говорил речь и второй шамо, но гораздо короче. Он угрожал, между прочим, тем, что так как он очень любит деньги, то карманам нарушивших установленные законы, не будет никакой пощады. Речи эти, произносимые из года в год, имеют свою установленную приблизительную программу, и изменения делаются лишь в стилистическом отношении, в зависимости от ораторского таланта и индивидуальных способностей каждого шамо.
Начало происхождения «большого» монлама относят ко времени реформатора Цзонхавы. В биографиях последнего говорится, что в 1409 г. Цзонхава, сделавши для статуй Чжу вышеуказанные украшения, установил чтение монлама. Говорят, что с этого времени вошло в обыкновение чтение монлама, но, по-видимому, окончательное установление его относится ко времени пятого далай-ламы, современника маньчжурского императора Кан-си, который, как говорят, утвердил эти правила.
Лишь только входят шамо, за ними идут гуськом разливальщики чая с медными посеребренными или с чисто серебряными кувшинами. Кувшины обшиты или обернуты кожей или тряпками полотна, которые довольно грязны, и остается только удивляться совмещению грязи с роскошью, но это свойственно народам Дальнего Востока. Разливальщиками служат простолюдины, прибывшие, как передавали, из Цзана по долгу натуральной повинности. Между ними есть и пожилые, но большинство люди молодые и очень немного мальчиков от 12 приблизительно лет. Распоряжаются ими во время разливания несколько духовных из дацана Дэян в Брайбуне. Распорядители эти набираются из молодых людей, отличающихся более физическим развитием, чем умственным. Это особый контингент монастырской братии, известный под названием добда или добдага («силачи»), о коих уже упомянуто выше.
После окончания богослужения монахи расходятся по домам. Квартируют они в разных частях города, обыкновенно очень тесно, потому что при старании их поместиться по возможности ближе к центру бывает недостаток квартир, да к тому же и хозяева квартир стараются поместить возможно большее число, потому что с каждого лица взимается плата, установленная таксой, а именно 1,3 монеты, или около 27 копеек на наши деньги, за время монлама – т. е. за 1 месяц. Большой монлам, как уже сказано, длится 20 дней и малый – 10 дней.
10 февраля. Сегодня перед самым закатом солнца происходил обход двух шабдэгма. Они шли в своих шапках с обычными жезлами в руках. Их сопровождали по несколько гэиков и табьёков. Свита усердно выкрикивает знакомые нам слова «па-чжюг-чжи». Во время таких обходов домовладельцы должны держать в чистоте прилежащие улицы, а духовные вовсе не должны показываться обходящим на глаза. Говорят, что эти обходы стали происходить после упомянутых выше беспорядков с непальцами, учиненных духовными во время монлама и как раз в сумерки. Попавшихся по неосторожности или тут же наказывают розгами и отпускают, или сажают в кутузку, освобождение из которой уже обусловливается уплатою известного денежного штрафа.
20 февраля. Сегодня 15-е число первой луны. Утром происходило так называемое «круговращение Майтреи» (по-тибетски – чжямкор), т. е. обнесение кругом квартала Чжу изображения Майтреи – будды будущего мира. Церемония эта, весьма пышно обставляемая в монгольских и бурятских монастырях, проходит здесь совершенно незаметно, при весьма небольшом стечении народа. Этот будда будущего едва ли не больше почитаем настоящего Шакьямуни. Замечательна вера в будущее. Даже будды не вечны и должны уступить свои места другим. Нет надобности заботиться о настоящем, а можно заботиться только о будущем! Нужно примириться со всеми невзгодами в настоящее время, потому что они не вечны, а заботиться исключительно о лучшем будущем!
Вечером были устроены обычные в ламаистских монастырях «жертвоприношения 15-го (числа)» (чжун-гай-чодба). По улицам квартала Чжу, на высоких столбах и подставках, выставлены различных размеров щиты (натянутая на рамы яковая кожа) с барельефными фигурами и узорами из масла, окрашенного в разные цвета. Эти фигуры налепляются на щиты. Более крупные фигуры делаются вчерне из дерева, затем облицовываются маслом. Перед ними поставлены столы, на коих горят светильники. Все щиты обращены тылом к Чжу, т. е. поставлены по правую руку от идущего посолонь. Столбы, по-видимому, не закапываются в землю, а укрепляются кучами камней. Особенно большими размерами щитов и изобилием и художественностью фигур отличается чодба далай-ламских казначеев, устроенная у главных ворот Чжу и двух дацанов Чжюд, помещенных на восточной улице квартала. Таких чодба чрезвычайно много, и каждая устроена на средства отдельных монастырских общин.
Фигуры лепятся особыми мастерами-монахами за особую плату, которая соразмеряется с искусством мастеров. Когда с наступлением ночи зажигаются светильники, выходы прилежащих улиц окарауливаются тибетскими солдатами, для того чтобы не допускать народ, пока не осмотрит чодба административная власть, в числе коей первое место принадлежит, понятно, далай-ламе и маньчжурскому амбаню. Далай-лама осматривает чодба только тогда, когда он специально поселяется в Лхасе (в самом городе). В нынешнем году его нет в городе, поэтому осматривали чодба маньчжурский амбань и местные князья и перерожденцы.
После осмотра высокопоставленными лицами к чодба допускается простой народ, который, как упомянуто уже раньше, вообще очень падок на зрелища. Женщины и мужчины ходят толпами и, взяв друг друга за руки, с громким пением пляшут перед каждой группой чодба. Многие ходят с факелами. Это удовольствие продолжается до поздней ночи. Под конец, как передавали мне, выступают различные хулиганы, которые ловят одиноких женщин. В этом преступлении особенно попадаются природные китайцы, но еще в большей степени китайцы от местных матерей.
21 февраля. От вчерашних чодба уже ничего не осталось. За ночь успели их убрать. Камни сложены на боковых улицах в кубы. Они затем будут снесены благочестивыми монахами и простолюдинами на реку Уй и прибавлены к плотине, которая таким образом ежегодно надстраивается. Плотина эта или, вернее, обкладка правого берега камнем, как бы набережная, сделана там, где течение реки отклоняется к правому берегу. Ниже этого места набережной нет, небольшой участок ее есть только у Норбу-линха.
22 февраля. У набожных ламаистов в большом обычае поднесение пожертвований духовенству лхасского монлама или деньгами, или, так сказать, натурой. Последняя состоит из поднесения духовенству похлебки (тугпа) и чая. Самым дешевым, а потому более доступным и обычным, является подношение чая (по-тибетски – ман-чжя, т. е. «чай для множества»), которое обходится приблизительно в 120 санов местных монет (160 рублей на наши деньги). Я со своей стороны, следуя, во-первых, обычаю среднесостоятельных богомольцев, каковым я был известен среди духовенства, а во-вторых, по своему взгляду, почему же не выразить свое сочувствие просвещению народа, которое у ламаистов выражается пока лишь односторонним изучением богословия и отчасти мистицизма, внес еще осенью 20 санов монет, 2 лошади и лошака в казну лабранского чянцзада, откуда мне выдали квитанцию в приеме стоимости одной ман-чжя большого монлама. Лабран-чянцзад называются казначеи или правители имущества дворца далай-ламы при Чжово-хане.
Вчера, через гэргана Брайбунского камцана Самло, объявили мне, что чай моего имени будет подноситься сегодня утром и чтобы я к тому времени был совершенно готов и приготовил бы три пачки курительных свечей, а также представил бы свой доклад, т. е. текст тех пожеланий, к исполнению коих я стремлюсь подношением ман-чжя духовенству. Текст этот я заготовил при помощи ламы-тибетца, который составил его по шаблону подобных речей.
Придя ранним утром с тремя пачками курительных свечей, опоясанных красной бумажной лентой, так как чай подносился за здравствующих (за умерших – белые ленточки), я встретил здесь гэргана Самлоского камцана, который был одет в свое лучшее платье. Когда младший шамо, заведующий специально разливанием чая, привел вереницы разливальщиков и поднятием своего жезла на плечо (вроде военного «ружья вольно!») дал знак начать разливание, разливальщики поспешно стали наливать чай в подставляемые монахами деревянные чашки.
Когда они кончили разливание в средних рядах, старший шамо, став в нижнем конце главного прохода, снял свою шапку и мантию и сложил на сэнь – по-тибетски (орхимчжи – по-монгольски), услужливо растянутый двумя монахами, сидевшими друг против друга по обеим сторонам прохода, сделал три молитвенных поклона, приставляя лоб к своей поднятой шапке, так как делать поклоны ниже не позволяют, во-первых, его ужасно тяжелый костюм, а во-вторых, и грязь пола, облитого чаем с маслом, к которому неудобно прикасаться не только нарядным костюмом, но даже самой оборванной юбкой монаха-пролетария. После этого он снова надел свою мантию и, держа шапку в руке, начал читать тексты докладов тех лиц, которые в данный период подносят чай.
В это время меня с камцанским гэрганом вел на конец главного прохода лама – депутат от лабранских чянцзадов. Он взял в руку одну пачку курительных свечей, вторую дал камцанскому гэргану, а третью – мне, и всем нам трем зажгли их. Лишь только кончилось чтение старшего шамо, мы один за другим в вышеназванном порядке стали проходить между рядами духовных. Когда дошли до дверей Чжу, то вошли в храм и поклонились статуе Чжу-ринбочэ. При самом входе в комнату Чжово свечи отбираются и выдаются при выходе. Затем мы обошли один раз внутренний храм посолонь; этим завершилась церемония, и у нас отобрали остатки пачек свечей. Остатки этих свечей продаются по две монеты (новая целая пачка стоит 1 монету) желающим благочестивым людям. Они покупаются с верой в особенную их целительную силу, как служивших такому множеству духовенства. С той же верой в благотворную силу покупаются и палки гэиков по 20 коп.
Депутату за сопровождение полагается уплачивать две монеты, камцанскому гэргану – 5 монет; но, кроме этих узаконенных расходов со стороны жертвователя, к нему пристают находящиеся вблизи гэики, прося «на водку» или «на чай», что в большом обычае в Центральном Тибете, даже в гораздо большем, чем в нашем отечестве. Скупящийся на несколько монет должен как можно скорее покинуть храм. Когда я пришел в квартиру, то явились поздравители из служителей камцана, которых тоже неудобно отпускать с пустыми руками и нужно дать хотя бы по одной монете.
26 февраля приехал из нашего отечества Агван Доржиев[57] вместе со своими спутниками бурятами и ставропольским калмыком Овше Норзуновым, который взялся сделать снимки для Императорского Русского Географического общества. Он снабжен таким же аппаратом, каким я уже с осени делаю снимки. Чтобы не возбуждать разных толков, я скрываю аппарат, как и вообще от всех местных жителей, не исключая и бурят, моих земляков, и монголов различных аймаков. Непосредственно мне не пришло никаких вестей с родины, но от вновь приехавших я узнал подробности боксерского движения[58], охватившего тогда Северо-Восточный Китай, о чем очень смутные слухи уже раньше доходили из китайских и монгольских источников.
1 марта. Сегодня, 24-го числа первой луны, происходило обычное сжигание двух дугчжуба («шестидесятников»), т. е. двух больших соров, так как дугчжуба – тот же сор. Дугчжуба состоит из деревянного столбика, прикрепленного к квадратной доске, с четырех углов которого к верхушке столба идут картонные полосы красноватого цвета, на полосах этих узорчатые вырезки, очень красивые, долженствующие изображать огненные языки. На верхушке столбика прикрепляется сделанный из теста белый череп. В промежутках между полосами – еще бумажные украшения. «Шестидесятником» он называется потому, что служит в течение целого года из 60-летнего периода предотвратителем разных несчастий и бедствий, насылаемых нечистыми духами, врагами людей и религии.
В чтении молитв и церемонии сжигания участвуют два дацана: брайбунский Агпа и потала-ский Намчжял. На церемонию сжигания явился галданский сэрти, или наместник Цзонхавы, о котором будет сказано подробно в XI главе. Он шел впереди всех в предшествии старшего шамо, который нес зажженную пачку курительных свечей. Сзади него тянулись другие знатные люди. Немного поодаль по обе стороны шли один за другим монахи двух вышеназванных дацанов в лучших парадных костюмах, держа в руках: идущие впереди – медные тарелки (ручные музыкальные инструменты), а идущие позади – барабаны с деревянными рукоятками. Еще далее, уже по краям улиц, шли пешие солдаты с фитильными ружьями, из коих они попеременно стреляли холостыми зарядами в сторону.
Дугчжубы выносятся и сжигаются на площади перед домом маньчжурского амбаня в двух кострах, устроенных из сена наподобие конуса, причем остовом служат длинные шесты из сырого дерева. Лишь только бросят дугчжубы в костер, беднота бросается к кострам, желая достать что-нибудь из узорчатых украшений, а еще более – недогоревшие шесты. Процессия после сего возвращается тем же порядком. Вслед за этим происходит пальба из пушки в гору, находящуюся против Поталы, на той стороне реки Уй. Медная пушка вкапывается в землю, на поле перед Поталой. Я не подходил к самой пушке, но наблюдал стрельбу с некоторого расстояния. Сначала делают три выстрела холостыми зарядами, а затем четыре – ядрами.
Существует поверье, что гора эта, на которой находится могила злого хана Лан-дармы, известного гонителя буддизма в Тибете, понемногу приближается к реке и постепенно теснит воду к правому берегу, чтобы в конце концов совершенно загородить ее русло и, направив ее на город, потопить Лхасу с ее святынями. Для отвращения этого бедствия ежегодно обстреливают ее в этот день, после чего она отодвигается назад на прежнее место. Те люди, которые приносят обратно ядра, освобождаются на год от податей; поэтому там ожидают постоянно человека четыре, чтобы добыть упавшее ядро. Прицелом служит черная палатка, поставленная ближе к вершине горы. Мне передавали, что в этой палатке привязывают козла, но за достоверность этого не ручаюсь, так как не удалось добыть более точных сведений. Ядра, поднимая много пыли, падали не особенно близко от палатки, хотя стрелявшие, по-видимому, старались прицелиться в нее.
2 марта. Сегодня – 25-го числа первой луны – последний день большого монлама. После утреннего собрания духовных богослужения прекращаются, и начинаются игры уже светских людей. Игры происходят на площади, на южной стороне второго двора Чжу. Знатные князья садятся на балконе второго этажа этого дома-двора. Народ стоит толпой на площади и сидит на крышах прилежащих домов. Уличный порядок поддерживается при помощи дубин гэиков и палок табьёков. Игры состоят в борьбе пары почти голых людей, вымазавших все свое тело бобовым или иным растительным маслом, затем в беге пеших людей и свободных лошадей. Те и другие «бегунцы» отводятся на поле, к западу от Поталы, на большую дорогу, идущую в Брайбун, и оттуда пускаются бежать. Свободные лошади бегут впереди, погоняемые пешими, а также и конными людьми.
Впрочем, как говорили мне, некоторые лошади предпочитают этому славному состязанию насущный хлеб и, уходя в сторону, щиплют траву. Я, стоя на площади, видел только двух лошадей, пригнанных одним верховым погонщиком. Они, ободряемые дикими криками толпы, действительно, очень стремительно бежали по улице. Затем прибежали и пешие, разодетые в пестрые костюмы. По-видимому, ни те, ни другие не получают значительных поощрений своему искусству. Народ скоро после этого разошелся. Немного спустя уехали и брайбунские шамо, положительно державшие город в терроре 20 дней. По дороге они заезжают на Поталу, к далай-ламе, который дает им (кладет на шею) хадаки, благодаря за труды, понесенные во время большого монлама.
Если подвести вкратце итог обычному ходу собрания монлама, то день его начинается ранним утром, при начале рассвета. В это время двое табьёков выходят на два пункта в северной и восточной частях города и громким криком призывают духовных на собрание. Когда духовные займут свои места, начинается чтение молитв и почти одновременно с этим разливание чая по две чашки, а затем одной чашки тугпа, или похлебки. Чай бывает черный, но забеленный маслом, которое, впрочем, попадает в изобилии только в чашки сидящих в центральных рядах, так как для них назначаются первые чайники из заготовленного чая. Занимающие такие места монахи имеют, кроме своих больших чашек, еще особые закрывающиеся сосуды для собирания масла посредством сдувания с поверхности чая.
За все время монлама сидящие в центральных рядах собирают масла почти на 6–7 рублей на наши деньги. Зато сидящим в последних рядах приходится довольствоваться только теплой водой, потому что по мере убывания чая в котлах к нему беспрерывно добавляется холодная вода, чтобы напоить все собрание. Тугпа приготовляется из разваренного риса, с небольшим количеством мяса. Опять-таки, и эта тугпа для «центральных» является более или менее густой рисовой кашей, для следующих постепенно обращается в жидкую похлебку, а самым последним нередко достается мутно-беловатая вода (рисовый отвар) с одним или двумя десятками зерен. После этого утреннего чая при выходе раздают обыкновенно по 1/6 местной монеты на каждого (3 1/3 коп.).
Немного спустя после этого происходит собрание на площади, называемой сун-чой-ра, находящейся на южной стороне квартала Чжу, у имеющегося там далай-ламского седалища из каменных плит, скрепленных глиной. Седалище квадратной формы со ступенями. Здесь, впереди сего трона, приготовляется престол для галданского наместника, а кругом, на ступенях этого возвышения, садятся ученые ламы, которым предстоит держать диспут для получения ученой степени лхарамба, значение коей будет выяснено в X главе настоящего труда. Предлагать им вопросы может всякий, присутствующий на диспуте. Я замечал, что в таких желающих не бывает недостатка: выступают по большей части молодые монахи, отчасти желающие выяснить интересующий их вопрос и услышать мнение почтенных ученых, отчасти и пылкие молодые люди, желающие блеснуть перед собранием своей эрудицией или просто ораторским искусством, а иногда и просто игрой слов. Но многие принимают участие в диспутах из убеждения, что посредством участия в религиозном собеседовании настоящей жизни они удостоятся в будущей неразлучения с учением «Победоносного», т. е. Будды.
Далее, немного ранее полудня, происходит собрание, называемое гунциг-ман-чжя («полуденный чай»), с двумя чашками чая и похлебкой.
После полудня происходит собственно монлам, т. е. чтение благопожеланий перед дверями храма Чжу. Для этого трон галданского сэрти устанавливается в некотором отдалении перед дверями храма Чжу, лицевой стороной к этим дверям. По обе стороны от трона садятся хамбы Сэ-нбра-гэ-сума. Главный и второстепенные умцзады садятся против сэрти у стены храма, обратившись лицом к сэрти. Собрание это ограничивается чтением и священнодействиями, без раздачи чая. На него собирается очень мало духовенства.
Последнее собрание происходит уже под вечер и называется гон-чжя, т. е. «вечерний чай». Во время этого собрания монахам подают по 3 чашки чая.
Если полагается раздача монет, то она происходит после гунциг-ман-чжя и гон-чжя, поэтому эти собрания бывают самыми многолюдными. Ввиду разноречивых указаний числа духовных Лхасского монлама, показываемого в некоторых источниках в 70 тысяч, а в некоторых 50 тысяч, я однажды стал считать духовных у главного выхода во время раздачи монет.
Я насчитал около 2250 человек. Таких выходов 7, следовательно, всего вышло никак не более 20 тысяч человек.
Интересно бывает смотреть выход многочисленного духовенства в дни раздачи монет. В главные ворота выходят сначала весьма чинно хамбы дацанов, высшие перерожденцы и ученые ламы, но после них начинается выход обыкновенных монахов, что сопровождается страшной давкой. Надсмотрщиками над порядком являются шамо и гэики, усердно пускающие в дело палки (шамо оставляют тяжелые жезлы и берут в руки более легкие палки). Жутко бывает иногда видеть, как гэик изо всей силы ударяет монаха своей дубиной, от такого удара иногда падают.
По временам кажется, что гэик бьет ради своего удовольствия, так как, начав бить одного, ударяет всех его соседей поголовно, не разбирая ни правых, ни виноватых. Если гэик при исполнении своих обязанностей убьет монаха, то за брайбунского монаха штрафуется 20 копейками, а за монаха других монастырей 10 копейками, причем штраф увеличен для первых из тех видов, что у гэиков, назначаемых исключительно из Брайбуна, может проявляться месть к своим знакомым, которых больше всего, конечно, бывает в своем монастыре. Мне передавали старожилы, что такое убийство бывает очень редко, и последний на памяти случай относили за 4–5 лет тому назад (1896–1897 гг.), когда поплатился жизнью один монах из Сэра, затеявший драку с гэиком в сообществе с другими товарищами. Гэик был поставлен в критическое положение и, обнажив постоянно носимую за поясом саблю, убил нападавшего.
Не менее интересно происходящее вне ворот. Тут на скамейке у одного столба стоит назначаемый от лабранских чянцзадов чиновник (светский или духовный). Против него, ближе к воротам, на полу стоит раздавальщик монет, а рядом с ним – служитель, держащий мешок с монетами, на другой же стороне – счетчик. Монахи выходят один за другим и, подставляя руку, получают монету или ее часть. В последнем случае отсчитывают известное число монахов, смотря по тому, какая часть монеты выдается в данном случае, и монета дается последнему, который и делит ее. Гэики все время желают разными неправдами и попрошайничеством получить монеты. Способов этих, как я наблюдал, три: 1) встать в шеренгу между простыми монахами и, спрятав свою дубину на другой стороне тесного ряда, протянуть руку; 2) провести, пользуясь своим правом входа и выхода, под своим покрывалом маленьких послушников и поставить их снова в ряд и 3) уже самый некрасивый, это – вырывание монеты у оплошавшего монаха после того, как казначей положит монету ему в руку, или же вырывание у самого казначея. Выдающие строго следят за проделками монахов, стараясь не поддаваться на их хитрости.
Я не говорю уже о том, как гэики выпрашивают подачки у казначеев, так как такое выпрашивание практикуется не только ими, но и полновластными шамо.
После гон-чжя начинаются снова диспуты лхарамб уже в главном дворе перед храмом Чжу и продолжаются до вечера.
Этим кончается день монлама.
Раздача духовенству монет, кроме утренней, происходит по мере поступления пожертвований. Обыкновенных раздач бывает четыре: одна монета от далай-ламы, одна монета от банчэн-эрдэни, 15-го числа – одна монета из процентов неприкосновенного капитала одного камского купца и 24-го – одна монета от центрального правления Тибета – дэбашуна. Частный жертвователь должен внести, при желании раздачи по одной монете, 80 ямбов, или 26 666 2/3 местных монет (около 5333 р. 33 к.). Сумма пожертвований должна быть внесена в казну лабранских чянцзанов, которые и берут на себя дальнейшие хлопоты, конечно, не без выгоды для себя, так как установленная сумма взноса выше действительно раздаваемого количества. Расходы же на чай и кашу едва ли превышают 30–35 тысяч рублей на наши деньги.
Всех денег, получаемых в обыкновенное время одним монахом во время всего монлама, бывает от 15 до 20 местных монет, т. е. от трех до четырех рублей.
В дни, когда нет раздачи денег, к воротам при выходе подходят те же лица и счетчики, и вместо денег перед каждым монахом помахивают хадаком, привязанным к свертку бумаги (или палке?). Этим действием как бы каждому духовному подносится хадак, так как нельзя отпускать духовных без вознаграждения. К этому добавляют, что прежде, когда у людей было больше благочестия, жертвуемых денег хватало на каждый выход. Но теперь времена испортились!
3 марта. Незадолго до окончания монлама в Лхасу сзывается из своих домов по деревням гарнизон тибетского войска. Солдаты прибывают из деревень и размещаются по частным квартирам. Гарнизон этот состоит из пехоты и конницы. Обучение его производится за городом, на северной стороне его, но в городе он в полном своем составе участвует на церемонии сжигания дугчжубы, которая на этот раз происходила, как сказано выше, 24-го числа этой луны. Впереди пехоты ехали военачальники (дабонь), в конце каждой сотни на лошаках какие-то лица, по-видимому, нечто вроде знаменосцев. Вооружение пехоты: сабли, луки и щиты; на теле – чешуйчатый панцирь, на голове – шлем. Щиты, по-видимому, из плетеного тростника (мелкого бамбука). Впрочем, в вооружении нет единства: некоторые имеют пики, некоторые – луки, а некоторые – фитильные ружья.
При вступлении в город и также при шествии церемонии пехотинцы то и дело палят холостыми зарядами. Конные – также в шлемах и панцирях, в руках у них пики, на спине фитильные ружья с рожками (ножками), на бедрах луки и колчаны с четырьмя стрелами. Военачальники ехали на прекрасных лошадях, в парчовых халатах, в собольих, на маньчжурский образец, шапках с шариками на макушках, вооружение их – лук и колчан с пятью стрелами; на плечах – коротенькая соболья накидка, вроде пелерины. По городу конница шла двумя рядами, гуськом, на некотором расстоянии друг от друга. Между этими рядами ехали военачальники со свитой. Лошади простых воинов плоховаты и малорослы, так как все местной породы.
Сегодня за городом на участке, принадлежащем князю Лха-лу-гуну, подле его усадьбы, происходил своего рода осмотр «конницы». Я не застал начала, но прибыл к средине его. По одному краю площади была вырыта прямая неглубокая канавка, на протяжении около 100 саженей в направлении с юго-запада на северо-восток. На восточной стороне растянута большая палатка, под которой сидели военачальники. Площадь была свободною, а края ее и ближайшие поляны были заняты палатками более богатых зрителей, между коими располагались там и сям кружки семейств и знакомых. Расставлены были и столы торговцев булками, лепешками, вином и вообще съестным. Тибетцы, не любящие упускать случая загородных гуляний с выпивкой и игрой в кости, прибыли сюда в большом числе.
Подле вышеупомянутой канавки, саженях в 50 друг от друга, были повешены мишени, состоящие из мягкого круга около 0,5 аршина в диаметре. Выезжают всадники к юго-западному концу канавки по пяти человек, затем скачут по очереди, по одному. Всадник пускает лошадь в галоп.
Около первого круга он снимает из-за плеч ружье и стреляет по мишени холостым зарядом, затем, надев ружье, до следующего круга снимает лук, вынимает из колчана стрелу и пускает ее во вторую мишень. Это же самое проделывают и последующие. Несмотря на то что в мишени приходится стрелять почти в упор, многие промахиваются и стрелы вонзаются в землю на площади. Кроме этого, бывает много неудач: некоторые падают с лошади, некоторые не успевают проделать второй стрельбы, некоторые вместо того, чтобы надеть ружье, роняют его за спину, и т. п., но лошади всегда пробегают безошибочно по канаве, со свойственным тибетской породе смирением.
Когда кончается упражнение одной партии в пять человек, то она, спешившись, подходит к палатке военачальников и все получают в подарок по два хадака, что ценится на наши деньги в 12 копеек. После получения подарка они делают перед начальством нечто очень похожее на дамский реверанс и уходят, размахивая руками, к своим лошадям, сев на коих отъезжают, а на смену им выезжает следующая пятерка всадников.
Это длится до самого вечера, и мне не удалось дождаться конца, так как нужно было ехать домой в город.
Весь гарнизон, созванный в Лхасу, доходил до 500 человек, 3 сотни пехоты и 2 сотни конницы.
26 марта, а по местному 19-го числа второй луны, происходит второй съезд монахов Сэ-нбра-гэ-сума для чтения так называемого «малого» монлама или цог-чод-монлама. Первый, большой, монлам читается ради долгоденствия и благополучия маньчжурского императора, а малый – в тех же видах для далай-ламы. Разница между ними, во-первых, в числе дней чтения (первый длится 20 дней, а этот – 10 дней), во-вторых, на первый должны собираться все монахи без исключения, на второй же могут не являться те, кто внесет 1/3 монеты в Брайбуне и 2/3 в других монастырях – в пользу цокчэнских шамо. В остальном происходит почти буквально повторение большого монлама, но, в соответствии меньших размеров.
30 марта я впервые увидел того человека, который вскоре должен быть изгнан в виде человеческой жертвы за долгоденствие далай-ламы. Это – мирянин, довольно хорошо одетый. Говорят, что он служил писцом в канцелярии духовных дел (иг-цан) при далай-ламе. Он обходил лавки торговцев и собирал милостыню или, скорее, подать с торговцев. Каждый торговец должен дать 0,5 монеты или вещь этой стоимости. Помимо этих обязательных подачек к нему стекается немало и доброхотных даяний, так как верят, что он примет на себя и грехи подающего. Он ходит с пушистым черным яковым хвостом, который он имеет при себе и при церемонии изгнания. Сопровождает его прислужник, которому он передает получаемые вещи.
4 апреля, по местному 28-го числа второй луны, за неимением завтрашнего 29-го числа, происходила церемония изгнания вышеупомянутого человека лу-гон, т. е. «высший выкуп» или «выкуп за спасителя» (далай-ламу). Церемонию эту совершает духовенство монастыря Чжян-чуб-лина, основанного, как говорят, пятым далай-ламой и принадлежащего «старой секте» (ньин-ма), в сообществе с галданским наместником. Задолго до начала церемонии народ стоял непроницаемой толпой перед главными воротами Чжу, где происходит начало церемонии, и им же были заняты крыши соседних домов.
Я поднялся на крышу одного из домов, составляющих главный двор. Чтение курима, т. е. заклинаний, происходило внутри двора, и зрелище для публики открывается лишь с того момента, как за ворота выходят галданский сэрти в сопровождении духовных вышеназванного монастыря; сюда же выходит и лу-гон в одежде из белой козьей шкуры, надетой шерстью наружу. Половина лица у него вымазана белой краской, а другая половина – черной. Он держит свой неотлучный черный яковый хвост. На голове – род шлема. Здесь между галданским сэрти и лу-гоном происходит как бы спор, кому из них быть изгнанным.
Наконец, они соглашаются метать жребий посредством кубиков с очками. У галданского сэрти небольшой кубик со многими очками на каждой стороне, а у лу-гона большой, грубо сделанный, у которого на каждой из шести сторон по одному очку. Метание происходит трижды, так как лу-гон не соглашается уступить после первых неудач. После третьего раза лу-гон в досаде топчет кубик и обращается в бегство на западную или, точнее, юго-западную сторону. Ламы Чжян-чуб-лина в облачениях тарнистических церемоний совершают тут же мистическую пляску с соответствующими жестикуляциями. В это время выносят на одной подставке сор, а на другой изображение далай-ламы в фут вышиной в полном духовном облачении.
После окончания пляски начинается процессия вслед за лу-гоном. Впереди несут сор и изображение далай-ламы. За ним следуют ламы Чжян-чуб-лина в числе около 20 человек. В некотором отдалении сзади них духовенство Чжюд-мад со своим лама-умцзадом во главе выносит сор.
За ними идет галданский наместник. Вслед за наместником, вследствие отсутствия в настоящее время прорицателя Найчун-чойчжона, несли только полное его облачение и изображение чойчжона в сопровождении всей той свиты, какая полагается при жизни прорицателя, который умер от оспы, свирепствовавшей в Центральном Тибете в 1990 г. Впереди каждой из перечисленных групп шел один из высших членов администрации монлама. Так, перед ламами монастыря Чжян-чуб-лина шествовал младший шабдэгма, перед дацаном Чжюд – старший шабдэгма, перед наместником – старший шамо, перед Найчуном – младший шамо. Гэики и табьёки поддерживали порядок среди зрителей. Солдаты шли по краям улицы и часто стреляли холостыми зарядами из своих фитильных ружей.
Сжигание соров происходит перед домом амбаня.
Лу-гон, как говорили мне, добегает до реки Уй и там, переодевшись и вымывшись, садится на приготовленную лодку, на которой уплывает в монастырь Самьяй. Там он делает пожертвования духовным и заказывает молебен уже за свою жизнь, так как он, продав себя за искупление жизни далай-ламы от нечистых духов, понятно, этим самым подвергается опасности быть фактически взятым сими последними, т. е. умереть.
Церемония началась в половине первого и кончилась в три часа пополудни.
5 апреля, а по местному 30-го числа второй луны, происходило большое религиозное шествие, называемое сэр-прэн (по местному произношению – сэр-тан), т. е. «золотые четки». Четки эти составляются из 1000 молодых монахов, назначенных пропорционально численности духовенства главнейших монастырей. Получившие назначение монахи за время всего малого монлама садятся в центральных рядах, чтобы получить выгоду от вышеупомянутой продажи масла, извлекаемого из чая.
Но зачастую вся эта выручка уходит на наем напрокат хорошего парадного платья, которое бывает или у очень богатых лиц, или у лам, занимающих административные должности.
Все они утром сегодняшнего дня собираются во двор Чжу и здесь из кладовых казначейства, при поручительстве администраторов своих факультетов, получают разные вещи, которые они должны нести во время процессии.
Вещи эти суть различные символические предметы из разноцветной шелковой материи, как чжялцаны (победный знак – цилиндр из материи), зонты, род хоругви, трубы, раковины, барабаны, мандалы, маски разных небожителей, балдахины, изображения слонов и т. п.
По мере получения священных предметов всех постепенно ставят друг за другом по улице квартала Чжу. После окончания расстановки участников эта длинная вереница гуськом тянется вдоль улиц, которые к этому дню старательно выметаются и посыпаются белым и желтым песком в виде дорожек. Обошедши один раз квартал Чжу, процессия тянется через Ютогский мост в Потале. К ее приходу на лицевой стороне Поталы бывают сделаны необходимые приготовления, а именно: на стене растягивается громадное полотно с изображением будды Шакьямуни и белой Тары (по-тибетски – Долкар). У подножия его устраиваются седалища для высших светских сановников. Когда процессия подходит к этому месту, то выступают особые плясуны в масках и подобающем одеянии и совершают танцы, имеющие мистическое значение. Народ густой толпой размещается по утесам и крышам домов. Далай-лама, как говорят, смотрит на процессию из дворцового окна.
После этого процессия двигается далее и, пройдя под проходным субурганом, обходит вокруг Поталы. Во время этого прохождения провели большого живого слона, на спине которого было поставлено изображение кучи чиндамани (драгоценностей). По-видимому, слон не мог подделаться под тихое движение процессии и был проведен мимо идущих гуськом участников быстрым шагом, затем, вероятно, водворен в свой двор.
Далее процессия немного отдыхает на северо-восточной стороне Поталы и, обойдя храм Чжу-рамочэ, возвращается во двор Большого Чжу. Здесь сдают обратно взятые вещи, чем и оканчивается церемония. Процессия кончилась около двух часов, а началась она в 7 часов утра. Такая продолжительная процессия чрезвычайно утомляет ее участников, в особенности тех, коим приходится нести более тяжелые вещи. Из них достойны упоминания барабанщики. Они несут на спине громадные барабаны, имеющие диаметр около 1,5 аршина, и во все время процессии должны приплясывать и ударять в эти барабаны.
Начало этой церемонии приписывают известному пятому далай-ламе, который, как говорят, однажды видел сон, что тысяча красивых монахов в наилучших костюмах, с разными драгоценностями и священными предметами обходят Поталу. Он объяснил это внушением богов и затем осуществил сон наяву.
6 апреля – конец монлама. Духовенство и его администрация выехали из Лхасы. Только галданские монахи остаются в городе, так как во главе со своим цзонхавинским наместником поклоняются далай-ламе в его летнем дворце Норбу-линха.
10 апреля. В последние дни на базарных площадях и на боковых улицах появилось около десятка мужчин и женщин, по-видимому, низших степеней монашества, рассказывающих религиозные поэмы. Они натягивают на стене дома или забора рисованные изображения святых или будд. Между ними чаще всего встречаются изображения Падма-Самбавы, известного проповедника буддизма IX в., и знаменитого Миларайбы, поэта и подвижника XI в. Они помещаются посредине полотна в сравнительно больших размерах, а вокруг них изображаются разные сцены из их биографий. Перед этими картинами ставят жертвенные чашки с ячменем или рисом, а иногда и совершенно пустые. Рассказчик становится подле изображения с железной указкой и нараспев рассказывает подвиги святости или вообще биографические данные.
Тибетцы, как не раз я упоминал раньше, остаются верными своему любопытству, но в данном случае к нему присоединяется еще религиозное благоговение перед святыми, которых восхваляют рассказчики, и потому любят их послушать, причем многие приносят муку цзамба, ячмень (поджаренный), а более зажиточные – местные монеты. Все это кладется в жертвенные чашки перед изображениями и, понятно, поступает затем в пользу рассказчиков. Слушатели обыкновенно стоят, но более усердные просиживают перед рассказчиками целые часы, перебирая четки и вертя ручные молитвенные цилиндры.
С наступлением ночи или ненастной погоды рассказчики убирают эти изображения, складывают все в длинный, небольшой сундук и, положив его на спину, удаляются на квартиру.
Они бывают обыкновенно плохо одеты и суть, по-видимому, странствующие рассказчики, питающиеся доброхотными подаяниями. Мне говорили, что они периодически посещают различные города и местечки Центрального Тибета.
15 апреля. Сегодня я, проходя по городу, заметил у южных ворот второго двора Чжу очень представительного, порядочно одетого пожилого мужчину, сидевшего с большой колодой на шее. Колода эта представляла квадратную (5 5 четвертей) доску толщиною около 1,5 вершка, в средине которой сделана круглая дыра, через которую проходила шея преступника. Подле него сидела какая-то женщина, по-видимому, служанка, принесшая ему местное вино. Он держал в руке четки и читал «мани». Лицо его имело довольно грустное выражение, и он поминутно выпивал подаваемое ему вино. Необыкновенный вид преступника и необычность места его нахождения заинтересовали меня, и я, подойдя к нему, прочел обычную надпись, приклеиваемую на верхней стороне колоды. В этой надписи было сказано, что он за своевольные проступки по приговору четырех галонов должен пробыть в этой колоде 20 дней, затем должен быть наказан 200 плет и, наконец, надеть вечную колоду.
Из собранных мною дальнейших сведений выяснились следующие подробности. Он – из местности Пан-юл (Пэнбо), в молодости был беден и находился в услужении в одной богатой семье. Со временем он приобрел такую власть в доме, что сделался полным распорядителем имущества хозяев, из коих мужа уже не было в живых. Старший сын их, недовольный его своеволием, искал случая избавиться от него. Поводом к этому послужило, как говорят, то, что он после конфискации имущества и удушения дэмо-хутухты якобы высказал мнение, что далай-лама и галоны желали только воспользоваться большим богатством хутухты. Упомянутый сын донес об этом галонам, пошло расследование, следствием чего и явился настоящий приговор.
6 июня. Наступившая третьего дня пятая луна местного времяисчисления считается здесь месяцем спускания чойчжонов, т. е. в этой луне чойчжоны посвящают свою деятельность этому нашему миру, тогда как в другое время они могут быть заняты в других мирах. Поэтому центральное правительство, монастырские общины и частные лица имеют обыкновение обращаться к прорицателям с просьбой спустить их чойчжонов.
Следуя такому обычаю, и наша бурятская община монахов Брайбуна решила просить спустить чойчжона Гадона завтра, 7-го числа. Община обыкновенно соединяет это с устройством своего рода загородного гулянья, свободного от строгого надзора монастырской администрации. Старшины общины пригласили и меня прнять участие в этом соединении приятного с полезным. Я же, с одной стороны, заинтересованный случаем поближе видеть спускание одного из больших чойчжонов, с другой, желая провести некоторое время вне удушливой атмосферы города на чистом воздухе, отправился сегодня в сопровождении одного халхасца-монаха в резиденцию вышеназванного прорицателя.
Он живет в монастыре Гадон, который до господства «желтой секты» был одним из больших монастырей в окрестностях Лхасы. Этот монастырь находится в первой от устья левобережной пади долины Додлун, верстах в 17–18 от Лхасы, и расположен довольно высоко на склоне горы. Немного не доходя до него, указывают большую яму, глубиной около 6 саженей, а в диаметре около 3-х. Есть поверье, что она образовалась во время последней войны с непальцами, будто бы от заклинаний последних. Но тибетцы, отыскивая средства противодействия, поставили подле этой ямы субурган, который остановил дальнейшее образование провалов.
Когда я с моим спутником подошел к монастырю, то узнал, что нашим бурятам отведен дом, находящийся в саду прорицателя на западной стороне монастыря. Придя в этот дом, мы застали там уже почти всех бурятских лам. Расположившись в довольно обширном, по местным понятиям, доме, с отдельной кухней, монахи позволяли себе некоторые вольности, как игру в домино, борьбу между собою во дворе на зеленой траве, бега вперегонки по обширному саду и проч. Стол, более роскошный, чем в обыкновенное время, был устроен общий, на собранные в складчину деньги. Соблюдая полное равенство членов общины, был нанят особый повар-тибетец, тогда как все эти монахи в монастыре своем обходятся без прислуги.
Монастырь состоит из нескольких домиков, среди коих выделяется более солидное здание – дуган, где живет прорицатель и где происходит спускание чойчжона. Духовенство или, вернее, придворный штат прорицателя составляют около 25 человек. Большинство из них, равно как и сам прорицатель, могут быть женатыми. Поэтому здесь смесь светского и духовного населения, так что монастырь этот удобнее назвать тибетским селом.
7 июня. Сегодня около 9 часов утра происходило спускание чойчжона Гадона. Прорицатель-лама, на которого спускается чойчжон в настоящее время, занимает должность цзэдуна (чиновник духовного звания) центрального управления дэбашуна. Дар или, точнее, право прорицания здесь передается от отца к сыну, поэтому прорицатель бывает в молодости женатым. Настоящий прорицатель – человек уже пожилой, на вид ему около 50 лет, и имеет уже взрослого сына, принявшего также духовные обеты, но женившегося недавно на княжне Лха-лу-гун. Этот сын постоянно прислуживает отцу во время спускания чойчжона и должен наследовать должность прорицателя.
В назначенное время, когда все буряты собрались в дугане, явилось придворное духовенство и стало со своими духовыми музыкальными инструментами впереди нас. У задней стены была небольшая комната, совершенно открытая в залу, так что представляла своего рода эстраду. На этой эстраде было поставлено большое кресло, а немного позади него небольшой столик, на котором было сложено полное одеяние прорицателя.
Прорицатель явился из своих комнат в сопровождении двух человек, сына и еще другого ламы. Поджидавшие его два прислужника, в сообществе с вновь прибывшими, принялись одевать его. В конце концов прорицатель оказался одетым в парчовый с широкими рукавами халат с разными привесками, из коих можно упомянуть о круглом металлическом зеркале на груди, на котором изображен вызолоченный мистический знак «хри». На левом бедре – шашка в ножнах, на правом – колчан со стрелами. На голове – своеобразный шлем со многими флажками на палочках, воткнутых нижними концами в шлем. Верхние концы их украшены шариками из белого пуха грифов. Шлем этот очень тяжел, и потому его надевают на прорицателя уже перед самым приходом его в экстаз.
Затем прорицатель садится в кресло, обратившись лицом к публике, и ламы начинают читать призывные молитвы, сопровождаемые тихими звуками кларнетов. Один из прислужников усердно воскуряет благовонными травами вокруг прорицателя, который сидит первое время молча и неподвижно, с почти закрытыми глазами, как бы стараясь внушить себе вхождение в него духа-хранителя. Но лишь только мускулы начнут приходить в содрогание, прислужники надевают на его голову шлем и туго затягивают ленту, идущую от него, под подбородком. В правую руку дают меч, а в левую – лук.
Первыми начинают дрожать ноги, затем все выше и выше остальные части тела. Это происходит с такой постепенностью, что маленькие бубенцы (колокольчики), в изобилии привешенные к разным частям одеяния, начинают издавать звук, приводя слушателя в полную иллюзию приближения кого-то издали. В конце, когда все тело уже дрожит и лицо судорожно искажается, прорицатель, оставаясь на кресле, наклоняется вперед и проводит головой как бы полукруг от левой руки к правой так, что концы маленьких флагштоков почти касаются пола, а самые флажки тащатся по земле. Дойдя до конца полукруга, он моментально откидывает свою голову назад и смотрит вверх. Это проделывается три раза. Значение таких движений объясняют тем, что чойчжон до вопрошания поклонников о различных вещах обозревает своими очами три мира, находящиеся, по верованию ламаистов, внизу, и три мира, находящиеся вверху[59], в том числе и нашу землю.
После этого обозрения миров чойчжон является во всеоружии знания: он ясно видит видимых и невидимых врагов, видит судьбу каждого живого человека, а также участь покойников, он предвидит и будущее. Тогда двое служителей берут прорицателя под руки и подводят к краю эстрады, где ставят особое высокое кресло и стелют под ноги барсовую шкуру.
Грозный Гадон, царь премудрости (по-тибетски – Ёндань-чжялбо), стоит перед нами с сильно искаженным лицом, раскрыв рот и высунув язык. Из горла издается какой-то хриплый звук. В это время к нему по очереди начинают подходить поклонники, с обычными хадаками в руках. Хадаки отбирает стоящий рядом прислужник, а поклоняющийся прикладывается лбом к зеркалу, висящему на груди прорицателя. В это же время желающие из поклонников предлагают те или другие интересующие их вопросы. Прорицатель по выслушании дает тот или другой лаконический ответ, который тут же записывается одним из прислужников на доску, обсыпанную золой. Всем поклонникам, знатным лицам – сам, а второстепенным – прислужник, раздают благословенные шнурки, носимые на шее. Если же кто предлагает вопросы письменно, то текст читается теперь же, и краткий ответ записывается также на доске, откуда уже после переписывается в обработанном виде на лист самого перечня вопросов и возвращается вопрошателю с приложением печати чойчжона.
После того как не останется уже ни одного вопрошающего, прорицателю подают в чашке, сделанной из человеческого черепа, зерна ячменя, которые он благословляет легким плевком и бросает в толпу. Последняя жадно ловит их, подставляя подол платья или концы своих покрывал, если лицо духовное. По числу попавших зерен также определяют хорошие и дурные предзнаменования. Наконец, прорицатель тяжело падает в кресло, и в этот момент вселившийся дух как бы покидает прорицателя, с которого тотчас снимают облачение. Он обратился в простого человека и, сильно усталый, уводится своими приближенными в жилые комнаты. Мы же отправились на нашу временную квартиру.
Я поинтересовался узнать, сколько заплатили наши буряты за эту церемонию или, если хотите, за этот молебен. Оказалось, что уплатили 20 монет, т. е. около 4 рублей на наши деньги, но надо принять в расчет то обстоятельство, что мы пользовались квартирой, кухонной посудой и мебелью прорицателя в течение трех суток.
8 июня происходило спускание того же чойчжона для всего духовенства дацана Гоман монастыря Брайбуна. Для поклонения собрались почти все члены этой духовной общины: тут была вся администрация дацана со своим хамбо во главе, все знатные перерожденцы, старшим из коих является дацагский хутухта, имеющий право занимать «ханский престол» Центрального Тибета, и многочисленное простое духовенство, в числе которого были и наши бурятские ламы, проживавшие здесь уже третий день.
Спускание чойчжона происходило описанным вчера порядком, но к поклонению внутри дугана допускались лишь лица административные и высшие перерожденцы. К лицам поважнее прорицатель проявляет особую вежливость, доходящую даже до заискивания перед ними. Так, перед хамбо он делал значительный поклон вперед, а дацагского хутухту он нежно охватил за шею и что-то шептал ему на ухо. Такое обстоятельство нисколько не поражает ламаиста, так как он знает, что чойчжон – хранитель учения – должен относиться с почтением к его «держателям» или, иначе, к тем, кто олицетворяет это учение. После окончания поклонения важных лиц прорицатель выходит на террасу перед дуганом, куда допускаются ламы и администраторы более низких степеней. Простое духовенство рассаживается во дворе.
Прорицатель в предшествии трех-четырех музыкантов, поддерживаемый служителями, почти бегом обходит вокруг всего этого духовенства и, снова поднявшись на террасу, допускает уже единичных простых монахов, которые после поклонения снова занимают свои прежние места. После окончания подхождения всех поклонников прорицатель вместе с духовными издает один протяжный резкий крик, или вернее, визг, похожий на звук «гис», ударяя при этом в ладони. С этим криком как бы вылетает дух-хранитель, и прорицатель, уже совершенно изнуренный, тяжело падает на кресло, и его почти на руках уносят в дуган. Как и не утомиться! Почти 2,5-часовое страшно напряженное состояние с утомительной мимикой и в значительно тяжелых доспехах!
Высшие перерожденцы и администраторы прибыли на более или менее красивых лошадях, в сопровождении одного или нескольких лиц свиты, все же простое духовенство пришло пешком. В том же порядке тотчас же двинулись в обратный путь.
Воспользовавшись близостью монастыря Чжормолуна, находящегося почти против Гадона на другой стороне Додлунской долины, я решил сходить туда и в сопровождении своего слуги, халхасца, отправился в дорогу.
По прямому пути он отстоит от Гадона не более чем на 8–9 верст, но по этому пути нет мостов, а река в настоящее дождливое время недоступна для брода не только пешеходам, но и верховым. Поэтому пришлось идти по обходной дороге, к большому мосту в устье долины, отчего и расстояние нашего пути увеличилось почти до 15 верст, и мы пришли в монастырь под самый вечер. Мы получили от своих сородичей рекомендацию остановиться у одного постоянно проживающего здесь монгольского ламы, которого легко отыскали.
Он занимал довольно сносную, по местным понятиям, квартиру, состоящую из трех комнат с отдельной кухней, принял нас без видимого радушия, как бы исполняя только свой долг перед сородичами, и отвел нам отдельную комнату, предоставив, кроме того, пользоваться кухней и топливом. По родному обычаю угостил нас тотчас чаем, предоставив дальнейшие заботы о пище нам самим, что было, конечно, для нас очень удобно.
Из разговоров с ним да и от других старожилов мы узнали, что он прожил в Тибете безвыездно 41 год, будучи родом монголом из тумэтов, входящих в состав Чжосотуского сейма южных монголов. Вскоре после прибытия в Тибет он, благодаря своей представительной внешности и хорошему голосу, приобрел должность умцзада в гоманском дацане, в котором он прослужил 22 года. Девять лет тому назад он – по объяснению его самого и его сторонников – по клевете недоброжелателей был изгнан из монастыря, причем все его значительное имущество было конфисковано властями. Поводом послужил следующий случай. Однажды после празднества в монастыре, на которое допускаются женщины, рано утром в его квартире застали мать одного из его учеников, а следовательно, его знакомую. Этого достаточно было для доноса цокчэнским шамо, которые и закончили дело вышеупомянутым образом.
После этого он не захотел вернуться на родину, хотя его приглашали неоднократно, и поселился в этом монастыре. Чем объяснить его решение остаться навсегда в Тибете – неизвестно. Но он говорит, что не желает или, вернее, стыдится показаться своим родным и землякам после такого фиаско его духовной карьеры. Ему теперь 61 год. Он питается заработком от чтения книг у зажиточных людей. Он говорит, что редкий день ему приходится быть дома: так любят окрестные жители приглашать его. Но, как известно, плата за чтение довольно низка (около 20 коп. за целый день), и только дешевизна местной жизни позволяет ему проводить свои последние годы безбедно.
9 июня. Переночевав у этого бывшего умцзада, я отправился утром на осмотр монастыря, но в нем оказалось мало такого, что было доступно незнатным богомольцам.
Чжормолун – один из старинных монастырей, где в доцзонхавинское время процветала богословская школа, в которой учился и Цзонхава. Но как знаменитый ученик затмил имена своих учителей, так и монастыри, основанные его последователями, послужили причиною упадка прежних славных центров богословской науки. Sic transit gloria mundi! [60] В настоящее время в Чжормолуне не более 100 монахов, большинство коих состоит в списках монахов Брайбуна, хотя отправляются туда только в дни раздачи денег. В главном храме указывают центральной святыней статую «Бесконечнолетнего» Аюши, а по-тибетски – Цэбагмэд. Здесь происходит спускание на местного прорицателя хана Похан, одного из пяти ханов или царей, к коим принадлежат вышеупомянутые Гадон и Найчун.
Рядом с этим храмом, выкрашенным в коричневый цвет, стоит белый дом-дворец хозяина этого монастыря, перерожденца Ария, который живет и числится в списках гоманского дацана Брайбуна. В настоящее время перерожденец в отсутствии; он приглашен в Западную Монголию.
Домов в монастыре очень мало, круговая дорога всего монастыря не более 400 саженей. Здесь живут и светские жители обоего пола.
Считая бесцельным дальнейшее пребывание, мы тотчас же направились к монастырю Санпу, расположенному по другую сторону реки Уй-чу, но по дороге узнали, что переправа через нее невозможна, почему пришлось повернуть к Лхасе, куда и прибыли в 5 часов вечера. По дороге зашли в одну тибетскую кухмистерскую, где попросили по чашке супу; но поданное блюдо было до того гадко, что я не мог ничего съесть. Только неизбалованный и небрезгающий мой спутник уничтожил, не без аппетита, обе порции. Я же принужден был купить топлива и в саду одного поместья, с разрешения его караульного, приготовил чай, который выпил с большим удовольствием у быстрой речки, в которую превратилась от нынешних дождей оросительная канава.
14 июня мне сообщили, что на третьем этаже храма Большого Чжу происходит какая-то церемония. Я тотчас отправился туда, но застал только конец ее. На плоской крыше храма стояли три вооруженных солдата и пели что-то, размахивая шашками в ножнах. В одном углу (ю.-з.) крыши была натянута палатка, где сидели чиновники и ламы. Перед палаткой стояли три женщины в дорогих нарядах, с куполообразными шапками на голове, сделанными из ниток, унизанных как будто жемчугом. Такие шапочки, но только меньших размеров, носят княгини, о чем упомянуто выше. Они пели какой-то гимн перед старшим из чиновников. По окончании пения все стали расходиться. Расспрашивая затем о бывшей церемонии у местных жителей, я узнал только, что в этот 11-й день пятой луны происходит особое чествование покровительницы города Бэлхамо, о которой я упоминал раньше.
15июня. Рано утром я отправился в поместье прорицательницы чойчжона Дамчжань-дорчжэ-дагдань, который принадлежит к средним хранителям и изображается едущим на буром козле. Поместье это было известно мне еще раньше, так как хозяйка его поддерживает знакомство со всеми бурятами, приезжающими сюда. Прорицательница – женщина на вид около 50 лет, невысокого роста, с открытым, довольно приятным лицом, достаточно хорошо упитанная. Поместье ее состоит из большого дома и хозяйственных пристроек. Рядом находится огород, в одном углу которого отведено место для цветника, устроенного в виде квадрата, с площадкой посредине. Немного далее был довольно большой сад, правда, с однообразными деревьями. Двор и дом содержатся в примерной чистоте. Во внутреннем дворе были отгорожены три молодых деревца, среди которых хозяйка не без гордости указывала на древовидный можжевельник, хвоя которого, как известно, идет на воскурения перед богами, в особенности перед чойчжонами. Она не скрывала своего мнения, что это дерево принялось здесь не без покровительства спускаемых ею чойчжонов, так как можжевельников в садах около Лхасы почти нет.
Сюда же собралась наша бурятская община и расположилась в саду, поставив большую палатку хозяйки. Здесь монахи проводили время так же, как и в саду гадонского прорицателя: они намеревались провести здесь трое суток и сделали складчину на провизию из пяти монет, т. е. по одному нашему рублю.
16 июня происходило спускание чойчжона или, вернее, чойчжонов, но не так торжественно, как у гадонского прорицателя.
В верхнем этаже дома прорицательницы был особый зал, где у задней стены стоял стол с жертвенными чашами и другими принадлежностями культа. Направо от него – высокое седалище для прорицательницы, а далее – шкаф с книгами и изображениями божеств. По стенам висели разные воинские доспехи и оружие. У двух срединных колонн зала стояли друг против друга изображения двух каких-то божеств, в воинских доспехах, вооруженных пиками. Таким образом, комната напоминала оружейный музей.
Прорицательница перед спусканием чойчжона снимает с себя обыкновенные женские сапоги и надевает сапоги того образца, какой носят духовные; снимает с головы свою бачжу (т. е. головное украшение) и фартук.
Затем надевает широкий парчовый халат и, подпоясавшись, садится на обыкновенный стул. Единственная прислужница, ее пожилая сестра, подает ей несколько зерен поджаренного ячменя. Она, взяв их в правую руку и приложив ко лбу, шепотом читает какую-то молитву с закрытыми глазами. Проходит около четырех минут, она вдруг встает, разбрасывает зерна по направлению жертвенного стола и, поднявшись по ступенькам на упомянутое седалище, садится по-восточному, обратившись лицом к зрителям. Сестра быстро надела на ее голову бывший наготове шлем, но уже не такой громоздкий, как у Гадона, и затянула его шнурками под подбородком. Она дрожала всем телом и, схватив правой рукой поставленное у стены копье, стала трясти его. В левой же руке она держала красный платок, которым поминутно вытирала рот и лицо, при чем делала учащенные плевки. Тотчас же сестра подала ей в правую руку большой медный вачир (дорчжэ), а в левую – чашку с ячменными зернами. Тогда стали подходить поклонники с обычными хадаками.
Прорицательница благословляла вачиром, прикладывая его крестообразно к спине поклонника. Затем сестра три раза меняла ее головной убор шапками трех других форм, и всякий раз подходили поклонники с новыми хадаками, причем прорицательница вручала только зерна, беря их тремя пальцами. Если же кто хотел спросить какое-нибудь предсказание, то он предлагал свой вопрос тут же, каковой вопрос повторяла сестра ее. Тогда она давала довольно лаконичный и непонятный для других ответ, обыкновенно скороговоркой своей сестре, которая затем более пространно передавала его вопрошавшему. При каждой перемене шапки ей подносили в серебряной чаше ячменное вино, которого она выпивала один глоток. После окончания всего этого она взяла коротенькую толстую палку, на одном конце которой были привязаны разноцветные хадаки, так что палка напоминала своего рода бич, и протянула ноги вперед, как бы готовясь слезть с седалища.
Затем она сделала три удара концом палки о подушки на седалище, и каждый раз присутствующие произносили: «Лха-ржял-ло!» После этого она слезла с трона, пришла в обыкновенное состояние и, сняв свое облачение, уже вела обычную беседу со знакомыми. Когда же ее спрашивали о каком-нибудь непонятном ответе, она говорила, что совершенно не знает, что отвечала, и предлагала обращаться за разъяснениями к ее сестре. По теории выходит, что разум ее, как человека, совершенно исчезает при воплощении в нее чойчжона, потому сама прорицательница, придя в вид обыкновенной смертной, и не знает его ответа.
17 июня, проведя у гостеприимной хозяйки три дня, я под вечер возвратился в Лхасу.
19 июня в загородном саду прорицателя Карма-шяр происходило спускание этого чойчжона, совместно с чойчжоном Сэтаб («Краснолицый на рыжем коне»), прорицатель которого живет в монастыре Санпу. Оба прорицателя спускали вместе, одновременно. Спускание происходит в особом большом шатре. На поклонение стекаются преимущественно светские жители Лхасы. Эти дни являются как бы большим народным праздником. Все надевают свои наилучшие одежды и, взяв с собою съестные припасы и главным образом туземное вино, отправляются за город в упомянутый сад, а также занимают места в соседних садах.
Они располагаются здесь отдельными семейными группами и пируют, посещая и своих знакомых. Проведя так весь день, под вечер возвращаются в город в веселом настроении, и многие усердные любители вина пошатываются, но, однако, нет безобразно пьяных, а тем более нарушителей общественной тишины. Только хороводы женщин и мужчин до поздней ночи оживляют город пением и пляской. Впрочем, в них принимает участие только низший класс населения. Так проходят два дня, в течение коих многие мелочные торговцы на рынке прекращают свои обыденные занятия.
5, 6 и 7 июля. В течение этих трех дней далай-лама пожаловал желающим так называемые «Чжян-рай-сиг-ги-ван» и «Цэбагмэд-чжи-ван». Это – посвящения, коими предоставляется принявшим их право (ван) читать эти книги. Вообще, в ламаистском вероучении строго соблюдается право преемственности, которое имеет свое основание в том убеждении, что никакие наставления и никакие мистические заклинания не имеют силы для руководствующихся и читающих, если только не выслушаны от лиц, преемственно унаследовавших их от самого составителя. Поэтому каждый ведет у себя более или менее длинный список, если можно так выразиться, генеалогию своего духовного наследства.
Первоначальная цель преемственности заключалась в том, чтобы текст учения не подвергался изменениям. Это достигалось тем, что преемник не должен был ни сокращать, ни добавлять слов. Затем в этом же можно, пожалуй, усмотреть и материальную сторону авторского права, так как всякий, принимающий посвящение, по принятому обычаю подносит более или менее значительное вознаграждение посвящающему. Посвящение дается только по получении просьбы о разрешении проповедовать известную книгу, что, по отношению к далай-ламе, делается от лица знатных князей (совета тгалонов и др.), если нет, конечно, какого-нибудь постороннего знатного или, скорее, богатого «милостынедателя». Публика же собирается, как бы сочувствуя первым просителям, коим лестно иметь многих желающих, так как то обстоятельство, что они дают возможность многим выслушать учение, является их добродетельной заслугой.
Раздача вана происходила в загородном летнем дворце далай-ламы Норбу-линха. Здесь во дворе была поставлена большая четырехугольная палатка с узорчато-вышитой крышей. Стена со стороны слушателей была высоко приподнята, так что внутренность палатки была совершенно открыта. Там посредине задней стены был поставлен высокий трон для далай-ламы. Собравшийся народ, в числе не менее 5000 духовных и светских людей, расположился под открытым небом, перед палаткой. Каждый стремился сесть ближе к палатке, отчего происходила страшная теснота и давка. Порядок охранялся телохранителями далай-ламы и придворными прислужниками при помощи плетей и палок.
Когда народ, утомленный долгим ожиданием, наконец, был рассажен и распорядители доложили об этом далай-ламе, со стороны дворца стали доноситься тихие звуки линбу (небольшая труба), которые постепенно приближались. Народ притаил дыхание, и взоры всех направились в ту сторону, откуда доносились эти звуки. Сначала показались музыканты, затем какой-то лама с пачкой горящих курительных свечей, а за ним уже сам воплощенец «Великомилосердного», т. е. далай-лама. Он был в духовном одеянии с шапкой цзонхавинского образца на голове (такая, как изображается на рисунках на Цзонхаве и далай-ламах). Над ним несли зонт зеленого цвета. Непосредственно за ним шли высшие ламы и князья в своих обычных желтых шелковых халатах.
Когда далай-лама подошел к своему престолу, он сделал ему три молитвенных поклона, сняв свою шапку. Свита стояла, предварительно заняв свои места, по обе стороны престола, вдоль боковых стен. Затем далай-лама сел на престол и накинул на себя свою желтую мантию. Тогда стали по очереди подходить лица свиты и, снимая шапки, нагибались перед ним. Он же благословлял их обычным прикладыванием руки к их голове. После этого ламы и князья заняли свои места и уселись, причем ламы сидели по правую руку от далай-ламы, а светские князья – по левую. Далай-лама начал чтение, которое продолжалось около 1,5 часа. После окончания народ, страшно утомленный теснотой под палящими лучами солнца, кинулся к выходу, и в общем смятении уже нельзя было увидеть обратного шествия. Я видел вышеописанное во второй день.
В третий раз народу собралось еще больше. Приход далай-ламы и церемония восхождения его на трон были совершенно тождественны со вчерашним. Побыв в начале чтения, я вышел на некоторое время из двора, чтобы прохладиться и отдохнуть под кустами на берегу реки, протекающей под самыми стенами ограды. Но, возвратившись обратно, я застал уже совершенно иную картину. Вся эта толпа просто ломилась в палатку, чтобы поскорее получить благословение. Происходила невероятная давка, и руки распорядителей устали бить народ, не разбирая ни возраста, ни пола, ни звания. Но всякий подошедший к далай-ламе получал благословение и знакомую ленточку с благословенным узлом, причем светским людям давали ленточку белого цвета, а духовным – красного. Уже выйдя за ворота, каждый, вздохнув свободнее, рассматривал повреждения в своих украшениях и на видимых местах своего тела. Особенно пострадавшими оказывались женские украшения: от ударов палками разбивались кораллы, рвались четки и т. п.
У меня не хватило терпения дождаться конца и мужества протесниться через тысячную толпу, и я отправился домой в Лхасу, не получив благословения и не увидев окончания церемонии.
Глава VII. Управление Тибета
Тибет находится под верховным влиянием Китая еще со времен Юаньской династии (XIII в. по Р. Х.), хотя во внутреннем управлении всегда был независим.
Народы, обитающие в отдельных ущельях высоких, почти недоступных, гор, сообщающихся только через узкие проходы или крутые перевалы, обыкновенно жили в старину небольшими группами, политически независимыми друг от друга и часто враждовавшими между собою. В такой стадии исторической жизни как раз находился Тибет того времени. Он был раздроблен на несколько уделов, общее главенство над коими временами принимали только выдающиеся завоеватели или весьма энергичные и сильные волею люди. Чуть ослабевала по каким бы то ни было причинам общая верховная власть, уделы снова принимали самостоятельность и ждали нового возвышения какого-нибудь князя, который подчинил бы их своей власти. Точно такая же система существовала и в отдельных уделах – там власть принадлежала ловким и энергичным людям.
Поэтому в Тибете средних веков мы находим возвышение и падение разных главенствующих лиц или небольших династий. Затем, помимо светских правителей, на сцену жизни народа выступило новое сословие – духовенство, которое, будучи, без сомнения, самым развитым и в то же время властолюбивым элементом, приобрело громадное влияние на народ и его правителей – князей, стоявших почти на одной ступени с ним по своему мировоззрению.
Помимо того, по характеру ламаистского учения, лама, в силу своих духовных обетов и предначертанной ему цели служить «для пользы всех живых существ», должен стоять выше своих духовных сынов. Насколько они умеют отстаивать свои права и независимость, а также подчинять себе даже сильных царей, видно из характерного эпизода, повествуемого в исторических сказаниях. Когда могущественный хан Хубилай[61], по увещанию своей супруги, согласился принять наставления (духовное посвящение) от молодого ламы Мати-дхваджа (по-тибетски – «Лодой-чжялцань»), если только тот сядет на престол ниже его, то молодой лама отказался давать наставления в таком положении. Только после обоюдных уступок они сели на троны одинаковой высоты.
Не входя в дальнейшие подробности об удельной системе Центрального Тибета, только скажем, что в старину Тибет делился на тринадцать главных уделов или областей, известных под названием ти-кор-чжу-гсум, а также, оставив до следующей главы краткое изложение истории возвышения далай-лам, перейдем к тому времени, когда было положено начало нынешней системе управления.
В 1640 г. монгольский (хошотский) завоеватель Гуши-хан, о котором мы имели случай упоминать выше, подчинил своей власти Центральный Тибет. В 1642 г. он в сообществе с далай-ламой и банчэн-эрдэни, будучи осведомлен о возвышении маньчжуров, послал к ним в Мукден посольство с изъявлением покорности.
Конец этого столетия и почти все следующее XVIII столетие – время царствований в Китае знаменитых императоров Кан-си, Юн-чжэна и Цянь-луна[62] – были ознаменованы в истории монголов и чжунгаров вообще большими смутами, приведшими их к полному подчинению Китаю. Смуты эти охватили и Тибет[63].
После событий, изложенных в следующей главе, в 1720 г. монголы были окончательно удалены из Тибета[64], и в 3-м году царствования маньчжурского императора Юн-чжэна (1725 г.) управление Тибетом было вручено следующим лицам, содействовавшим маньчжурам в борьбе с чжунгарами: 1) бывшему дэба Ханчэн-най, 2) Лумбаба (по-маньчжурски – Лум-бунай), 3) Аподба (по-маньчжурски – Арбуба) и 4) Полхаба (по-маньчжурски – Поланай).
Юн-чжэн в данном случае дал впервые тибетским правителям маньчжурские чины, а именно: Ханчэн-наю и Аподба – «знаменных бэйсэ», Лумбаба – «помогающего государству гуна» (по-китайски – фу-го-гун), Полхаба – «тайчжи первой степени».
Первым трем повелел управлять провинцией Уй, с местопребыванием в Лхасе, а последнему – Цзаном. Все они были названы галонами. Тотчас после этого начались интриги между лхасскими правителями из-за того, будто бы, что Ханчэн-най, как прежний дэба, стал пренебрегать своими товарищами и хотел управлять Тибетом единолично. К двум последним присоединился еще некто Бжяраба (по-маньчжурски – Джарнай). Эти три сообщника вскоре убили Ханчэн-ная и захватили власть. Тогда против них поднял оружие Полхаба (имя его – Соднам-доб-чжя). Собравши войска в Цзане, он, когда услышал про приближение маньчжурской армии для подавления мятежных галонов, поспешил в Лхасу и, привлекши на свою сторону духовенство окрестных монастырей, схватил упомянутых трех галонов и представил маньчжурскому главнокомандующему, который казнил их вместе с их сыновьями.
За такие заслуги пред маньчжурами Полхаба, или Поланай, в 1728 г. был назначен правителем Центрального Тибета, затем в 1730 г. был награжден титулом князя третьей степени бэйлэ, а в 1736 г. повышен во вторую степень – цзюнь-ван. Кроме того, за неизменное служение маньчжурским интересам император Цянь-лун пожелал утвердить означенный титул за его потомством наследственно и запросил самого Полхабу, которого из своих двух сыновей он предпочитает назначить наследником. Отец указал на младшего своего сына Чжюрмэд-Намчжяла[65], который и был утвержден императорским рескриптом в 1746 г. в степени цзюнь-вана.
Но этот новый князь не оправдал надежд ни императора, ни отца. Свою деятельность он начал с того, что в следующем же году отравил своего престарелого отца, затем сформировал туземное войско и выказал явное неповиновение маньчжурским военачальникам, пребывавшим тогда в Лхасе, причем извел своего болезненного старшего брата Чжюрмэд-цэбтаня. Спустя немного (в десятой луне года железного коня – 1750 г.) военачальники Пуцзинь и Лабдунь пригласили его, посредством обмана, на второй этаж своего жилища, где и убили собственноручно. Сторонник убитого, лама Ловсан-ешей, сопровождавший его, тотчас спустился со второго этажа и стал призывать народ к мятежу. Возбужденная толпа подожгла дом военачальников, которые погибли тут же в пламени. Бежавший подстрекатель был пойман по приказу далай-ламы.