Меридон Грегори Филиппа
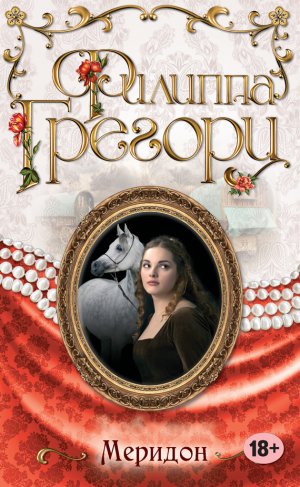
Роберт на мгновение задержал на нем озадаченный взгляд. Потом выкрикнул:
– И выступающих! Для вашего развлечения! Парящих на немыслимой высоте и скорости! Единственных в мире Летающих Девушек! Ангелов без Крыльев: Мамзель Кейти…
Кейти вышла на арену, самодовольно улыбнулась зрителям, особенно человеку из Лондона, и стала взбираться по лестнице.
– …и Мамзель Дэнди!
Она вышла, не взглянув на меня.
Я стояла под трапецией, у подножия ее лестницы, как пугало в поле, выставив руку, указывая в середину арены, где кланялась моя сестра, и вокруг ее лица колыхались зеленые ленточки, а улыбка была полна торжества от того, какую ловушку она устроила. Я держала для нее ступеньку лестницы, и, когда она начала подниматься, мимо меня проплыли ее сияющая улыбка и смеющиеся глаза.
– Старая ты плакальщица! – шепнула она. – Я с самого начала это задумала. Вот увидишь.
Я налегла на ступеньку лестницы, чтобы она не качалась, и дождалась, когда почувствую, что Дэнди шагнула с нее на площадку. Вверх я никогда не смотрела. Я ушла с арены, подняв голову, с бессмысленной широкой улыбкой, приклеенной к лицу, глядя себе под ноги. Я закрыла за собой дверь, прижалась лбом к ее доскам и стала слушать, как всегда слушала. Я ждала, чтобы толпа ахнула, когда одна из них качнется к Джеку, а потом взревет, когда она вернется на площадку. Ждала, чтобы понять, что с Дэнди все хорошо.
Я так смертельно устала, что почти задремала стоя, сторожа сестру, прижавшись лицом к грубой доске. Я слышала восторженные аплодисменты, когда Джек встал на площадке на руки, потом волну хлопков, когда он кувыркнулся и снова встал прямо. Когда Джек стал застегивать пояс, переступая на площадке, по залу пролетел шорох радостного предчувствия. Зрители увидели, как он потирает руки, – он всегда так делал, – а потом вытягивает их вперед.
Тут они должны были повернуться и посмотреть направо, где стояли девушки, и я услышала общий выдох, когда Кейти взялась за трапецию и шагнула в пустоту. Она всегда шла первой, я знала. Я слышала, как толпа затаила дыхание, слышала, как Джек крикнул: «Прэт!» – так ясно, словно сидела в первом ряду. Я прижала ладони к двери. Меня охватило ощущение, что я тону во тьме, такое сильное, что я едва удержалась, чтобы не оползти по двери и не позволить тьме затопить меня. Потом я почувствовала, что рядом кто-то есть, и быстро взглянула в сторону.
Возле меня стоял Ри.
– Ты живая? – спросил он.
В амбаре Джек выкрикнул: «Ап!» – и толпа сдавленно вскрикнула, когда Кейти вытянула вперед ноги. Я услышала хлопок, когда Джек поймал ее за лодыжки, а потом вопль толпы, когда он качнул Кейти назад и перекрутил ее, чтобы она развернулась и схватилась за перекладину. Потом зрители взорвались приветственными криками – Кейти вернулась на площадку, обернулась, помахала и улыбнулась.
Я кивнула обеспокоенному Ри. Мне казалось, что он колышется, весь мир вокруг меня таял и струился.
– Ты мокрая и вся дрожишь, – сказал Ри. – И бледная, как смерть. Ты заболела, Меридон?
Я услышала, как зашевелилась толпа, когда Дэнди и Кейти поменялись местами на площадке, и Дэнди взялась за перекладину трапеции. Услышала аханье, когда Дэнди обычным для нее уверенным прыжком рванулась вниз, услышала, как Джек ждет, чтобы она набрала скорость. Потом он крикнул: «Прэт!» – и я поняла, что сейчас он смотрит на Дэнди и тянется к ней. К Дэнди, зацепившейся ногами за трапецию, чтобы дотянуться до Джека руками. Чуть большее расстояние, делавшее трюк чуть сложнее. Она тянулась к нему, зеленые ленточки развевались вокруг ее головы, а на лице была торжествующая ослепительная улыбка, в которой Джек точно увидел радость от того, как она заманила его, поймала и одолела и его, и его отца.
– Ты в обморок не упадешь? – встревоженно спросил Ри. – Меридон, ты меня слышишь?
Джек выкрикнул:
– Ап! – и я услышала в его голосе что-то, чего прежде не слышала никогда.
Ощущение, что я тону, вдруг покинуло меня, передо мной ясно встали доски двери. Я заскреблась в них с неожиданным пылом.
– Впустите меня! – закричала я.
Дверь подалась, и я взглянула вверх; я впервые взглянула вверх. Я увидела, как Джек и Дэнди соприкоснулись руками, как Джек надежно ее схватил, а потом увидела, как он качнул ее, со всей силой, набранной ею в полете, приложив дополнительное усилие, он качнул ее и бросил в высокую оштукатуренную стену амбара позади себя. Пока Дэнди летела, бестолково хватаясь руками за воздух, из груди ее рвался долгий крик ужаса, который я сразу узнала, словно ждала его все эти месяцы. Потом раздался чудовищный глухой удар, она врезалась головой в стену и упала, как птенец из гнезда, а толпа эхом подхватила ее крик сотнями глоток.
Я ворвалась в амбар, как дикая лошадь. Все были на ногах, все толпились вокруг, окружали ее, лежавшую под стеной на земле. Я пробивалась сквозь толпу, как ласка сквозь курятник. Кто-то толкнул меня, и я сбила его с ног плечом. Я видела краешек розовой юбки Дэнди и ее бледную перекрученную голую ногу.
Роберт за моей спиной кричал:
– Разойдитесь! Разойдитесь! Дайте девочке воздуху! Есть здесь хирург? Или цирюльник? Хоть кто-то!
Я оттолкнула ребенка, услышав, как он упал и заплакал, и оказалась возле нее.
Тут все замедлилось и затихло.
Я потянулась к спутанной волне черных волос с зелеными и золотыми ленточками и подтащила Дэнди к себе. Плечи у нее были еще теплые и потные, но голова болталась – у нее была сломана шея. От темени осталось кровавое месиво, но кровь не текла. Глаза невидяще уставились в стену позади, они так закатились, что виднелись одни белки. На ее лице застыл ужас, горло так и замерло в крике.
Я положила ее, очень бережно, обратно на землю и расправила ее короткую юбочку на голых ногах. Она лежала, перекрутившись, голова и плечи смотрели в одну сторону, ноги в другую – спина у нее была сломана, как и шея. В уголке рта виднелась струйка крови, но больше ничего не было. Она была похожа на драгоценную фарфоровую куклу, разбитую беспечным ребенком.
Конечно, она была мертва. Мертвее я ничего в жизни не видела. Дэнди, моя любимая, расчетливая, блестящая сестра, была далеко – если вообще где-то была.
Я взглянула наверх. Джек пытался расстегнуть пояс – думаю, у него так тряслись руки, что он не мог справиться с пряжкой. Он посмотрел на меня со стойки ловца и встретился со мной глазами. Рот у него был полуоткрыт, словно его самого ужасало то, что он сделал. Словно он не верил, что сделал это. Я ему медленно кивнула, с пустыми глазами. Поверить было невозможно, но тем не менее он это сделал.
Я встала.
Толпа расступилась. Я видела их лица, видела, как шевелятся их губы, но ничего не слышала.
Рядом со мной стоял Ри. Я повернулась к нему, и голос мой был ровным.
– Проследи, чтобы ее похоронили, как следует, – сказала я. – По нашим обычаям.
Он кивнул. Лицо его было желтым от испуга.
– Чтобы одежду сожгли, тарелку разбили, и все ее имущество похоронили с ней, – сказала я.
Он кивнул.
– Кроме фургона, – сказала я. – Фургон принадлежит Роберту. Но все, что она носила, ее постель, все одеяла.
Он кивнул.
– И гребень, – сказала я. – И ленточки. И подушку.
Я отвернулась от искореженного тела и от стоявшего возле него Ри.
Сделала два шага, и Роберт открыл мне объятия. Я не отозвалась, словно никогда не любила его, словно вообще никого в жизни не любила. Снова повернулась к Ри.
– И чтобы никто, кроме тебя, ее не трогал, – сказала я.
Но потом растерялась.
– Так и надо, да, Ри? Такой у нас обычай? Я не знаю, как это делается.
Губы Ри дрожали.
– Все будет, как у нас принято, – сказал он.
Я кивнула и прошла под стойкой ловца, на которой стоял Джек, чьи руки так тряслись, что он не мог расстегнуть пояс. Я больше не взглянула наверх. Я прошла мимо Роберта, почувствовав, как его рука погладила меня по плечу – я ее сбросила, не глядя. Вышла за двери амбара, где стояла, как дура, пока Дэнди, смеясь, шла на смерть, и подошла к лошадям.
Взвалила седло на спину Моря, и он наклонил голову, чтобы я надела уздечку. Я видела, как блестят металлические пряжки и мундштук, но не слышала, как они звякали, когда стукались друг о друга. Затянула подпругу и повела Море по траве к нашему фургону.
Ее постель по-прежнему пахла своей хозяйкой. Теплым, похожим на васильки и сено, ароматом. По всему фургону были раскиданы ее вещи, ленты, шпильки, там и тут виднелись следы пудры, валялся пустой флакон из-под духов.
Я содрала с себя костюм для трапеции и вытащила из волос ленты. Медные кудри рассыпались, и я отвела их назад. Натянула рубашку, рабочую куртку и бриджи для верховой езды. У меня была пара старых сапог Джека, и я, не дрогнув, их надела. Достала из-под матраса кошелек с десятью гинеями. Одну я положила на подушку Кейти. Она выполнила свою часть сделки, оставив Джека в полное распоряжение Дэнди. Она свою монету заработала. Кошелек я запихнула в штаны и затянула его завязки на ремне. Потом вытащила из прорехи в матрасе нитку с золотыми застежками. Застегнула ее на шее и спрятала под рубашку, потом влезла в старый камвольный жакет, когда-то принадлежавший Роберту, теплый и широкий. В кармане нашлась кепка; я надела ее и убрала под нее волосы.
В дверях фургона появилась Кейти.
– Меня Роберт прислал, – задыхаясь, сказала она. – Говорит, чтобы ты шла в его фургон и прилегла, пока он не придет.
Она замялась.
– Ри там, с Дэнди, – сказала она. – Он ее плащом накрыл.
Она испуганно всхлипнула и протянула ко мне руки за утешением.
Я недоуменно на нее взглянула. С чего она плакала, я понять не могла.
Я прошла мимо нее, осторожно, чтобы она не могла ко мне прикоснуться, и на мгновение остановилась на ступеньках фургона. Море поднял голову, увидев меня, и я отвязала его.
– Куда ты собралась? – встревоженно спросила Кейти. – Роберт сказал, чтобы ты…
Она умолкла, когда я вспрыгнула в седло.
– Меридон… – произнесла она.
Я посмотрела на нее. Лицо у меня было как холодный камень.
– Куда ты? – спросила Кейти.
Я развернула Море и направилась к краю луга. Люди передо мной расступались, их лица зажигались любопытством, они жадно на меня смотрели, узнавая даже без костюма. Они сегодня посмотрели отличное представление. Лучшее из всех, что мы дали. Уж точно – самое захватывающее. Не каждый день видишь, как девушку кидают в стену через весь амбар. Надо было дополнительную плату с них взять.
Толпа расступилась, когда я подъехала к воротам.
Море остановился, глядя на дорогу. Она вела на юг к побережью, куда мы ездили вместе сегодня утром, где я почувствовала соль на губах, когда поцеловала Дэнди. Я повернула Море на север, и его неподкованные копыта мягко застучали по проселку. Слева от нас в бледно-шафрановой дымке и похожих на яблоневый цвет облаках садилось солнце. Море шел тихо, я распустила поводья.
Слез не было. Я даже про себя не плакала. Я осторожно объезжала людей, расходившихся по домам и беседовавших громкими взволнованными голосами про несчастье, про то, что они видели: «А лицо у нее какое было! А крик этот жуткий!..»
Я молча ехала мимо них, направляя Море на север, пока мы не миновали деревушку и не вышли на лондонскую дорогу. Мы продолжали ехать на север, копыта Моря стучали по кочкам, но затихали на высохшей грязи.
На север – а солнце спускалось все ниже и ниже, и в изгородях, окружавших тропу, над которой сгущались сумерки, начали петь вечерние птицы. На север. Я не плакала, не впадала в ярость.
Я едва дышала.
17
Я добралась до дороги, шедшей вдоль побережья, когда уже темнело, наступали ранние серые весенние сумерки. Море повернул направо, и я позволила ему идти, куда выберет. Мы двигались на восток, и я была рада, что закат остался у меня за спиной. Я не хотела ехать в сторону садившегося солнца, от его цвета у меня начинали болеть глаза, их щипало, точно я сейчас заплачу. Я знала, что не заплачу. Знала, что никогда больше не стану плакать. Маленький уголок нежности, который занимала в моем сердце любовь к Дэнди, исчез так же стремительно и окончательно, как и она сама. Я знала, что не полюблю кого-либо в будущем. Я этого не хотела.
Мимо нас проехал в противоположную сторону, в Чичестер, дилижанс, и караульный на запятках весело протрубил в рожок, заметив меня. Я подняла воротник жакета, спасаясь от холодавшего вечернего воздуха. Было не холодно, но я заледенела изнутри. Жакет меня не согревал. Я увидела, что у меня слегка дрожат руки, и пристально на них смотрела, пока они не успокоились. Слева, низко над горизонтом, виднелась единственная искорка света, похожая на булавочный укол, такая чистая и белая в вечернем небе. Я посмотрела на нее, и, казалось, она в ответ посмотрела на меня.
Неважно было, куда ехать. Я повиновалась порыву и повернула Море в сторону звезды, которая казалась такой же ледяной и стылой, как я внутри.
Когда стало темнеть, я заметила, что дорога идет вверх, по гребню холма. Вокруг нас слышалось тихое пение. Море ступал мягко, подняв голову, принюхивался, словно росшая на мелу трава приятно для него пахла. Было тихо и сумрачно, конь ничего не боялся, хотя настороженно поводил ушами, слушая, нет ли опасности. Я усмехнулась при мысли о страхе. Страхе жизни, страхе высоты, страхе смерти.
Все было в прошлом.
Меня охватила бесконечная уверенность. Наконец-то мне нечего было терять, и девочка, смотревшая на потолок фургона с койки, знавшая, что в ее жизни есть только одно хорошее, стала женщиной, у которой не было ничего. Мне казалось, что меня выпотрошили, вынув из меня любовь, жизнь и нежность. Я была чиста и проста. Чиста и холодна, как замерзающая река или как меловая скала, покрытая инеем.
Дорогу окружал густой лес, под деревьями вечерняя тьма лежала густо и непроглядно. Море шел осторожно, словно ступал по яичной скорлупе, прядая ушами и поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы ничего не упустить из виду. Я обмякла в седле, как сквайр, который проохотился целый день. Я смертельно устала. Даже подремала, пока мы взбирались по тропе – копыта Моря не стучали, он шел по сосновым иголкам и грязи. Проснулась я только раз, когда мы выехали из-под деревьев на гребень холма, и нас озарил свет встававшего месяца.
Я протерла глаза.
Мы взобрались по гряде холмов, мягко поднимавшихся от побережья. Теперь мы вышли из-под темных сосен и набухших почками буков на короткую, сочную траву, поеденную овцами. Три или четыре овцы бросились врассыпную, когда мы выехали из леса. За ними прыгали ягнята, от испуга жавшиеся к маткам.
Я оглянулась. Озаренное луной море за моей спиной сверкало как серебро. Островки, казавшиеся в темноте черными, выглядели макетом пейзажа, не настоящими. Я видела кулачок земли, окружавший деревушку Селси, вдававшийся в море, и дальше, на западе, – другие заиленные мысы, все те точки, где мы останавливались на нашем медленном пути в этот проклятый край, где Дэнди слишком часто поднималась летать, а я была слишком неповоротлива и глупа, чтобы ей помешать.
Море повернул серую голову, глядя на дорогу, по которой мы поднялись, и фыркнул, словно был впечатлен тем, какой путь мы проделали. Я не знала, куда еду. Не было у меня ни сил, ни желания об этом думать. На север – это было неплохим направлением: и дорога оказалась приятной, и места тихими.
Я цокнула языком, и Море пошел дальше.
Мы двигались по гребню холма, по прекрасной открытой местности, а потом дорога пошла вниз, в долину на другой стороне. Она петляла и круто поворачивала, чтобы по ней легче было спускаться лошадям с повозками. Я подумала, что летом на холм можно поднять повозку, но только легкую. А зимой и вовсе ничего не поднимешь. В ту пору, наверное, дорога превращается в меловую топь. Когда я представила себе цвет бледной меловой грязи, что-то внутри меня замерло, и я задумалась, где прежде видела жирную сливочную грязь. Но мысль ускользнула прежде, чем я успела ее ухватить.
Море пошел резвее, мы двигались под уклон, потом он закинул голову и попробовал перейти на рысь, но его задние ноги оскальзывались и съезжали. Я выровняла его, чуть тронув поводья. Я не хотела натягивать поводья и поднимать его в рысь. Не хотела, чтобы меня беспокоила перемена его шага. Он расслабился, ощутив мое нежелание, и снова пошел ровно в лунном свете.
Я думала, что сейчас должно быть где-то между семью и восемью вечера, но точнее сказать не могла. Захотела бы узнать точно – на пути попадались деревенские церкви с колокольней и часами, они встречались даже в этом пустынном краю.
Есть мне не хотелось. Я была измучена усталостью, но не хотела спать. Мне было неважно: только началась эта первая ночь в одиночестве, прошла наполовину или вовсе никогда не кончится. Я скрючилась в седле и позволила Морю самому осторожно спускаться с холма в тени деревьев, отпустив поводья.
Мы добрались до деревни у подножия. Славная была деревушка. Вдоль широкой дороги бежала речка, и от нескольких домиков через нее были перекинуты мосты, чтобы владельцы могли посуху перейти на дорогу, даже если речка разольется. В нескольких окнах горели свечи, указывая путь усталым мужчинам, допоздна работавшим в полях. Я праздно подумала: а чем в это время года могут заниматься фермеры? Может быть, пашут? Или сеют? Я не знала, мне это никогда не было нужно. Тогда я стала раздумывать, пока Море ступал, как призрак, по вечерней деревне, как мало я знаю об обычной жизни; о жизни людей, которые не наряжаются и не танцуют на спинах лошадей. Подумала, что для Дэнди было бы куда лучше, если бы я объезжала лошадей для фермеров и господ, а не позволила приковать нас к колесу ярмарочного сезона.
А теперь это колесо нас переехало.
Дорога вела вверх по склону холма, прочь из деревни, и Море пошел резвее – я позволила ему идти в гору рысью. Будь сейчас светло, я, наверное, увидела бы слева огромную равнину. Я чуяла ее зеленую свежесть, веяло полевыми цветами, прятавшими личики на ночь. Справа от нас высился холм.
«Это Южная Гряда», – подумала я. И прикинула, где я нахожусь.
Я мысленно взглянула на карту. Ехала я от Селси, обогнув Чичестер, а эта дорога наверняка вела в Лондон. Тогда было понятно, почему она такая накатанная и широкая – на ней могли разминуться две кареты. Тут я вспомнила, что мне нужно высматривать домики дорожных смотрителей. Я не собиралась тратить деньги, оплачивая проезд по дороге, если небольшой крюк по бездорожью мог сберечь мне пенни. Еще я поглядывала, нет ли повозок. Я не хотела ни с кем говорить, я не хотела даже, чтобы кто-то смотрел мне в лицо. Мной владела нелепая убежденность в том, что мое лицо – такое остановившееся и каменное, что любой, взглянувший мне в глаза, непременно заплачет. Что он сразу увидит мертвеца, глядящего сквозь живые глазницы. Что за моими глазами и губами, за всем моим лицом, просто никого нет.
Я попыталась улыбнуться в темноту и обнаружила, что губы изгибаются, а лицо приходит в движение, и ледяная тяжесть внутри меня этому не мешает, но и сама не меняется. Я даже попробовала рассмеяться, одна в темноте, на окраине деревни. Смех прозвучал жутковато, Море прижал уши и ускорил шаг.
Я придержала его. Я так устала, что не могла вынести его подпрыгивающей рысцы, а галопом, казалось, я больше не поеду никогда. Я едва помнила девушку, вольтижировавшую на шедшей галопом лошади, танцевавшую, прыгавшую в обруч и через веревочку. Теперь она казалась мне полным надежд ребенком, и я гадала, за что с ней так жестоко обошлись.
С ней и ее бедной сестричкой…
Я прогнала эти мысли. Странные они были. Я говорила и думала так, словно я старуха. Усталая и готовая к смерти.
Девочку, которая нынче утром резвилась в море, отделяла от меня целая жизнь. Я подумала, что я больше похожа на ту женщину, которая смотрела на уезжающий фургон сквозь страшную, как во сне, грозу, зная, что больше она никогда не увидит свое дитя. Женщину, которая кричала вслед фургону: «Ее зовут Сара…»
Теперь я чувствовала то же, что и та женщина. То же, что чувствует любая женщина, потерявшая того, кого любила, кто спасал ее жизнь своим существованием. Старая. С разбитым сердцем. Готовая умереть.
Я вздохнула, и Море, сочтя это командой, снова перешел на рысь, приведшую нас на вершину холма, а потом – в деревню, лежавшую у его подножия среди источников.
Было поздно, в деревне уже погасили огни. Море шел тихо, нас никто не заметил. Только ребенок, выглянувший из верхнего окна на луну, увидел меня. Он поднял руку в приветствии, и его глаза встретились с моими. Он улыбнулся открыто и дружелюбно. Я в ответ не улыбнулась и не помахала. Я его едва заметила и ничего не почувствовала, когда углы его рта опустились от огорчения, оттого, что незнакомец на лошади не обратил на него внимания. Мне было все равно. Его до завтрашнего вечера ждет еще множество огорчений. К тому же я не хотела быть доброй с маленькими детьми. Ни у кого не нашлось ласкового слова для меня, когда мне было столько, сколько ему. Да и потом тоже. Ко мне была добра только она. По-своему, легкомысленно, она меня любила. Но в этом теперь не было утешения.
Наоборот.
Дома в этой деревне были широко разбросаны. Таверна, над окном которой горел фонарь, была последним домом на улице, над ее дверью смутно светилась приколоченная елочка. Я лениво прикинула, не остановиться ли мне, чтобы поесть и выпить. Устало подумала о постели и жарком огне. Но Море шел вперед, и меня не слишком волновало, что я замерзла, устала и проголодалась. Меня это совсем не волновало. Голова Моря смотрела на север, он изучал лежавшую перед нами дорогу, поводя ушами.
Я гадала: что он слышит?
Что слышала я сама, что звенело у меня в ушах так, что я раздраженно потрясла головой? Это был высокий поющий звук. Слишком высокий для человеческого голоса, слишком нежный для скрипящих петель. Он начался, когда я села сегодня в седло в Селси. И он звал меня все громче и яснее всю дорогу. Я сунула палец в одно ухо, потом в другое. Ни заглушить, ни сделать его яснее не получалось. Я передернулась. Он был одним с липкой влажностью моей кожи и холодом в животе. С тем, как тряслись мои руки, когда я забывала смотреть на них и держать их ровно. Звон в воздухе ничего не менял.
Море снова перешел на рысь, и я, усевшись покрепче в седле, позволила ему идти с той скоростью, с какой ему хотелось. Мысли мои были далеко. Я думала о давнем-давнем лете, когда мы, две грязные маленькие оборванки, лазали за яблоками в сад за высокой оградой. Я никак не могла заставить себя влезть наверх, а потом спрыгнуть и в конце концов протиснулась сквозь щель в заборе, оставив там половину своего потрепанного платья. Она смеялась над моим ободранным лицом.
«А мне нравится высота», – сказала она.
Теперь я жалела, что не заставила ее бояться высоты, как я сама, что не настояла как-нибудь на том, чтобы она всегда оставалась на земле. Что не отговорила Роберта от идеи с трапецией, как только он о ней упомянул. Что не увидела знака в той сипухе. Что не вспомнила вовремя о том, что зеленый на арене – к несчастью.
Море внезапно резко подался вправо, чуть не сбросив меня. Я вцепилась в его шею и огляделась. По какой-то ведомой только его лошадиному уму причине, он свернул с дороги и пошел по узкой тропе – не шире повозки с сеном. Я остановила его и хотела развернуть, чтобы он вернулся на дорогу. Но он заупрямился, а я слишком устала, чтобы подчинить его себе.
К тому же все это было неважно.
Я прислушалась. Впереди, в темноте, журчала река, и я подумала, что конь, возможно, хочет пить и именно шум чистой воды увел его прочь с дороги на тропу. Я позволила ему пойти, куда он хотел, повинуясь давно усвоенной истине, что лошади должны быть накормлены и напоены. Независимо от того, голоден ли ты сам и хочешь ли ты пить. Или вовсе забыл, что это – жажда и голод. Лошади все равно должны быть накормлены и напоены.
Море легко спустился по темному склону к броду, где я услышала шум реки. Пение в моей голове стало громче и отчетливее. Казалось, оно исходит от реки. Ночной воздух нежно струился по долине и заставлял деревья благоухать запахом молодой листвы. У реки росли высокие светлые цветы, сиявшие в лунном свете. Море вышел на середину течения, склонил гордую голову и стал пить. Плеск его мягких губ, вбиравших воду, такой родной звук, разносился по долине громким эхом. Я неподвижно сидела у него на спине и чувствовала, как прохладный ночной воздух гладит мои щеки, ласковый, как прикосновение любовника. На одном, потом на другом берегу реки тихо ухнула сова, призывая пару, а потом, пока я сидела в тишине, залитая лунным серебром, запел соловей – несколько чистых нот, журчавших, как река, и ясных, как пение в моей голове.
Деревья стояли чуть подальше от реки, по поросшим травой берегам виднелись купы примул и сладко пахнувших фиалок. У заболоченного места маячили белые березы, их жесткие сережки топорщились в серебристом небе. Море мягко выдохнул, подняв голову от воды. Кругом было так тихо, что я услышала, как падают капли с его морды.
Дальше по течению реки над темными изгибами русла нависали берега и виднелись заводи, где, как я полагала, должна водиться форель, а может быть, и лосось. Море снова поднял голову и неуклюже выбрался на полоску песка на дальнем берегу. Я подумала, что нам бы нужно вернуться на большую дорогу, но опустошение мое было слишком велико, чтобы сосредоточиться на таверне, где можно найти на ночь постель и конюшню. Я позволила Морю идти своим путем, и он пошел по тропе так ровно и гладко, так уверенно, словно направлялся домой – ночевать в теплой конюшне.
Я не стала его останавливать, даже когда он резко повернул налево, хотя там явно начиналась частная дорога. Мне было все равно. Мы проехали мимо маленького домика привратника, мимо высоких кованых ворот. Окна домика были темны, на дороге лежала мягкая грязь.
Мы двигались бесшумно. Проехали мимо, как пара призраков, призрачный конь с призрачным седоком, и я по-прежнему позволяла Морю идти, куда пожелает. Дело было не только в том, что я вымоталась и засыпала от усталости, но и в том, что я чувствовала: мы словно внутри одного из моих снов о Доле. Словно все сны упорно вели меня сюда, пока в моей жизни не осталось ничего настоящего: ни связей, ни любви, ни прошлого, ни будущего. Все, что у меня было, – это качающаяся голова Моря и изрытая дорожка, лес и запах фиалок в ночном воздухе. Море осторожно ступал по дорожке, выставив уши в сторону темной тени здания, появившейся на фоне неба.
То был маленький квадратный домик, стоявший лицом к дорожке и затененный деревьями. Ни в одном из его окон не горел свет, все ставни были закрыты, словно его бросили. Я с любопытством на него посмотрела. Мне вдруг показалось, что дверь должна быть открыта для меня.
Что меня должны здесь ждать.
Я подумала, что Море обойдет его и направится к конюшне, но он прошел мимо, тем же ровным шагом, словно у него на уме было что-то свое. Так уверенно, словно нам было куда идти, словно мы не просто так плутали под бледным весенним небом. Уши Моря снова повернулись вперед, когда мы вошли в тень большого каштана, раскинувшегося над дорожкой, и я почувствовала запах его цветов, толстых и плотных, как свечи.
Море перешел на рысь.
Нас вынесло за поворот, я сдвинула кепку со лба и склонилась вперед. После стольких лет мечтаний и надежд, ожидания и боязни мечтать я поняла, где я наконец оказалась. Я поняла, что вернулась домой.
Поняла, что это – Дол.
Это была та самая дорожка – дорожка, где мужчина, которого я звала папой, посадил на лошадь маленькую девочку и стал учить ее ездить верхом. Те самые деревья, тот самый запах в воздухе, та самая сливочная грязь под копытами Моря. И конь был тот самый. Здесь прежде водились и другие серые красавцы-гунтеры. Я знала это, не понимая, откуда я это знаю.
Шаг Моря удлинился, уши повернулись вперед.
На углу дорожки рос большой каштан, и я его узнала, я многие годы видела его во сне. Я знала, что дорожка отклоняется влево, и когда Море дошел до поворота и мы свернули, я знала, что увижу – и увидела.
Розовый сад был слева от меня, кусты низко обрезаны, между клумбами – дорожки, ведущие в белую решетчатую беседку, перед которой раскинулась ровно подстриженная лужайка, а за ней виднелась темная стена деревьев парка.
Справа от меня находилась стена террасы. Она шла вдоль фасада, огражденная низким парапетом с балюстрадой и каменными цветочными горшками, из которых свешивались пышные цветы, темневшие в ночи. В середине террасы короткая лестница с узкими ступенями вела к главной двери дома.
Тут я остановила Море, потому что он собирался обогнуть дом, направляясь туда, где, как я знала и, кажется, знал он, были конюшни с соломой на полу и сеном в кормушке; но я остановила его, чтобы смотреть и смотреть на дом.
То был красивый дом, с гладкой круглой башенкой с одной стороны, выходившей на розовый сад и на террасу. В центре фасада виднелась двустворчатая дверь из какого-то простого светлого дерева с медным молотком и большой ручкой-кольцом. Она словно приглашала меня войти, словно говорила, что это – мой дом, к которому я шла по всем трудным дорогам своей жизни.
В доме не горел свет, он казался покинутым, но я с бесконечной уверенностью соскользнула со спины Моря и затекшими ногами поднялась по ступенькам к входной двери.
Где-то позади, возле кухни, залаяла собака – настойчиво, тревожно. Я обернулась на пороге и посмотрела на террасу. Еще раз обвела взором розовый сад и лужайку за ним, темную тень лесов вдалеке, и очерчивающую все это высокую плавную линию холмов, окружавших и охранявших мой дом.
Я вдохнула запах ночного воздуха, сладкий чистый аромат ветра, дувшего с моря над свежей травой холмов. Потом я положила свою маленькую руку на широкое кольцо дверной ручки, повернула ее и навалилась на дверь – она медленно распахнулась, и я вошла в холл.
Пол был деревянный, по натертым половицам там и сям были разложены темные ковры. В холл выходили четыре двери и спускалась широкая лестница. У подножия лестницы стояла покрытая причудливой резьбой балясина. Пахло сухими розовыми лепестками и лавандой.
Я знала этот дом. Я знала его холл. Я словно знала его всю жизнь, целую вечность.
Собака в кухне лаяла все громче и громче. Скоро она разбудит весь дом, и меня ждет беда, потому что вторглась в чужие владения, в старых сапогах на новые ковры. Но мне было все равно. Все равно, что со мною станется; сегодня или вообще.
Увидев большую фарфоровую чашу на деревянной подставке, я с любопытством направилась к ней. Она была полна сухих розовых лепестков, семян лаванды и трав, она источала аромат. Я взяла горсть трав и понюхала, не заботясь о том, что они просыпались на пол. Это не имело значения. Я чувствовала, что ничто не имеет значения. Потом я услышала шум на террасе и каменных ступенях, и в дверях, заслонив лунный свет, появилась тень. Добрый голос тихо произнес:
– И что это ты делаешь?
Я повернулась и увидела в дверях работника, чье лицо наполовину было скрыто тенью. Обычное, грубое лицо, обветренное и загорелое, с морщинками от улыбки возле глаз. Карие глаза, большой рот, копна русых волос, простая домотканая одежда. Фермер из йоменов, не из господ.
– Что ты тут делаешь? – отозвалась я, словно это был мой дом, а он в него вломился.
Он не оспорил мое право задавать вопросы.
– Я смотрю за лесами, – вежливо ответил он. – Тут были браконьеры, из Петерсфилда, как я думаю. Капканы ставили пружинные. Ненавижу капканы. Я хотел их поймать и выгнать, когда увидел, что ты едешь по дорожке. Ты зачем здесь?
Я пожала плечами, беспомощно и устало.
– Я ищу Дол, – сказала я, слишком измученная, чтобы выдумать историю получше.
Слишком тяжело у меня было на сердце, чтобы сочинить ловкую ложь.
– Я ищу Дол, там мое место, – сказала я.
– Это Широкий Дол, – ответил он. – Поместье Широкий Дол, а это – Дол-Холл. Ты это место ищешь?
У меня подломились колени, и я бы упала, но он одним прыжком оказался рядом со мной, подхватил, вынес на ночной воздух, бережно посадил на ступеньку террасы и расстегнул воротник моей рубашки. Мерцание золотой застежки бросилось ему в глаза, и он осторожно потрогал ее загрубевшим пальцем.
– Что это? – спросил он.
Я расстегнула ее и вытащила наружу.
– Было ожерелье из розового жемчуга, – сказала я. – Но все жемчужины продали. Ма оставила мне ее, когда умерла, чтобы я показывала ее тем, кто будет меня искать.
Я помолчала.
– Но меня никто не искал, – в отчаянии произнесла я. – Так что я ее просто храню.
Он покрутил застежку в руках и поднес к глазам, чтобы прочесть надпись.
– Джон и Селия, – сказал он.
Он произнес эти имена как заклинание. Словно знал, что там написано, прежде чем посмотрел на застежку в лунном свете, словно знал, что именно увидит на потертом старом золоте.
– Кто они?
– Не знаю, – ответила я. – Наверное, ма знала, но мне не сказала. И отец тоже. Мне велели ее хранить и показывать, если меня придут искать. Но никто так и не пришел.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Взгляд его из-под растрепанной челки был пристальным и острым.
Я хотела сказать: «Меридон», – но остановилась. Я больше не хотела быть Меридон. Мамзель Меридон – танцовщица на лошади, Мамзель Меридон, акробатка на проклятой трапеции-убийце. Я не хотела, чтобы здесь меня настигли известия о Поразительном Балагане Гауера, я желала, чтобы та жизнь осталась далеко позади, словно ее никогда и не было.
Словно не было ни Меридон, ни Дэнди. Словно Меридон, как и Дэнди, умерла. Словно и не было их обеих вовсе.
– Меня зовут Сара, – сказала я.
И, поискав в уме фамилию, добавила:
– Сара Лейси.
18
Несколько следующих дней прошли как в тумане, как во сне, который не можешь вспомнить после пробуждения. Я помню, что человек, ненавидевший капканы, взял меня на руки, а я была такой усталой и измученной, что не воспротивилась прикосновению, а успокоилась, как успокаивается от ласковых прикосновений раненое животное. Он отнес меня в дом, там были еще двое, мужчина и женщина; над моей головой, лежавшей на его плече, звучали их быстрые вопросы и ответы. Домотканая материя щекотала мне щеку, она была теплой и пахла уютно, как сено. Он отнес меня наверх, и женщина уложила меня в постель, забрала мою одежду и принесла ночную рубашку самого тонкого батиста, я таких в жизни не видела, с тонкой белой вышивкой на манжетах, по подолу и вороту. Я слишком устала, чтобы возражать, сказать, что я – бродяжка, цыганское отродье и меня вполне устроит угол в конюшне.
Я повалилась в огромную кровать и уснула без сновидений.
Проболела я два дня. Человек, ненавидевший капканы, привез из Чичестера доктора, и тот спрашивал, как я себя чувствую и почему не ем. Он спросил, откуда я приехала, и я, сославшись на беспамятство, сказала, что ничего не помню, кроме своего имени и того, что ищу Дол. Он оставил какое-то гадкое лекарство – которое я предусмотрительно выбрасывала в окно всякий раз, как мне его давали – и постановил, что мне нужен отдых.
Человек, ненавидевший капканы, сообщил, что Море в безопасности, в конюшне, и что он хорошо ест.
– Отличный конь, – сказал он, словно это могло подтолкнуть меня рассказать, откуда он у меня и почему чумазая беспамятная цыганка ездит на первоклассном гунтере.
– Да, – ответила я и отвернулась от его пронзительного взгляда, закрыв глаза, словно собиралась спать.
И в самом деле уснула.
Я уснула и проснулась, когда на потолке играло солнце, а сквозь полуоткрытые окна доносились запах первых роз и воркование голубей. Я снова задремала, а когда проснулась, женщина принесла мне бульон, бокал портвейна и фрукты. Я съела суп, но к остальному не притронулась и снова уснула. В те дни я не видела ничего, кроме света на потолке спальни, и ничего не ела, кроме супа.
Однажды утром я проснулась, не ощущая ни лени, ни усталости. Я потянулась, как большая кошка, коснувшись пальцами ног изножья кровати и вытянув руки в стороны, потом откинула тонкие льняные простыни, подошла к окну и открыла его.
Ночью шел дождь, и солнце мерцало на мокрых листьях и цветах розового сада, а от лужайки поднимался пар. Каменный пол террасы подо мной был темно-желтым там, где еще стояли лужи, и светлее там, где подсыхало. За террасой виднелась дорожка с гравием, по которой мы с Морем приехали в первую ночь, за ней – розовый сад с красивыми клумбами и тропинками между ними. Изящная деревянная беседка, выкрашенная в белый цвет, стояла слева; пока я смотрела на нее, в ее открытую дверь влетела ласточка с полным клювом глины для постройки гнезда.
За розовым садом на ровной зеленой лужайке пасся уверенный в себе Море, и его высоко поднятый хвост струился ему вслед серебряным потоком. Он выглядел чудесно, кажется, даже немножко округлился, пожив в хорошей конюшне, где его кормили отличным сеном и весенней травой. За лужайкой виднелась темная стена деревьев со свежей листвой: медные буки, красные, словно побеги розы, дубы с такими молодыми зелеными листьями, что они сияли цветом лайма, и милые буки, ветки которых походили на собранный складками обойный шелк. А за лесом, окружая долину стеной, стояли высокие чистые склоны холмов в белых меловых полосах от высохших ручьев, в мягкой зелени густых рощ в низинах. Небо над ними было ясного синего цвета, полного обещания, но слегка подернуто облаками.
Впервые в жизни я смотрела вдаль и понимала, что я дома. Что я наконец-то добралась до Дола.
Послышался стук лошадиных копыт, я взглянула на дорожку и увидела человека, ненавидевшего капканы, который подъезжал к дому верхом на неказистой коренастой лошадке. Рабочая лошадь, лошадь фермера, которая может тянуть повозку или плуг или служить охотнику по выходным и праздникам. Он осмотрел окна, остановил лошадь и увидел меня.
– Доброе утро, – приветливо сказал он, сняв кепку.
В утреннем солнце его волосы отливали бронзой, а лицо было молодым и улыбающимся. Я подумала, что ему года двадцать четыре; но серьезный молодой человек выглядел старше. На мгновение я вспомнила Джека, который и в сорок будет ребенком, если останется под каблуком у отца; но потом прогнала эту мысль. Джека больше не было. Роберта Гауера тоже. Не было Меридон и ее сестры. Я ничего не помнила.
– Доброе утро, – сказала я.
Я высунулась из окна, чтобы получше рассмотреть его лошадь.
Он уверенно сидел в седле, словно большую часть дня ездил верхом.
– Добрая рабочая лошадка, – заметила я.
– С вашим красавцем не сравнить, – ответил он. – Но мне подходит. Вам лучше? Сможете одеться и спуститься?
– Да, – сказала я. – Мне намного лучше. Но та женщина забрала мою одежду.
– Бекки Майлз, – отозвался он. – Она ее забрала, выстирала и отгладила. Все должно лежать в сундуке в вашей спальне. Я пошлю Бекки к вам.
Он повернул лошадь и проехал мимо главной двери к задней части дома и конюшням. Я захлопнула окно и открыла сундук в поисках одежды.
Рядом с ним стоял кувшин с теплой водой и таз – тонкого кремового фарфора с цветочками снаружи и букетиком на дне кувшина. Я плеснула себе в лицо водой и нехотя вытерлась льняным полотенцем. Оно было таким чудесным, что мне не хотелось его пачкать.
Я оделась и почувствовала, какая это роскошь, когда белье отглажено, а бриджи чистые. На воротнике старой рубашки Джека была аккуратная штопка – там, где я порвала его несколько недель назад. Я надела и старый жакет, не потому что мне требовалось согреться, а потому что чувствовала себя неловко и уязвимо в этом богатом и красивом доме в одной рубашке. Моя грудь явственно проступала сквозь хлопок рубашки; я натянула жакет, чтобы ее спрятать.
На туалетном столике, под самым чистым зеркалом, которое я видела в жизни, лежали расческа, серебряная щетка для волос, ленты, и стоял флакон духов. Я остановилась, чтобы причесаться. Волосы у меня, как всегда, были спутаны, буйные медные кудри вырвались из ленты, которой я попыталась их завязать. После третьего раза я оставила попытки и просто отвела волосы с лица, распустив их. Человек, ненавидевший капканы, не выглядел ценителем дамских мод. Он казался простым рабочим человеком, тем, кому можно было доверять, потому что он поступит честно с любым, как бы тот ни выглядел. Но дом, этот богатый красивый дом заставлял меня чувствовать себя неловко из-за того, что я одета мальчиком, а мои рыжие волосы свисают на спину. Дом был изысканным, и я сама тоже хотела быть изысканной, чтобы ему соответствовать. Я выглядела здесь неуместно, в этой поношенной рубашке и чужих сапогах.
В дверь постучали, и я пошла открыть. На пороге стояла женщина, которую он назвал Бекки Майлз. Она мне улыбнулась. Она была выше меня, крепкая женщина, начинающая полнеть, ее светлые волосы тронула на висках седина, на голове белел небольшой скромный чепец. Одета она была в темное платье с белым передником.
– Доброе утро, – приветливо сказала она. – Хорошо, что вы встали. Уилл меня прислал, чтобы я проводила вас в гостиную, когда вы будете готовы.
– Я готова, – сказала я.
Она повела меня, разговаривая со мной через плечо, пока мы спускались по узким ступеням винтовой лестницы и дальше, в холл.
– Я Бекки Майлз, – сказала она. – Мистер Фортескью нас нанял, меня и Сэма, чтобы мы присматривали за домом. Если вам что понадобится, вы позвоните в колокольчик, и я приду.
Я кивнула. Слишком многое нужно было осмыслить. Я хотела спросить, почему они должны мне прислуживать и кто такой мистер Фортескью, но она провела меня через затененный холл, стуча каблуками по натертому деревянному полу и тихо ступая по ярким коврам, открыла дверь и жестом пригласила меня войти.
– Я принесу вам кофе, – сказала она, закрывая за собой дверь.
Комната оказалась гостиной, ее стены были обиты шелком, таким светлым, что он казался почти сливочным, но в темных углах отливал розой. Диван под окном, усыпанный подушками глубокого розового цвета, огибал изнутри угловую башню, чьи окна выходили на розовый сад и поворот аллеи. Ковер, лежавший на натертом полу посреди комнаты, был кремовым с узором из бледных роз по краям. В полукруглой части комнаты, внутри башни, лежал еще один ковер – круглый, темно-вишневый. Возле камина стоял у стены клавесин, несколько столиков и удобные кресла, обитые розовой тканью. Среди всей этой розовости стоял человек, ненавидевший капканы, сжимая большими руками свою бурую кепку.
Мы улыбнулись друг другу, понимая, что нам обоим неловко.






