Меридон Грегори Филиппа
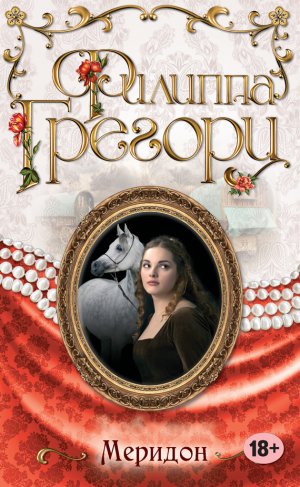
– Боже правый! – произнес он.
Бекки Майлз, ставившая на буфет супницу, обернулась и чуть не выронила ее от изумления.
– Мисс Сара! – воскликнула она. – Вы красавица!
Я зарделась – тщеславная и глупая, как потаскуха в базарный день.
– Спасибо, – ровным голосом сказала я и села на свое место во главе стола.
Мистер Фортескью уселся по правую руку от меня, а Бекки Майлз расставила на просторах красного дерева столько тарелок, сколько могла, чтобы скрыть то, что нас было только двое и занимали мы лишь один край стола.
– Доставила ли поездка тебе удовольствие? – вежливо спросил мистер Фортескью, принявшись за суп.
Я взглянула на него. Он не склонялся над тарелкой, чтобы хлебать, как можно быстрее пронося ложку от тарелки до рта. И хлеб он не крошил в суп – что уже сделала я. Я снова покраснела, но на этот раз от раздражения. У него хлеб лежал на тарелке, и он временами отламывал маленькие кусочки, чтобы намазать их маслом. Я попыталась сесть прямо, но мне показалось, что так я очень далеко от стола. Я была уверена, что у меня дрогнет рука, когда я стану подносить ложку к губам, и я пролью суп на новое платье. Вспомнив о салфетке, я разложила ее на коленях. Все словно нарочно было придумано для того, чтобы есть стало труднее. Но если так полагалось, я решила, что со временем приучусь.
– Да, хорошо прокатились, – рассеянно кивнула я.
Закончив с супом, мистер Фортескью не стал вытирать тарелку хлебом. Он ее так и отставил грязной, а на дне оставалась еще чуть ли не целая ложка. Я последовала его примеру, хотя смотрела на пропадавший даром суп с тоской, когда Бекки Майлз забирала у меня тарелку.
Потом Бекки поставила перед мистером Фортескью большой серебряный поднос с говяжьей грудинкой, и мистер Фортескью стал нарезать ее тонкими, как вафли, ломтиками, которые выложил на мою тарелку, а Бекки Майлз обошла стол и поставила тарелку передо мной. Запах жареной говядины, темной снаружи и розоватой изнутри, заставил меня склониться и потянуть носом, а рот мой наполнился слюной. Бекки Майлз принесла мне жареной картошки, хрустящей и золотистой, молодой, блестящей от масла, горку крохотной молодой моркови, горошек и полдюжины штуковин, похожих на маленькие зеленые камышинки.
– Ты любишь спаржу, Сара? – спросил мистер Фортескью, указывая на них.
– Не знаю, – честно ответила я. – Никогда прежде не пробовала.
– Тогда попробуй парочку, – посоветовал он. – Она с домашней фермы, из теплицы. Уилл Тайяк хочет поставить еще несколько теплиц и выращивать больше.
Я кивнула, и Бекки Майлз положила на мою тарелку две зеленые палочки.
Потом взяла большой соусник и щедро полила мясо темно-красной блестящей подливкой.
Я так хотела есть, что могла бы схватить нож, нарезать крупные куски и запихать все себе в рот ложкой. Но я заставила себя подождать и посмотреть, что станет делать мистер Фортескью.
Он копался целую вечность, пока я сидела с горящими от запаха еды ноздрями, умирая от желания приступить. Сперва ему положили все овощи, потом Бекки Майлз принесла ему вина и вина с водой для меня. Я бы предпочла выпить легкого пива, но не посмела об этом сказать. Потом, наконец, насыпав на край тарелки горку соли, мистер Фортескью взял нож и вилку, сразу, в обе руки, и стал резать и накалывать куски, и при этом еще умудрялся говорить, так, что незаметно было, что он жует.
Это мне было не по силам. Я ела изящно, как могла, но, пока я пыталась нарезать мясо, с края моей тарелки плеснула подливка, оставив на скатерти пятна. А со спаржи мне на колени закапало масло, и салфетка тоже запачкалась. Не будь я так смертельно голодна, я бы растеряла аппетит от неловкости, сидя напротив такого опрятного едока, как мистер Фортескью. Но я знала, что такое голодать, а он нет, и я была уверена, что различие между нами пролегало куда глубже манер. Он смотрел на еду как на что-то, что можно съесть или оставить, как пожелаешь, зная, что будут и другие блюда, если он захочет. Я же ела так, словно могла больше никогда не увидеть еды, и думала, что никогда не научусь легко относиться к обедам.
После мяса подали яблочный пирог и какое-то блюдо вроде крема, которое Бекки Майлз принесла в бокале. Потом появились сыры и печенье, портвейн для мистера Фортескью и рюмка сладкой желтоватой ратафии для меня. Я вспомнила, как Роберт Гауер предложил Дэвиду бокал портвейна после ужина. То было словно в другой жизни. Казалось, с тех пор прошли годы.
– А теперь, Сара, – мягко сказал мистер Фортескью, когда Бекки Майлз убрала со стола все, кроме вазы с фруктами и двух графинов, – будь мы в обществе, ты бы удалилась в гостиную, оставив меня с портвейном и сигарой. Но поскольку нас только двое, посидишь со мной?
– Да, – ответила я.
Казалось, он чего-то ждал. Потом, улыбнувшись, спросил:
– Могу ли я закурить? Знаю, отвратительная привычка, но…
Я посмотрела на него, не веря тому, что слышу.
– А почему вы меня спрашиваете? – поинтересовалась я.
– Потому что ты леди, – сказал он. – Джентльмен не может закурить в присутствии леди без ее особого позволения.
Я по-прежнему ничего не понимала.
– Да почему? – спросила я. – Ей-то что до этого?
У мистера Фортескью, похоже, не было объяснения.
– Думаю, все дело в почтительном отношении, – предположил он.
Мы посмотрели друг на друга в обоюдном недоумении.
– Никогда я этого не пойму, – сокрушенно сказала я. – Нужно, чтобы меня кто-нибудь учил.
Мистер Фортескью вынул маленькие серебряные ножнички и отрезал конец сигары, потом зажег ее и задумчиво выдохнул, глядя, как поднимается струйка дыма над тлеющим угольком.
– Я об этом размышлял, – начал он. – И вот что бы я предложил. Тебе нужно знать все, что должна знать сельская леди.
Он замолчал и улыбнулся.
– Ничего особенно сложного! Твоя мама выросла здесь, и ее единственным учителем была ее собственная мать. Она не видела города крупнее Чичестера, пока не поехала в Бат. А в Лондоне и вовсе не была.
Он взглянул на меня. Я сидела со спокойным лицом.
– Я поговорил со своей сестрой, Мэриэнн, как только услышал, что ты вернулась домой. Мэриэнн была близкой подругой твоей матери, и она предложила, чтобы ты, как только устроишься тут, завела себе компаньонку. К счастью, она знает подходящую особу. Это леди, которая прежде была гувернанткой. Приятная дама, вдова морского офицера, и сама – дочь сельского сквайра, так что понимает, какую жизнь ты будешь вести. Она готова приехать сюда и научить тебя тому, что тебе необходимо. Читать и писать. Вести дом и нанимать слуг. Тому, какие у тебя обязанности в доме, и что тебе делать в церкви и в делах благотворительности.
Он замолчал, ожидая моего ответа.
– Это совсем не скучно, – ободряюще сказал он. – Она научит тебя танцевать и играть на пианино, петь и рисовать. Научит ездить в седле боком, чтобы ты могла охотиться. Будет сопровождать тебя в обществе и советовать, кому тебе нанести визит, а с кем не встречаться.
Я все еще молчала. Мистер Фортескью налил себе еще бокал портвейна. Я знала, что от моего молчания ему не по себе. Он не мог решить, что оно означает.
– Сара, – ласково произнес он. – Если тебе что-то в этих планах не нравится, ты только скажи. Все, чего я хочу, это дать тебе самое лучшее. Я твой опекун до тех пор, пока ты не выйдешь замуж или тебе не исполнится двадцать один год, но я знаю, что ты – не обычная молодая леди. У тебя особые потребности и особые способности. Прошу, скажи, чего ты хочешь, и я изо всех сил постараюсь это тебе обеспечить.
– Я пока точно не знаю, – сказала я.
И я говорила правду, хотя во мне понемногу росла уверенность.
– Я с самого приезда сюда злюсь, но ни вы, ни этот Уилл Тайяк на меня внимания не обращаете.
Джеймс Фортескью улыбнулся мне сквозь дым сигары.
– Я слишком мало знаю об этой жизни, чтобы сказать, чего я хочу, – сказала я. – Ясно, что вы не намерены дать мне управлять поместьем, как делала моя мать. Я сегодня видела ее яблоневый сад, и Уилл сказал мне, что деревья сажали под ее присмотром.
– Нет, – твердо сказал мистер Фортескью. – Я не хочу, чтобы ты сама работала на земле. Это против желания твоей матери и совершенно против того, как сейчас работает поместье. Шестнадцать лет, с тех пор, как ты родилась и как умерла твоя мама, это поместье развивали люди, которые тут работают, для самих себя. Теперь здесь нет места сквайру старого образца, который управлял землей. Времена, когда нужен был сквайр Лейси, чтобы деревня стояла, давно прошли. Сейчас это – совместное предприятие тружеников, как и хотела твоя мать. Она мне прямо сказала, что не хочет, чтобы ее дочь стала еще одним сквайром Лейси. Она хотела, чтобы тебе достался дом, сад и парк – и ты сама увидишь, что это немалое наследство – но пахотную землю, выгон и Гряду она хотела передать в полное и законное владение деревне.
Я так и думала, что он это скажет.
– Так вы считаете, что я должна вести по большей части праздную жизнь? – спросила я.
Я постаралась, чтобы голос мой прозвучал ровно, и он не смог ответить так, чтобы угодить мне.
– Как пожелаешь, – добродушно сказал он. – Моя сестра Мэриэнн много трудится и получает большое удовольствие от благотворительной школы, которую основала сама для обучения детей-сирот и тех, кого бросили родители. Она замужем за лондонским олдерменом и видела много нищеты и нужды. Она работает больше, чем я! Но ей не платят. Она ведет очень достойную жизнь. Ты могла бы найти себе здесь много благородных занятий, Сара.
Я опустила ресницы, скрывая блеск в своих зеленых глазах. Я знала таких, как его сестра Мэриэнн. Когда я была поменьше, мы очень ловко шарили у них по карманам. Одна из нас садилась леди на колени и плакала, рассказывая, как па ее бьет, а вторая брала острый ножик, перерезала тесемки, которыми кошелек крепился к поясу, и убегала с добычей. Мы попались только однажды, и когда мы разрыдались в три ручья, леди заставила нас пообещать, что мы больше никогда так не будем, не то младенец Иисус не сможет спасти нас от преисподней. Мы с готовностью пообещали, и она дала нам шиллинг из вновь обретенного кошелька. Вот дурочка.
– Или можешь следовать своим интересам, – продолжал мистер Фортескью. – Если выяснится, что у тебя талант к музыке, или пению, или рисованию, можешь работать над ним. Или если твой конь чего-то стоит, можешь найти управляющего, и отдать его на племя.
– А есть люди, которые могут меня научить всему, что мне нужно? – спросила я. – Учителя музыки, танцев и манер? Я смогу всему выучиться?
Он улыбнулся, кажется, его тронул мой пыл.
– Да, – сказал он. – Миссис Редуолд может научить тебя всему, что тебе нужно. Она может научить тебя быть молодой сельской леди.
– Долго? – спросила я.
– Прошу прощения? – не понял он.
– Долго? – повторила я. – Долго мне придется учиться тому, как быть молодой леди?
Он снова улыбнулся, словно вопрос был забавным.
– Думаю, манерам человек учится всю жизнь, – сказал он. – Но, полагаю, ты будешь свободно себя чувствовать в хорошем обществе уже через год.
Год!
Я задумалась. На то, чтобы выучиться ездить без седла и сделать собственный номер, у меня ушло меньше времени. Она за два месяца выучилась трюкам на трапеции. Или навыки господ были очень трудными, или просто они включали кучу чуши и нелепостей, вроде того, что есть надо, сидя так далеко от стола, что точно уронишь еду.
Я ничего не сказала, и мистер Фортескью, склонившись, налил мне еще рюмку ратафии.
– На тебя много всего свалилось, – мягко сказал он. – И ты, наверное, устала, ты ведь первый день встала после болезни. Хочешь пойти в спальню? Или посидеть в гостиной?
Я кивнула. Я уже выучила кое-какие правила господ. Он имел в виду не то, что я устала, а то, что больше не хочет со мной разговаривать. Я почувствовала во рту дурной вкус и едва не сплюнула, но вовремя спохватилась.
– Да, я устала, – сказала я. – Наверное, лучше мне подняться в спальню. Доброй ночи, мистер Фортескью.
Он встал, когда я направилась к выходу, подошел первым и открыл мне дверь. Я замешкалась, думая, что он тоже хочет выйти, но потом поняла, что он открыл мне дверь из вежливости. Потом он взял мою правую руку, поднес к губам и поцеловал. Не успев подумать, я выхватила руку и спрятала ее за спину.
– Да что ты! – удивленно сказал он. – Я просто хотел пожелать тебе доброй ночи.
Я залилась краской от смущения.
– Простите, – хмуро сказала я. – Я не люблю, когда меня трогают. Никогда не любила.
Он кивнул, словно понял; но я готова была поспорить, что не понял.
– Доброй ночи, Сара, – сказал он. – Пожалуйста, звони в колокольчик, если тебе что-нибудь понадобится. Попросить Бекки Майлз принести тебе попозже чашку чая?
– Да, пожалуйста, – сказала я.
Чашка чая в постель была бы утешительно похожа на обед в постели в прежние дни, когда было слишком холодно, чтобы есть на улице, или когда мы так уставали, что уносили ужин на койки и просто роняли оловянные тарелки на пол, доев.
Я никогда не думала, что стану оглядываться на те времена с такой тоской и одиночеством, как теперь.
– И можешь называть меня Джеймс, если хочешь, – сказал он. – Или дядя Джеймс, если тебе так удобнее.
– У меня нет семьи, – тусклым голосом ответила я. – Я не стану притворяться, что вы – мой дядя, которого у меня нет. Буду звать вас Джеймс.
Он слегка поклонился и улыбнулся, но воздержался от того, чтобы снова взять меня за руку.
– Джеймс, – сказала я, собираясь уходить, – как часто вы приезжаете в поместье?
Он посмотрел на меня с удивлением.
– Раз в три месяца, – сказал он. – Приезжаю встретиться с Уиллом и посмотреть книги за квартал.
– А откуда вы знаете, что он вас не обманывает? – в лоб спросила я.
Он, казалось, был обескуражен.
– Сара! – воскликнул он, словно даже думать о таком было нельзя.
Но потом собрался и печально мне улыбнулся.
– Прости, – сказал он. – Нынче вечером ты так похожа на скромную юную леди, что легко забыть, что ты выросла в совсем другом мире. Я знаю, что он меня не обманывает, потому что он приносит мне счета за все свои покупки для поместья, и мы уговорились определять основные расходы каждый квартал, до того как он делает покупки. Я знаю, что он меня не обманывает, потому что вижу все счета по заработной плате в поместье. Я знаю, что он меня не обманывает, потому что деревня живет с долей в прибыли, и он старается получить прибыль побольше, чтобы доля его была посолиднее. И, наконец, самое важное для меня: я знаю, что он меня не обманывает, потому что он, несмотря на то что так молод, человек честный. Я доверял его кузену и ему доверяю.
Доверие, основанное на счетах и оговаривании расходов, я понять могла, но меня это не занимало. Не думаю, что я хоть раз видела честный расчет. Счета на покупки ничего не значили. И счета на оплату тоже. Доверие, основанное на том, что Уилл Тайяк был честным человеком, дорогого стоило. К тому же я узнала кое-что о том, как управляется поместье.
– Мельница платит аренду? – спросила я.
Удивление на лице Джеймса Фортескью оттого, что я думаю о подобных вещах, превратилось в улыбку.
– Будет, Сара, – увещевательным тоном произнес он. – Не забивай себе голову этими мелочами. Мельница не платит аренду с тех пор, как учредили корпорацию. Мельница, разумеется, дело отдельное, она работает так же, как кузница и возчик. Они берут особую плату или вовсе не берут денег с жителей деревни, а прибыль получают за счет тех, кто приходит извне. Когда они работают на деревню, то им выделяют долю в прибыли, а так они независимы. Когда деревня только начинала становиться на ноги, мы с кузеном Уилла, Тедом Тайяком, решили, что мельница не будет платить аренду, чтобы для жителей деревни она работала бесплатно. С тех пор так и повелось.
– Понятно, – тихо сказала я, потом сделала вид, что подавила зевок. – Ох, как я устала! Пойду ложиться.
– Сладких снов, – сказал он нежно. – Если тебя заинтересуют дела, завтра утром я преподам тебе первый урок: как читать книги поместья. Но для этого тебе надо отдохнуть. Доброй ночи, Сара.
Я улыбнулась ему, я выучилась этой улыбке у нее, давно, она так улыбалась, когда хотела быть очаровательной: прелестная детская сонная улыбка.
А потом медленно пошла к лестнице.
Для одного вечера я узнала достаточно. Джеймс Фортескью мог быть ловким деловым человеком в Бристоле и Лондоне – хотя я искренне в этом сомневалась, – но здесь, в деревне, его могли дурачить каждый день в течение шестнадцати лет. Он полностью доверял одному человеку, который был и счетоводом, и управляющим, и старостой. Уилл Тайяк решал, сколько тратить, а сколько объявлять прибылью. Уилл Тайяк решал, какая доля прибыли полагается каждому из общей казны. Уилл Тайяк решал, какова будет моя доля. И Уилл Тайяк родился и вырос в деревне, он не хотел, чтобы Лейси делали состояние на деревне или даже снова заявляли, что она принадлежит им.
Пальцы мои коснулись резной балясины у подножия лестницы, и я услышала в голове холодный голос, произнесший: «Это мое».
Оно и было моим. Эта балясина, этот затененный, сладко пахнущий холл, земля, простиравшаяся снаружи до склонов Гряды, и сама Гряда, уходившая к горизонту. Это было моим, и я не для того прошла весь путь домой, чтобы учиться быть миленькой Мисс из гостиной, этой тошнотворно розовой комнаты. Я пришла, чтобы заявить о своих правах и владеть своей землей, выручить свое наследство, чего бы мне это ни стоило, чего бы это ни стоило остальным.
Я вовсе не была той робкой нищенкой, которой они меня считали. Я была падчерицей мошенника и приемной дочерью цыганки. Мы всегда были ворами и бродягами, всю жизнь. Собственного коня я выиграла в пари, деньги я зарабатывала только верховыми трюками и шулерством. Я не одна из этих мягких сассекских уроженцев. На их нищих я не похожа. Я – неблагодарная деревенская девчонка, я – ребенок, брошенный матерью и выращенный цыганкой, проданный отчимом, умеющий обмануть и словчить по-всякому, как только могут на дороге. Я научусь читать расчетные книги, чтобы знать, сколько стоила эта хитрая выдумка с долей в прибылях и кто те мошенники, что меня обманывают. Я займу место в Холле как настоящий сквайр, а не как праздная тряпка, которой они хотели меня видеть. Я вернулась домой не для того, чтобы сидеть на диване и пить чай. Я пережила одиночество, отчаяние и разбитое сердце, чтобы получить нечто большее.
Тихо поднявшись к себе, я немного посидела на диване под окном своей спальни, глядя на залитый солнцем сад, на бледные облака, собиравшиеся справа и слегка розовевшие оттого, что к ним опускалось солнце.
«Это мое, – сказала я себе, и мне было холодно, словно на дворе стояла середина зимы. – Мое».
21
Я проснулась на рассвете, в цирковой, цыганский час, и сказала в бледный серый свет комнаты: «Дэнди? Ты не спишь?» – а потом услышала свой стон, словно меня смертельно ранили, когда вспомнила, что она не ответит, что я больше никогда не услышу ее голос.
Боль в моем сердце была так сильна, что я согнулась пополам, лежа в постели, словно меня мучил голод.
– Ох, Дэнди! – сказала я.
От ее имени мне стало хуже, бесконечно хуже.
Я отбросила одеяло и вылезла из постели, словно бежала от моей любви к ней и от потери. Я поклялась, что больше никогда в жизни не заплачу, и боль у меня в животе была слишком сильна для слез. Тоска росла во мне, как болезнь. Мне казалось, что я от нее умру.
Я подошла к окну, день обещал быть погожим. Меня ждал еще один день нежных уроков мистера Фортескью и спокойных прогулок с Уиллом. Оба они наблюдали за мной, оба хотели мной управлять, чтобы я не угрожала их маленькой уютной жизни, которую они себе устроили в теплой зеленой лощине среди холмов. Оба они хотели, чтобы я стала сквайром, которого им обещала моя мама, – тем, кто вернет землю людям. Я скорчила рожу, как мерзкая бродяжка, которой и была. Им повезет, им очень повезет, если я не переверну здесь все вверх дном за год. Нельзя отослать в мир младенца, дать ему умирающую приемную мать и пьющего отчима, и ждать, что он вернется домой благодетелем бедняков. Я видела жадных богачей и не удивлялась им. Но я никогда не сомневалась в голоде.
Роберт Гауер был голоден до земли и богатства, потому что знал холод и бедность. Я была сиротой без друзей, у которой ничего не осталось, кроме земли. Вряд ли я отдала бы ее только потому, что мать, которой я никогда не знала, думала, что так будет лучше.
Было рано, наверное, около пяти. В этом доме жили, как принято у господ, даже слуги не вставали раньше шести. Я достала из сундука одежду, надела свои старые бриджи и рубашку, убрала спутанные кудри под старую грязную кепку Роберта. Взяла сапоги и прошла в одних чулках, на цыпочках, из комнаты и вниз по лестнице, ко входной двери. Я ожидала, что на ней будет засов и тяжелая цепь, но, как и в день моего приезда, дверная ручка подалась под моей рукой. В Широком Доле не запирали дверей. Я пожала плечами: это их дело, не мое. Но я подумала о коврах и картинах на стенах, о серебре на буфете и решила, что им стоит благодарить судьбу, что о них не прослышали некоторые приятели па.
На террасе я остановилась и натянула сапоги. Воздух был сладок, как белое вино, чист и прозрачен, как вода. Небо быстро светлело, вставало солнце. День обещал быть жарким.
Если бы я сейчас кочевала, отправляться в путь надо было бы немедленно, а то и раньше, чтобы пройти как можно больше до полудня. Потом мы нашли бы место в тенечке для привала, стреножили бы лошадей и приготовили еду. Потом мы с ней убрели бы в лес, нашли речку, чтобы поплавать или поплескаться, искали бы дичь, или фрукты, или пруд, чтобы порыбачить. Вечно беспокойные, вечно праздные, мы бы не вернулись домой, пока солнце не начало бы холодать, и тогда мы снова стали готовить и есть, а может быть – будь рядом ярмарка или жди нас встреча – мы бы поехали дальше долгим прохладным вечером, пока солнце совсем не скрылось бы и тьма не стала гуще.
Но сегодня я не кочевала.
Я нашла место, которое искала всю жизнь. Я была дома. Мои кочевые дни, когда дорога разматывалась впереди серой лентой и всегда впереди ждала еще одна ярмарка, закончились прежде, чем мое девичество. Я приехала в край, который могла назвать своим, который должен был принадлежать мне так, как ничто никогда не принадлежало тем растрепанным девчонкам.
Странно, но в то утро это так мало меня радовало.
Я обошла дом к конюшням. Кладовая тоже была открыта, седло и уздечка Моря были вычищены и повешены на место. Я сняла седло, положила его на руку, а уздечку бросила через плечо. Рукой я придерживала мундштук, чтобы он не звякал и никого не разбудил. Я в то утро не вынесла бы пустых разговоров ни с кем.
Это тоже было странно.
Не думаю, что когда-либо прежде я так хотела побыть одна, я всегда спала в караване с тремя другими, иногда с четырьмя. Но когда живешь кучей, учишься оставлять соседа в покое. А в этом большом доме, где было столько комнат, мы словно жили друг у друга в карманах. Вместе обедали, говорили, говорили и говорили, и все хотели знать, не нужно ли мне что-нибудь. Словно мне что-то могло быть нужно, словно я могла хотеть чем-нибудь заняться.
Я прошла через розовый сад, где раскрывали розовое нутро бутоны, когда лепестки согревались на раннем солнце, и открыла ворота. Море вскинул голову, увидев меня, и пошел мне навстречу, выставив уши. Он опустил гордую голову, чтобы я надела на него уздечку, и я перекинула через его шею поводья. Он стоял как вкопанный, пока я поправляла уздечку и надевала на него седло. В память о прежних временах я могла бы на него вспрыгнуть, но тяжесть у меня на сердце словно спустилась в сапоги, и я отвела его к камню для посадки рядом со ступенями террасы, словно была старухой при смерти.
Море сиял, как утреннее небо, его уши стрекали по сторонам, ноздри раздувались, он принюхивался к утреннему воздуху, пока солнце высушивало росу. Он забыл, как идти, самый тихий его шаг срывался на подпрыгивающую рысцу, которая перешла бы в рысь, если бы я позволила. Я сдерживала его, пока мы двигались по шумным камням перед домом, но как только мы выехали на утоптанную грязь на аллее, я позволила ему перейти на рысь, а потом и на быстрый легкий галоп.
В конце аллеи я его придержала. Я не хотела ехать в деревню. Рабочие люди рано встают, я знала, что фермеры просыпаются с зарей, как я сама. Я не хотела, чтобы они меня видели, я устала от того, что на меня смотрят. И мне надоело, что мне все время что-то говорят. Учат, уговаривают, убеждают, словно я – младенец в дамской школе. Если еще хоть кто-нибудь расскажет мне, как управляют Широким Долом – словно я должна быть рада, что они каждый день и час разбазаривают мое наследство, – я скажу им, что я на самом деле думаю об их нелепом разделении прибыли!
А этого делать нельзя – я пообещала себе держать язык за зубами, пока не пойму, что собой представляет этот новый мир, мир господ.
Я повернула Море на лондонскую дорогу, по которой мы приехали сюда много ночей назад, убегая от того, что казалось теперь другим миром. На дорогу, по которой мы медленно-медленно шли в темноте, в незнакомом краю, словно нас тянуло магнитом в то единственное место в мире, где нам ничто не угрожало. Где меня ждали домой – вот только, вернувшись, я оказалась совсем не той девочкой, которую они ждали.
Меня вдруг поразило, когда Море мягко ступал по дороге, что я для них тоже оказалась горьким разочарованием. Они все эти годы ждали нового сквайра, созданного по образу и подобию моей настоящей матери: заботящегося о людях, желающего освободить их от бремени пожизненного труда на полях другого человека. А вместо этого на их пороге появилась бродяжка-пацанка с жестким лицом, которая не выносила даже прикосновения руки к своей, которую учили не заботиться ни о ком, кроме себя самой.
Меня передернуло. Их мечтам я помочь не могла. У меня была своя мечта о Доле, и в моих мечтах он не был местом, где я с подозрением смотрела на джентльменов, гадая, не дурачат ли они меня. В моих мечтах Дол был местом, где земля улыбалась, местом, которое я признавала своим домом!
Все мы были глупыми мечтателями. Мы все заслужили свое разочарование.
Я тронула Море, он закинул голову и пошел ровным легким галопом. Вскоре мы вышли на лондонскую дорогу, и я придержала его, гадая, повернуть на север к Лондону, или на юг, к морю. Пока я размышляла, на дороге появился человек, ведший в поводу лошадь.
Сперва я посмотрела на лошадь. Гнедой мерин, чистокровный. С примесью арабской крови, подумала я. Красивое, с изогнутой шеей, большеглазое и гордое животное. Он страшно хромал, левая передняя нога, видно, так болела, что он едва мог на нее опираться. Я с удивлением посмотрела на человека, который вел лошадь. Человека, который мог себе позволить купить почти безупречное животное, а потом настолько дурно с ним обращаться, что оно так серьезно пострадало.
Когда я взглянула на него, у меня перехватило дыхание. Я видела нарисованных ангелов, нарисованных давным-давно в церквях в дальних странах, и он был прекраснее всех рисунков, которые я когда-либо видела. Его голова была не покрыта, и волосы у него вились, как у статуи Купидона. Он смотрел на дорогу под своими хорошо начищенными сапогами для верховой езды, и его совершенный рот был искривлен в обворожительной гримасе неудовольствия. Черты его лица, скулы, нос были так тонко очерчены, словно весь он был четкой линией на бумаге. Но сейчас все эти черты были обращены вниз – глаза под изогнутыми светло-коричневыми бровями, рот, взгляд, устремленный на землю. Он даже не услышал шагов Моря и не заметил меня, пока чуть не столкнулся со мной.
– Доброе утро, сэр, – уверенно сказала я.
Я была убеждена, что он обо мне не слышал – он не был похож на человека, знающегося с кем-то, вроде Уилла Тайяка. На предательскую копну моих рыжих кудрей была натянута старая кепка, жакет я застегнула. Я знала, что сойду за паренька, и по какой-то причине хотела посмотреть на его обращенное вверх лицо – обращенное ко мне, ведь я сидела на коне, куда выше его.
Он вздрогнул при звуке моего голоса, и ноги его поехали по белой меловой пыли. Я догадалась, что он какое-то время назад напился и еще не до конца протрезвел. Его голубые глаза были затуманены, я увидела, как он их с усилием сводит, пытаясь на мне сосредоточиться.
– Доброе утро, – пролепетал он. – Черт, утро ведь?
Он хихикнул, и ноги его сами собой сделали пару шагов мне навстречу.
– Слушай, парень, – сказал он добродушно. – Где я, черт меня возьми? Ты не знаешь? Далеко от Хейверинг-Холла?
– Я не из этих мест, – ответила я. – Эта дорога ведет в деревню, к поместью Широкий Дол. Хейверинг-Холл тут где-то неподалеку, но я точно не знаю, в какой стороне.
Он оперся о шею лошади, чтобы устоять на ногах.
– Это деревенская дорога? – радостно спросил он. – Так это же замечательно – я так понимаю, я выиграл!
Его сияющая улыбка была такой счастливой, что я тоже невольно улыбнулась.
– Знаешь, – глуповато хихикнул он, – я ведь поспорил с Томми Харрапом на триста фунтов, что попаду домой раньше его. А его тут нет!
– А это его дом? – озадаченно спросила я.
– Нет! – нетерпеливо ответил молодой человек. – Петуорт! Петуорт. Мы с ним были в таверне «Брайтонская красотка». Он заключил пари. Ему было ехать дальше, чем мне, поэтому я дал ему фору. Но теперь я выиграл! Триста фунтов!
– А откуда вы знаете, что он еще не дома? – спросила я.
Я понимала, что наблюдаю первостатейную пьяную дурь, но не могла не смеяться, глядя на его веселое беспечное лицо.
Он внезапно посерьезнел.
– Священник! – сказал он. – Ты прав, парень. Это часть пари. Мне надо, чтобы священник засвидетельствовал время, когда я вернулся домой. Толковый ты парень! Вот тебе шиллинг.
Он запустил руку в глубокий карман сюртука и стал в нем шарить, пока я ждала.
– Пропал, – скорбно произнес он. – Пропал. Не знаю, где я его потратил. Ты-то знаешь, что я его не тратил. Но его все равно нет.
Я кивнула.
– Я тебе напишу расписку, – внезапно просиял он. – И расплачусь, когда получу содержание на следующий квартал.
Он помолчал.
– Нет, не получится, – поправился он. – Я его уже получил и потратил. Я тебе заплачу из того, что получу на содержание через квартал.
Он замолчал, прислонившись к плечу лошади.
– Такая путаница выходит, – расстроенно сказал он. – Я, по-моему, уже в двадцатый век залез.
На это я громко рассмеялась, не в силах сдержаться, и он посмотрел на меня, готовый обидеться.
– Злорадствуешь, да? – спросил он.
Я покачала головой с серьезным лицом.
– Потому что если да, то я тебя отшлепаю шпагой, – пригрозил он.
Он пошарил под полами своего сюртука и не обнаружил шпаги.
– Заложил, – сообщил он и доверительно мне кивнул. – Как и все остальное.
– Кто вы? – спросила я, раздумывая, отвести мне его в Хейверинг-Холл или пусть идет своей дорогой.
Он выпрямился во весь свой небольшой рост и изысканно мне поклонился.
– Перегрин Хейверинг, – сказал он. – Наследник поместья Хейверингов и славного имени. Я лорд Перегрин Хейверинг, если тебе правда интересно. Пьян как сапожник и гол как сокол.
– Проводить вас домой, милорд? – почтительно спросила я, слегка улыбаясь.
Он поднял на меня взгляд, и было что-то в его детских голубых глазах, отчего я подумала, что рада ему служить, каким бы он ни был пьяницей и мотом.
– Я бы хотел купить твоего коня, – сказал он с величайшим достоинством. – Или, по крайней мере, поменяться. Можешь взять моего. А я возьму твоего.
Я даже не взглянула на гнедого.
– Нет, милорд, – вежливо ответила я. – Мы с этим конем привыкли друг к другу, и мне не подойдет никакой другой. Но если вы соблаговолите сесть позади меня, мы можем поехать в Хейверинг-Холл, ведя вашу лошадь в поводу.
– Ты прав, – сказал он с внезапной решимостью очень пьяного человека. – Ты прав, парень.
Тут он остановился и взглянул на меня.
– А ты вообще кто? – спросил он. – Ты ведь не из наших? Не из наших конюхов или еще кого?
– Нет, милорд, – ответила я. – Я из Широкого Дола. Я тут недавно.
Он кивнул, вполне удовлетворившись этой полуправдой; а я на этом остановилась. Он был слишком пьян, чтобы что-нибудь понять, кроме самых простых объяснений, и, как бы то ни было, я хотела отвезти его домой. Я была уверена, что без меня он дорогу домой не найдет. Денег у него не было, это я знала, но если он и дальше будет бродить по дороге в таком состоянии, кто-нибудь его ограбит и заберет его тонкое белье и кружева. По какой-то причине, о которой я не стала раздумывать, я не была против того, что он сидит на Море позади меня и держит меня за талию. От его прикосновения я не сжалась. Он ловко сел позади, а руки его на моей талии лежали тепло и спокойно. Море не возражал против дополнительной ноши, просто пошел шире. Прекрасный гнедой гунтер похромал следом.
– Я не очень знаю дорогу, милорд, – сказала я.
– Я покажу, – уверенно ответил он.
А через минуту я ощутила тяжесть его головы на своем плече – он повалился вперед и прислонился ко мне. Уснул, как младенец.
В Хейверинг-Холл можно было попасть через двое ворот, хотя тогда я этого не знала. Одни выходили на лондонскую дорогу, и мимо них лорд Перегрин уже беспечно проследовал на своем пути; но были и вторые, вернее, калитка, ведшая к дому с деревенской дороги. Я бы ее пропустила, и кончилось бы все тем, что я привезла бы лорда Перегрина завтракать в Широкий Дол, если бы по дороге мы не встретили Уилла Тайяка, направлявшегося в Мидхерст, чтобы узнать, не одолжат ли ему там лишнюю борону. Он с удивлением взглянул на двойную ношу Моря, а потом узнал меня с лордом Перегрином за спиной.
– Сара! – воскликнул он. – Что вы тут делаете? Да еще с лордом Перегрином!
Я бросила на него спокойный взгляд.
– Он пьян, – коротко сказала я. – Сам домой не доберется. Что мне было делать? Бросить его на дороге, где стоял?
Уилл колебался.
– Как пожелаете, Сара, – вежливо ответил он.
Ясно было: он уверен, что поступить именно так было бы разумно, даже предпочтительно.
– Куда вы его везете?
– В Хейверинг-Холл, – сказала я. – Но он уснул раньше, чем сказал, куда ехать. Я сама смогу его найти, он недалеко?
Уилл кивнул, неодобрительно выпрямившись.
– Тропинка, уходящая влево, прямо перед бродом, – сказал он. – Если поедете по ней, выйдете к дому. Его мать, вдовая леди Клара, дома. Но они там живут по-городскому, Сара. Все еще спят. На ногах будут только слуги.
– Хватит и слуг, – сказала я. – Они его уложат в постель и отведут лошадь в конюшню. Видишь, как она хромает?
– Сразу заметил, – отозвался Уилл. – Похоже, он потерял подкову и проскакал так несколько миль. Остается только надеяться, что копыто не повреждено. Ваш серый вынесет двоих? А то я могу посадить этого себе за спину, если хотите, чтобы я отвез его домой.
Я хотела ответить, но слова застряли у меня в глотке, когда я вспомнила, как мы с ней ехали с моря, и она сидела передо мной, и ветер бросал ее волосы мне в лицо, пока мы скакали галопом по мягкой траве на обочине. Я помнила ее запах, вкус соли на ее волосах, теплый бриз, дувший мне в лицо. Тогда Море в последний раз вез двоих.
Я невольно поправила руки лорда Перегрина на своей талии, словно старалась надежно удержать ее у себя за спиной.
– Он сможет везти двоих, ему не впервой, – хмуро сказала я, тронув Море коленями, чтобы он пошел.
– Я приеду в Дол-Холл позже, когда съезжу по делам, – крикнул мне вслед Уилл. – Поедем кататься сегодня днем.
Я кивнула. Говорить я не хотела. Память о том дне снова разбудила у меня в животе боль, словно я глотнула обжигающего яда. Не думая, я слегка откинулась назад, чтобы качающейся голове лорда Перегрина было удобнее у меня на плече, будто он мог меня утешить своим пьяным бездумным теплом.
Уилл был прав, Хейверинг-Холл оказалось легко отыскать. Тамошняя дорога заросла куда больше, чем дорога Широкого Дола – по ней мало ездили. Кареты въезжали в главные ворота с лондонской дороги, а здесь проходили только грузовые телеги и браконьеры. На дороге была глубокая колея, я пустила Море медленно и ровно. Гнедой позади нас пару раз споткнулся, он смертельно устал. «Лорд Перегрин глупо поступает, пренебрегая такой славной лошадью», – подумала я. Потом пожала плечами. Я видела этих мелких помещиков на ярмарках и представлениях. Они редко заботятся о своем имуществе, даже о том, которое любят. Этот ослепительный бездельник был самым высокородным из всех, кого я видела. Я не сомневалась, что он должен быть еще беспечнее.
Внезапно справа от дороги взлетел из кустов фазан, и Море встревоженно отпрянул. Птица, ругаясь, метнулась между деревьями, я протянула руку назад, чтобы удержать лорда Перегрина. Он качнулся вместе с лошадью, словно был рожден для верховой езды, пусть и во сне. Я услышала, как он лениво усмехнулся, и почувствовала, что улыбаюсь, будто он пошутил.
– Мне снился сон, – произнес он радостно, как дитя. – Сон, что я дома, в постели. Какого черта, мы где?
– Я вас везу домой, сэр, – почтительно ответила я. – Думается мне, вы задремали.






