Город (сборник) Кунц Дин
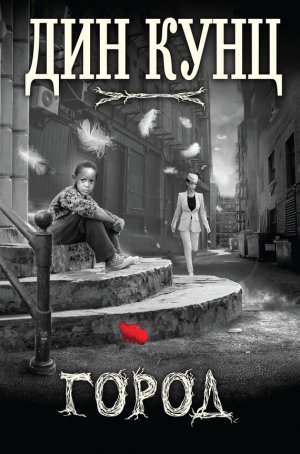
– Ты знаешь, Утенок.
– Нет, не знаю. Я сбит с толку. Сбит с толку, потрясен и трепещу от благоговения.
– Ты только думаешь, что сбит с толку.
– Я знаю, что сбит с толку. Так думаю. Так оно и есть.
– Твое недоумение только на поверхности, Утенок. Глубоко внутри ты все понимаешь, и это главное. Со временем недоумение уйдет, а понимание поднимется на поверхность.
Она спустилась по ступенькам на дорожку. Ей перила не требовались.
Я не двигался, еще не придя в себя.
– Я бы хотел, чтобы вы не уходили.
Когда она повернулась, с улыбкой на лице, в строгом темно-сером костюме и аккуратной шляпке, я подумал о Мэри Поппинс. Держи она в руке не большущую сумку, а зонтик, я бы не удивился, если бы она открыла его, поймала ветерок и полетела вдоль улицы.
– Больше я тебе помочь не могу. Я уже дала тебе больше, чем собиралась. Ты должен сам строить свое будущее, день за днем, безо всякого моего участия. Как я и говорила раньше, все, что произойдет потом, зависит от людей, которые живут в домах на этих улицах. Твоя часть зависит только от тебя.
– А если я допущу ошибку и умрут какие-то люди?
– Люди умирают каждый день. Принимаются неправильные решения, и они имеют последствия. Смерть – часть жизни. Если станешь думать об этом, исходи из того, что ты рожден в мире мертвых, поскольку все когда-то умрут.
По дорожке она направилась к тротуару, повернула направо, помахала мне и ушла.
Я наблюдал за ней, пока видел среди деревьев, теней и солнечных лучей, которые пробивались сквозь листву.
Поскольку я знал, что увидел в сумке, пусть и не понял смысл увиденного, потому что осознание пришло гораздо позже, я не скажу, что в ней находилось. Это моя жизнь, о которой я вам рассказываю, вот и рассказывать я буду, как представляется мне наиболее логичным. Все в свое время.
После того как мисс Перл исчезла из виду, я на подгибающихся ногах пошел в дом и лежал на диване в гостиной, пока полностью не ушло головокружение.
Заверил себя, что бы ни случилось, какая бы ни пришла беда или катастрофа, в долгосрочной перспективе все будет хорошо. И если на то пошло, второго июля 1967 года ничего серьезного еще не произошло.
В то же утро мистер Тамазаки из «Дейли ньюс» позвонил в лос-анджелесский Ниши Хонган-дзи[44]. Одно из помещений этого храма отвели под хранилище вещей интернированных калифорнийцев, которых отправили в лагеря во время Второй мировой войны. Часть вещей так и осталась невостребованной, и хранитель приглядывал за ними, даже спустя столько лет. Кроме того, хранитель вел списки людей, которых отправили в лагеря для перемещенных лиц, а также списки тех, кто хотел, чтобы их местонахождение, при необходимости, стало известно другим обитателям этих лагерей, и сообщал храму обо всех своих переездах.
Мистер Тамазаки хотел узнать, не знает ли храм о человеке, сосланном в один из десяти лагерей Военного управления перемещений, а ныне проживающего неподалеку от города Чарльстон, штат Иллинойс. Как выяснилось, женщина по имени Сецуко Нозава, сосланная в лагерь Моаб, штат Юта, проживала в самом Чарльстоне. Она заранее дала согласие, чтобы ее адрес и телефон выдавался любому, кто поинтересуется ее особой, так что мистер Тамазаки получил их незамедлительно.
Миссис Нозава оказалась чрезвычайно говорливой дамой. Мистер Тамазаки узнал, что в двадцать лет ее освободили из Моаба, теперь ей сорок четыре, и ее муж стал удачливым предпринимателем. Им принадлежала автомобильная мойка, две химчистки и многоквартирный дом. Их младшая дочь училась на втором курсе Северо-Западного университета в Эванстоне. Их старшая дочь заканчивала Йельский университет. А их сын готовился стать магистром делового администрирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она любила играть в бридж, обучала заинтересованных подруг оригами, осваивала французскую кухню по книге Джулии Чайлд[45], находила, что «Битлз» слушать невозможно, и обожала музыку «Осмондз»[46], хотя Юта вызывала у нее неприятные ассоциации.
Когда мистеру Тамазаки наконец-то удалось вклиниться в ее монолог, озвучить причину своего звонка и объяснить, какая его интересует информация, миссис Нозава сразу согласилась ему помочь. В тот момент она стояла за стойкой одной из химчисток, но заверила, что найдет замену в течение часа.
После ухода мисс Перл я ушел в дом, чтобы полежать на диване, и тут же уснул. Полчаса пребывал в полной отключке, пока меня не разбудил настойчивый трезвон дверного звонка. Естественно, за дверью стоял двенадцатилетний очкастый саксофонист.
У открытой двери, щурясь и моргая от яркого дня, так разительно отличающегося от черноты глубокого сна, я напомнил себе, что солнце – непрерывно бурлящий ядерный котел, расположенный в девяноста трех миллионах миль от нашего порога.
Мое состояние Малколм оценил по-своему.
– Начиная пить до полудня, ты умрешь от цирроза печени до того, как станешь знаменитым.
– По крайней мере, когда меня найдут мертвым, я буду одет стильно, – ответил я, не со злобы, а чтобы указать, что брючный ремень у него в трех дюймах от сосков.
– И что это должно означать?
– Ничего. Я крепко спал и не знаю, что говорю. Заходи.
Волоча ноги, он миновал порог, зацепился за коврик в прихожей, проковылял в гостиную. Я находил его неуклюжесть такой милой, крестом, сравнимым с уродством Квазимодо в «Соборе Парижской Богоматери», только не столь трагической и гротескной. Поскольку он никогда не извинялся и не выказывал смущения, продвигаясь по комнате, оставалось только восхищаться его решимостью изображать грациозность, а учитывая его блестящую игру на саксе, не вызывало сомнений – он сумел бы завоевать любовь красивой цыганки, чего не удалось Квазимодо, при условии, что когда-нибудь красивая цыганка его бы нашла.
– Надеюсь, я не зря притащил мой топор.
– Слушай, для меня это, как скрип ногтей по грифельной доске. Пожалуйста, не называй его топором.
– А как мне его называть?
– Сакс, саксофон, духовой инструмент, язычковый инструмент, мне без разницы.
– Если тебе без разницы, я буду называть его топором. Тебе надо чуть расслабиться, чел. Почему ты улегся спать в половине одиннадцатого утра?
– Потому что ночью не выспался, – солгал я. Лгать, конечно, плохо, зато Малколм не записал меня в психи. Что неминуемо бы произошло, расскажи я ему о женщине, которая была городом – или его душой, – и о содержимом ее большой черной сумки.
– Слушай, а ты знаешь, что всегда гарантирует тебе крепкий ночной сон?
– Послушать, как ты играешь?
– Стакан молока перед тем, как ты уляжешься в кровать. Чтобы запить таблетку бенедрила.
– Я не принимаю снотворное и никогда не буду.
– Бенедрил – не снотворное. Это препарат против аллергии.
– У меня нет аллергии.
– Тогда тебе показаны прогулки в сельской местности, Иона.
– Ты хочешь играть?
– А чего ради, по-твоему, я принес топор?
И мы заиграли. Происходило все в 1967 году, когда история рок-н-ролла насчитывала не так уж много лет, и мы любили эту музыку, действительно любили, а что-то и играли. Но, по правде говоря, нас следовало считать реликтами, родившимися слишком поздно, потому что душой и сердцем мы принадлежали эре свинга. Поскольку днем раньше мы выяснили, что оба знаем композитора-песенника и аранжировщика Сая Оливера, мы исполняли партии рояля и саксофона, как слышали их на виниле, стараясь не отходить от его аранжировки песни «На берегу в Бали-Бали»[47], которую он сделал для оркестра Джимми Лансфорда, великого музыкального коллектива своего времени, а потом свинганули мелодию «Да, конечно», аранжировку которой Оливер сделал для Томми Дорси.
Мы играли уже минут пятнадцать, когда раздался дверной звонок. Сидя за роялем, я видел, что на крыльце стоит девушка. Лет семнадцати, с забранными в конский хвост волосами.
Малколм тоже ее видел.
– Это моя сестра, Амалия, – и пошел открывать дверь.
Если тебе десять, ты уже способен понять, что женщина красивая, но оценить это можешь, если только она лет на десять – больше даже лучше – старше тебя, и вы живете в разных мирах. Более молодые представляются в лучшем случае незваными гостями, в худшем – вызывают раздражение, но все равно воспринимаются чужаками, мешающими мальчишкам делать то, что им хочется.
Впервые увидев Амалию Померанец, я собрался невзлюбить ее, и первые полчаса у меня, возможно, получалось. Я признавал, что она симпатичная, но не считал красавицей, сравнимой с моей мамой, хотя не ставил под сомнение, что ее глаза удивительные, оттенком точно соответствовавшие леденцам «Лайвсейвер» со вкусом лайма. Мне не нравилось, как сестра Малколма одевалась, потому что ее стильность только подчеркивала отсутствие этого самого стиля у ее брата. В блузке в вертикальную сине-белую полоску и с короткими рукавами, в брюках клеш с широким красным кожаным поясом и большой пряжкой, в белых парусиновых туфлях на подошве и каблуке из синей резины, она напоминала Джиджет[48], которая перебралась с побережья в глубь материка и оделась в соответствии с модой шестьдесят седьмого года.
Думаю, я поморщился, увидев ее с кларнетом. Потому что, по моему тогдашнему мнению, основанному на составах великих оркестров эры свинга, женщинам в мире джаза отводилось только одно место – у микрофона.
Она даже не стала ждать, что ее представят.
– Привет, Иона, – начала с места в карьер, – если ты играешь даже в два раза хуже того, как мне говорили, тогда выступать тебе в «Карнеги-холле», забитом под завязку, прежде чем я встречу парня, с которым пойду на второе свидание. Если я вообще такого встречу. Не могу дождаться момента, когда ты застучишь по клавишам. – Она также принесла небольшую сумку-холодильник. – Это наш ланч. Только поставлю в холодильник и вернусь, – с тем и прошествовала на кухню в глубине дома.
Я мрачно глянул на Малколма.
– Ты не говорил, что у тебя есть сестра.
– Она классная, правда?
– Точно, вроде бы ничего.
– Лучше не бывает. Ты увидишь.
– Она не собирается играть на кларнете?
– Может, и сыграет, – ответил он. – В зависимости от того, захочет присоединиться к нам или нет.
– Дилетантка, – в моем голосе слышалось пренебрежение.
– Она хороша. Играет с девяти лет.
– Я играю с восьми.
– Да, но тебе только десять.
У меня не осталось слов, кроме: «Господи!» – и я перекрестился.
Из кухни Амалия вернулась только с кларнетом.
– Мне нужна веселая музыка, парни, потому что утро выдалось скучное. Я все постирала, половину погладила, прибралась на кухне, перемыла посуду после завтрака. – Тут она повернулась ко мне: – У моей матери слишком много дел, чтобы заниматься домашней работой. Надо выкурить две пачки «Лаки страйкс», провести два часа с миссис Яблонски, которая живет по соседству, анализируя грустные подробности семейной жизни других наших соседей, посмотреть все мыльные оперы, а потом и викторины, в которых она не раз и не два пыталась принять участие. Особенно ее раздражает, что не удается попасть в вечерние игровые шоу. Она хотела поучаствовать в «Угадай, кто я»[49], но речь шла о профессии, и она находила это несправедливым. И она хотела поучаствовать в «У меня есть секрет»[50], но все известные ей секреты касались семейных отношений наших соседей, многие из которых слишком рискованны для телевидения, – Амалия плюхнулась на диван. – Порадуйте меня музыкой, которая заставит меня забыть, что я – рабыня.
Мы сыграли ей Эллингтона. Начали с «Атласной куклы», перешли к «Прыгая от радости», пытаясь передать все очарование и мощь большого оркестра, хотя и понимали, что двум мальчишкам нечего и пытаться. Когда заиграли «Выходя на жизни ринг, мы всегда танцуем свинг», Амалия вскочила с дивана, схватила кларнет и присоединилась к нам. Мелодию она, похоже, знала не очень хорошо, но интуитивно чувствовала, как в нее встроиться.
– Великолепно, вы просто чудо, я развеселилась, – сказала она, когда мы закончили. – Время ланча. Если вы не хотите, чтобы я все съела сама, то должны помочь мне накрыть на стол, и я не желаю слышать отговорки, что «мальчикам-на-кухне-не-место».
Они принесла три потрясающих сандвича с колбасой, ветчиной, сыром и овощами, картофельный салат, макаронный с черными оливками и рисовый пудинг на десерт. Все приготовила сама, сандвичи между стиркой и мытьем посуды, остальное – днем раньше. Все было удивительно вкусным, и я не знал, что произвело на меня большее впечатление: ее кулинарные способности или манера есть. При росте пять футов и пять дюймов, стройная, как модель, она, судя по аппетиту, без труда могла съесть все, что принесла.
Аппетитом Малколм сильно уступал сестре, но его манера есть производила более яркое впечатление. Они взяли по одной тарелке, но Малколм положил на свою только сандвич. Для салатов воспользовался маленькими блюдцами, причем, если представить себе большую тарелку циферблатом часов, одно, с макаронным салатом, поставил точно на десять часов, а с картофельным – на два. Первый ел вилкой, второй – ложкой. Края сандвича срезал и отложил в сторону, есть так и не стал, то, что осталось, разделил на три равные части, как мне показалось, именно равные, с точностью до миллиметра.
Поскольку Амалия никак не прокомментировала застольные ритуалы Малколма, промолчал и я. С годами я видел, как нарастает его обсессивно-компульсивное расстройство, и мог не корить себя за то, что являюсь главной причиной такого его состояния, поскольку многие ритуалы появились у него задолго до нашего знакомства.
Я не стану говорить, что Амалия Померанец узурпировала застольный разговор, но она умело его направляла. Пыталась разговорить меня, и ей это удалось. Завороженный ею, я заливался соловьем, когда не набивал рот. Она больше не вызывала у меня неприязни, я просто не мог испытывать к ней неприязнь. Малколм тоже иногда вносил в разговор свою скромную лепту, но я не собираюсь рассказывать вам о том, что говорил он или говорил я. Во-первых, это неинтересно, во-вторых, я забыл практически все, за исключением сказанного Амалией. Она оказалась первым семнадцатилетним человеком, что мужского, что женского пола, соблаговолившим поговорить дольше минуты с десятилетним мальчишкой. В какой-то степени она, разумеется, притворялась, что ей интересны мои рассказы, но убедила меня, что не считает потерянным время, проведенное за одним столом с нами.
Мне хотелось знать, почему она выбрала кларнет, и ответила она без запинки:
– Чтобы раздражать моих родителей, раздражать до такой степени, чтобы они заставили меня практиковаться в гараже, где я могла дышать воздухом, который пахнет автомобильным маслом, резиной и плесенью, а не сигаретным дымом. Они соревнуются, мама и папа, кто быстрее заболеет раком легких. И в гараже я не слышу их бесконечного, давящего молчания.
– Твити они говорят больше, чем друг дружке, – добавил Малколм.
– Твити – попугай, который живет в клетке в нашей гостиной и с горьким негодованием наблюдает за нами, – объяснила Амалия. – По большей части, потому что терпеть не может сигаретного дыма. А сюсюканье родителей, когда они к нему обращаются, едва не сводит его с ума. По моему разумению, давным-давно у мамы с папой произошел какой-то серьезный конфликт, и они высказали все, что хотели сказать по тому поводу, после чего не простили ни друг дружку, ни себя, и теперь не хотят говорить между собой ни о чем. Наш отец – токарь, но не просто токарь, а еще и руководит бригадой токарей и, как я понимаю, зарабатывает хорошие деньги. Но, судя по другим токарям, которых я встречала, людям, с которыми он работает, может, эта такая особенность токарей: они молчаливые. Потому что он особо не говорит ни со мной, ни с Малколмом.
– Мы от него слышим, – вставил Малколм, – разве что: «Унеси его в гараж» или «Я всего лишь хочу посмотреть этот маленький телик и забыть про говняный день на работе! Неужели это надо объяснять вам обоим?».
– Но, по крайней мере, папа – не злой, – заметила Амалия. – Никогда не бил мать или нас, а это уже что-то. Он не злой и не безразличный.
– Он безразличный, – возразил Малколм.
– Да, – кивнула Амалия, – сейчас он безразличный, но, возможно, на самом деле он не такой. Родился не таким. Возможно, жизнь сделала его безразличным. Разочарование, сожаление и еще, кто знает, что сделали его таким. Может, он и хочет не быть таким, но вжился в эту роль, вмерз в нее и не знает, как выйти из нее.
– Отец таким родился, – заявил Малколм, – и меньше всего на свете ему хочется выйти из этой роли. – Он повернулся ко мне: – Амалия уезжает. Она получила полную стипендию, с питанием, местом в общежитии, со всем, в университете штата. Отбывает в сентябре. Она собирается стать писательницей. Очень талантливая.
Амалия очаровательно покраснела.
– Я не талантливая, Малколм, просто люблю язык, доверху наполнена словами, и есть у меня умение приставлять их друг к дружке. Но я не уверена, что мне следует ехать. Может, сначала лучше найти работу. Подождать несколько лет. Деньги на карманные расходы в стипендию не входят.
Малколм скривился.
– Будут у тебя карманные деньги. Пусть наш старик не хочет, чтобы ты училась в колледже, но все равно поделится с тобой какой-нибудь мелочью. И я тебя знаю. Найдешь работу на неполный день и все равно будешь получать одни пятерки.
Он отделил от макаронного салата все кусочки черных оливок, и не потому, что не любил их. Просто сначала съел макароны, а только потом – оливки.
– Почему твой отец не хочет, чтобы ты поехала учиться в колледж? – спросил я.
– Речь не о том, что он не хочет отпускать меня учиться в колледж, чтобы я стала писательницей. Просто он страшится того дня, когда уедет и Малколм. Тогда в доме останутся они двое и попугай, и это будет ад.
– Ему не нравится, что ты продолжишь образование, – гнул свое Малколм, – потому что ты уже превзошла его. Цитирую: «Померанцам не нужен колледж, они никогда в нем не учились, мы не водили дел с высоколобыми». – Малколм повернулся ко мне, и в его увеличенных линзами глазах я прочитал страх: он боялся, что его сестра откажется от стипендии. – Она не хочет ехать в университет и оставлять меня с ними, потому что я уже социальный изгой.
– Никакой ты не социальный изгой, Малколм, – Амалия покачала головой. – Да, ты неуклюжий, но это пройдет.
– Я – неуклюжий социальный изгой и горжусь этим. Если в сентябре ты не уедешь в колледж, это будет моя вина, целиком моя, и я не смогу с этим жить, и я вышибу себе мозги.
– Ты не вышибешь себе мозги, маленький братец. Ты падаешь в обморок при виде крови, и у тебя нет оружия.
– Оружие я раздобуду и умру до того, как эту самую кровь увижу. Так что тебе лучше уехать в колледж.
Я попытался помочь.
– Он уже не будет социальным изгоем после того, как я с ним поработаю, Амалия. И здесь живут дедушка Тедди и моя мама, а для них он всегда желанный гость.
Покончив с пудингом, мы так и не вернулись к музыке. Говорили, пока прибирались на кухне, потом сели за стол и снова говорили, а время летело очень быстро.
И одно, из сказанного Амалией о Малколме, мне не забыть никогда:
Он думает, что музыка в нем лишь благодаря моему присутствию рядом, поскольку он всегда видел меня с кларнетом в руках, но это неправда. Музыка, которую я играю, обусловлена железной решимостью и многочасовыми занятиями, и она – наперсток слюны в сравнении с океаном врожденного таланта Малколма. Ты слышал, как я играю, Иона. Моего мастерства вполне хватит для оркестра, выступающего на танцах в доме ветеранов зарубежных войн или даже в Лосином зале, но у Малколма, как, впрочем, и у тебя, настоящий талант, и он поднимется на самую вершину. Папу и маму музыка интересует не больше чемпионатов по шахматам, поэтому Малколм не верит, что каким-то образом его музыка доходит до их сердец, но она доходит, так же как доходят слова моих рассказов.
– Теперь ее лаймово-зеленые глаза смотрели на брата. – Без меня никто не будет поддерживать тебя и твою музыку. Вдруг я вернусь на Рождество и увижу, что ты забросил саксофон и завел себе попугая?
– Если ты не уедешь в сентябре в колледж, я вышибу себе мозги, – повторил Малколм.
– Даже если бы ты смог это сделать, где двенадцатилетний пацан добудет оружие?
– В таком городе, как наш, полно плохишей и нет недостатка в дегенератах, которые продадут ребенку что угодно.
– И ты знаешь многих этих дегенератов, так?
– Я их ищу, – ответил Малколм.
Они взяли в руки инструменты, чтобы уйти домой, около четырех часов, но мне не хотелось, чтобы они уходили. Я не хотел, чтобы уходила Амалия. И в равной степени не хотел, чтобы уходил Малколм.
Стоял на крыльце, наблюдая, как они пересекают улицу. Когда впервые увидел Амалию, подумал, что она симпатичная, но не красавица. Теперь не сомневался, что она суперкрасивая. Корил себя за то, что из-за одежды сравнил ее с Джиджет, пусть и не сказал об этом вслух, потому что теперь видел, с каким вкусом она одета. В сине-белой полосатой блузке и белых клешах с красным ремнем выглядела она замечательно. Иногда девушка может не обладать классическими лицом и фигурой, но одевается с таким вкусом, что, глядя на нее, ты не заметишь и дюжины красавиц, которые пройдут мимо обнаженными. Такой и была Амалия. А еще умной. И веселой. И заботливой.
Я влюбился. Само собой, в мои десять лет речь не могла идти о романтической любви. Я не начал откладывать деньги на обручальное кольцо и размышлять об идеальном месте для проведения медового месяца. Я полюбил ее точно так же, как любил дедушку Тедди и мою маму, как мистера Иошиоку. Я говорю о любви чистой и платонической, но такой сильной, что мне хотелось стать хозяином этого мира и положить его к ее ногам.
Тем временем в Чарльстоне, штат Иллинойс, Сецуко Нозава доказала, что слова у нее не расходятся с делом. Собственно, она сама так заинтересовалась расследованием, что не только доложила о результатах по телефону, но и написала мистеру Тамазаки из «Дейли ньюс» подробный отчет, который отослала по почте, и мне он оказался весьма полезным при восстановлении в памяти тех событий. Среди прочего, миссис Нозава посещала писательский семинар в университете, надеясь, что когда-нибудь сумеет написать книгу о годах, проведенных в лагере для перемещенных лиц, и она подумала, что составление этого отчета послужит ей хорошей практикой.
В компании своей собаки, Тосиро Мифунэ (названной в честь японского актера), она поехала на ярко-красном «Кадиллаке-Эльдорадо» в соседний город Мэттон. Будучи женщиной миниатюрной, ей приходилось класть на сиденье надувную подушку, чтобы возвышаться над рулем. Тосиро Мифунэ, большому шоколадному лабрадору-ретриверу, никакой подушки не требовалось.
В военной академии она припарковалась позади здания библиотеки кампуса, оставила оба левых окна открытыми, чтобы собака не перегрелась в жаркий июльский день. Она слышала всякие истории о студентах-хулиганах, но не боялась, что у кого-то из них возникнет идея проехаться на «Кадиллаке». Тосиро Мифунэ мягкостью характера не отличался от других собак этой породы, но миссис Нозава научила его рычать на манер разъяренного самурая и скалить огромные зубы, если кто-то пытался подойти к «Эльдорадо». Она знала, каких усилий воли это требует от ее пса: он предпочел бы не пугать людей, а лизать им руки. Но по возвращении она собиралась наградить его добрым словом и двумя печеньями.
Не так уж много студентов – кадетов, как называл их библиотекарь – находились в зале, когда миссис Нозава подошла к главной стойке. Несмотря на не самые приятные воспоминания о войне, она не боялась людей в форме, но ее тревожил вид тринадцатилетних мальчишек, одетых, как настоящие солдаты. Она сказала библиотекарю, мистеру Теодору Кеклу, что один из выпускников академии несколькими годами раньше оказал ей и ее мужу неоценимую услугу, и она всегда сожалела о том, что недостаточно отблагодарила юношу. Поэтому у нее возникло желание найти его теперь и выразить свою искреннюю благодарность.
К сожалению, пусть она и знала, что кадет закончил академию в пятьдесят девятом году, она не могла вспомнить его имя. Но даже восемь лет спустя ее не покидала уверенность, что она узнает его по фотографии. Она полагала, что в библиотеке должны храниться ежегодники с фотографиями выпускников. Мистер Кекл – позднее она описала его, как «длинную макаронину с торчащими, как пики, усами» – подтвердил ее предположение и отвел к полкам, на которых хранились все материалы, связанные с историей уважаемого учебного заведения, которое уже пятьдесят лет формировало у своих учеников бойцовский характер и вдохновляло на подвиги.
Открыв ежегодник с фотографиями выпускников 1959 года, она уже через минуту нашла Лукаса Дрэкмена и ксерокопировала его фотографию. Уходя, сказала макаронине с усами, что хочет показать ксерокопию мужу, чтобы получить подтверждение, что память ее не подвела.
Истомившийся на переднем пассажирском сиденье Тосиро Мифунэ принялся вилять хвостом и повизгивать от радости, увидев приближающуюся миссис Нозаву. Она осыпала пса добрыми словами, и печенья с ее пальцев он взял очень мягко, будто кролик, щиплющий траву.
Вернувшись в Чарльстон, она пошла в магазин канцелярских товаров, который принадлежал Кену и Бетти Норберт. Они с Бетти работали в некоммерческой организации по спасению бродячих собак и состояли в одном клубе рукоделия. Кен Норберт и мистер Нозава вместе играли в теннис и являлись членами торгово-промышленной палаты Чарльстона. Если бы этим магазином владели не Норберты, а кто-то еще, миссис Нозава все равно бы их знала.
Помимо канцелярских товаров магазин предлагал абонентские ящики. Тогда эта услуга еще не получила широкого распространения. Альтернатива состояла в отправке почтовой корреспонденции «До востребования». Ее получали, отстояв очередь к клерку за стойкой, который тратил немало времени на поиск каждого письма или бандероли. Абонентские ящики пользовались спросом, потому что далеко не всем хотелось проводить время в одном из местных почтовых отделений. Именно здесь на имя Дугласа Атертона арендовали абонентный ящик, куда круизная компания направила билет на тот рейс по Карибскому морю.
Для того, чтобы исключить использование абонентского ящика для противоправной деятельности, у тех, кто хотел его арендовать, Норберты требовали два документа, удостоверяющие личность. Однако в те невинные времена принимались чуть ли не любые документы, по большей части без фотографии.
Кен в день прибытия миссис Нозавы не работал, но Бетти была на месте, с двумя сотрудниками и лабрадором-ретривером Спенсером Трейси.
В магазине имена абонентов, их адреса, представленные документы и подтверждения платежей заносили в специальную книгу, причем старые Кен никогда не выбрасывал. На всякий случай. Склонившись над книгой 1961 года, обе рукодельницы выяснили, что Дуглас Атертон арендовал ящик первого июня, заплатив наличными за год. В качестве документов представил карточку социального страхования и студенческий билет Восточного Иллинойского университета, расположенного в Чарльстоне.
Миссис Нозава переписала всю эту информацию и показала приятельнице страницу ежегодника с восемью фотографиями. Ни одного из выпускников, само собой, не звали Дуглас Атертон, и, по прошествии шести лет, ни в одном Бетти не опознала человека, который арендовал абонентный ящик.
Когда миссис Нозава вернулась к «Кадиллаку» и села за руль, Тосиро Мифунэ принялся обнюхивать ее руки, потому что в магазине она несколько раз погладила Спенсера Трейси.
Подошло время кормежки Тосиро Мифунэ, после чего псу полагалась получасовая прогулка. Поскольку миссис Нозава всегда отличала главное от второстепенного, она не собиралась ни смещать время кормежки, ни лишать Тосиро части отведенного на прогулку времени. Потом ей требовалось переодеться к обеду с мужем и еще одной парой.
Из магазина канцелярских товаров она поехала домой, собираясь утром продолжить расследование, которое начала с подачи мистера Ябу Тамазаки из «Дейли ньюс». Она обещала связаться с ним не позднее завтрашнего вечера, и он никоим образом не намекнул, что информация требуется ему раньше. Между прогулкой и переодеванием она успела позвонить ему и доложить о предварительных результатах, и даже чуть покраснела, когда он похвалил ее за проявленные ум и эффективность, добавив, что она – «настоящий Сэм Спейд»[51].
По пути на обед мистер Нозава спросил, не грозит ли это расследование какой-нибудь опасностью. Его жена ответила, что ее дорогие родители, так же как родители мистера Тамазаки, были иссеями, то есть эмигрантами первого поколения, и даже полнейшие незнакомцы оставались связанными нерушимыми обязательствами. Он согласился. По словам миссис Нозава, он обычно с ней соглашался. И одобрил ее решение написать письменный отчет, оттачивая свое мастерство изложения фактов на бумаге, за что я ему очень признателен.
За шесть недель после переезда из квартиры в доме без лифта в дом дедушки мистер Иошиока звонил мне пару раз, всегда днем, когда я был дома один, чтобы спросить, все ли у меня хорошо и продолжаю ли я играть на рояле. Я рассказывал ему о тех пустяках, которые происходили в моей жизни, а он делился со мной сведениями о жизни в многоквартирном доме, из которого мы уехали.
В тот вторник, после ухода Малколма и Амалии, но до возвращения мамы и дедушки, мистер Иошиока позвонил вновь, в четверть пятого.
– Как прошел твой день, Иона? – спросил он.
Я подумал о мисс Перл: ее совете, предупреждении, признании, что она – душа города, которая обрела плоть, и о большой черной сумке с удивительным содержимым.
– Пожалуй, мне от него досталось, – ответил я и рассказал обо всех событиях этого дня, за исключением мисс Перл. Если бы я когда-нибудь рассказал ему о ней, это могло произойти только в личном разговоре, лицом к лицу. Прежде чем он успел спросить, что случилось, я добавил: – Но при этом все у меня хорошо, просто отлично, я познакомился с такими клевыми ребятами, которые живут напротив.
Он позвонил по делу, не для того, чтобы поболтать.
– Ты видел сегодняшнюю газету? «Дейли ньюс» за вторник?
– Газету принесли, но я ее не раскрывал. Да и потом, в ней не все новости.
– На первой странице фотоснимок вчерашней демонстрации у Городского колледжа. Среди тех, кто на фото, мистер Смоллер и мисс Делвейн.
– Я видел их вчера по телику.
– Как тебе известно, телевизора у меня нет, и перспектива увидеть мистера Смоллера на экране не подвигнет меня на такую покупку.
– Я смотрел… увидел и моего отца.
– Это интересно. Твоего отца на фотографии нет.
– Они что-то замышляют. На войну им глубоко плевать.
– Прочитай газету, – предложил мистер Иошиока. – Думаю, ты увидишь, почему они пришли к Городскому колледжу. Но сначала я должен сказать тебе, что мистер Камазаки и мистер Отани наконец-то связались со мной. История обрела продолжение, и полную информацию я получу завтра. Я бы хотел увидеться с тобой в четверг. Когда тебе будет удобнее?
Учитывая, что дедушка и мама понятия не имели о темах, которые нам предстояло затронуть, я ответил, что ему лучше приехать от одиннадцати до четырех. В это время никто не узнал бы о его визите и, соответственно, не задал бы неудобные вопросы.
– Я приеду в два часа дня. А теперь я должен сказать тебе кое-что еще. Две недели тому назад твой отец и мисс Делвейн съехали с квартиры, в которой жили, и теперь никто не знает, где их искать. По компетентному мнению мистера Отани, они перешли на нелегальное положение.
– И что это означает?
– Это означает, что они заметают следы, ожидая, что в какой-то момент власти начнут их разыскивать. Возможно, они уже живут под вымышленными именами. Если они, как ты говоришь, что-то замышляют, помимо того, что уже сделали, то это что-то случится летом, скорее раньше, чем позже.
Мисс Перл, моя сверхъестественная наставница, пришла ко мне с советом и предупреждениями, потому что в ближайшем будущем меня поджидает некий поворотный момент, и отделяют меня от него дни – не годы. Этим летом, сказал мистер Иошиока. Одно подтверждало другое.
– В четверг я расскажу тебе больше, Иона, – добавил мистер Иошиока. – Я не хотел тебя пугать. Надеюсь, не испугал.
– Нет, сэр. Что бы ни случилось, в долговременной перспективе все будет хорошо.
– Это чисто буддийская позиция.
– Что?
– Очень мудрая, – ответил он вместо того, чтобы объяснить. – Самая мудрая. Увидимся послезавтра, в два часа дня. И пусть все у тебя будет в порядке, Иона.
– Я на это надеюсь. То есть, все так и будет. Все у меня будет в порядке. И вам желаю того же.
На первой странице «Дейли ньюс», над сгибом, мисс Делвейн и мистер Смоллер выглядели так, словно прибыли с разных планет, чего там, из разных солнечных систем. Она могла родиться на планете Супергорячих женщин, тогда как он прилетел на Землю с планеты Несчастных мужчин.
Читая статью, я быстро понял, что имел в виду мистер Иошиока, когда говорил, будто газета, возможно, объяснит мне интерес это странной маленькой банды к Городскому колледжу.
Когда демонстрация подходила к концу, взорвались семь бомб, одна вслед за другой, по всему кампусу. Никого не убило, никто не получил тяжелых ранений, правда, шестерых все-таки немного зацепило. Власти не сомневались, что бомбы сознательно расположили так, чтобы избежать жертв, с тем, чтобы создать полнейший хаос, отвлечь полицию, а особенно – службу безопасности кампуса.
С хаосом получилось. Когда взрывы загремели со всех сторон, демонстранты не знали, куда бежать, поэтому побежали в разные стороны, сталкиваясь друг с другом. Бомбы на самом деле представляли собой большие дымовые шашки, так что кампус сразу заволокло огромными клубами дыма. Мало того, что дым уменьшал видимость, так от него еще слезились глаза, и все расплывалось.
Сотрудники службы безопасности кампуса оставили свои посты и привычные маршруты патрулирования, бросившись к местам взрывов в полной уверенности, что многие раненые нуждаются в их помощи. Охранник галереи Альберта и Патрисии Бартон, примыкающей к Колледжу Искусств, запер дверь перед тем, как покинуть ее, но два человека, ограбивших галерею, открыли дверь восьмой бомбой.
Камеры наблюдения их зафиксировали: скорее всего, мужчины, одетые в черное, в масках и перчатках. В галерее проходила выставка китайского нефрита семнадцатого – начала девятнадцатого столетий: вазы, жаровни для благовоний, ширмы, чаши, статуэтки людей и животных, жезлы, бутылочки для нюхательного табака, драгоценности… Грабители двигались по большому залу уверенно, словно знали, что им требовалось, игнорируя тяжелые экспонаты, забирая драгоценности – ожерелья, подвески, серьги – и самые старые, с искусной резьбой, бутылочки для нюхательного табака. На все у них ушло пять минут.
Предварительный подсчет показал, что украденное стоило чуть больше четырехсот тысяч долларов, по тем временам огромная сумма. Эксперты предполагали, что воры крали все это не для продажи, потому что уникальность многих вещей сразу бы их выдала. Скорее всего, выполнялся заказ богатого коллекционера, который хотел заполучить все эти произведения искусства для личной коллекции, а не для того, чтобы кому-то показывать.
Высказывалось также предположение, что воры имели тесные связи с той или иной антивоенной организацией. Протестующие появились в Городском колледже неожиданного для властей, тогда как воры заранее узнали о готовящейся демонстрации и успели не только обследовать выставку, но и найти места для закладки бомб. Для этого им не требовалось входить в число организаторов демонстрации: хватило бы и информации о времени ее проведения.
Первым делом у меня возникло желание сунуть газету в мусорное ведро под раковиной, достать из него мешок, завязать узлом и отнести в мусорный контейнер у дома. Если бы моя мама увидела фотографию мисс Делвейн, которая выглядела, как супермодель, у нее защемило бы сердце. Если бы узнала мистера Смоллера, несмотря на бандану, кто знает, какие у нее могли возникнуть вопросы. Прикидываясь, что разделяю ее изумление и недоумение, я мог допустить ошибку, которая привела бы к новым, куда более опасным для меня вопросам. В свое время причины для секретности выглядели правильными и благородными, но теперь я уже сомневался в их правильности и благородстве.
С другой стороны, выброси я газету, дедушка Тедди поинтересовался бы, что с ней сталось, а мне не хотелось говорить, что ее не приносили, не хотелось начинать врать и ему. Мой дедушка никогда не сталкивался с мисс Делвейн, а мистера Смоллера видел раз или два, и на расстоянии, так что едва ли узнал бы его. Моя мама никогда не читала всю газету и обычно пропускала истории, связанные с насилием, потому что они портили ей настроение.
Я решил довериться удаче, положиться на судьбу. Сложил газету так, что она выглядела нетронутой, и вернул в пакет из тонкого пластика, в котором ее бросили в наш палисадник. Потом положил на стол рядом с дедушкиным креслом.
По вторникам дедушка Тедди в ресторане отеля не играл. Так что мне предстоял долгий вечер нервного ожидания: а вдруг мама все-таки увидит фотографию. Я решил пораньше улечься в кровать с книгой, как бы спрятаться. Если бы она увидела фотографию в мое отсутствие, то, возможно, не упомянула бы в разговоре со мной.
Да и в любом случае, события этого дня вымотали меня. Я полагал, что засну рано: еще один способ спрятаться.
Позже, после обеда, когда мама, дедушка Тедди и я убирали со стола, пришла Амалия Померанец, без Малколма, с предложением, которое, по моим представлениям, мама отвергла бы с порога. Семнадцатилетняя, очень ответственная, Амалия уже почти два года ездила на автобусе в разные районы города, безопасные места, чтобы посмотреть дневной спектакль, посетить музей, прослушать лекцию, все такое. Ее родители не возражали против того, чтобы она брала с собой Малколма, и теперь, поскольку этот ботаник-саксофонист подружился со мной, она надеялась, что и мне позволят присоединяться к ним в этих экспедициях.
Дедушка хорошо знал Амалию, был о ней самого высокого мнения, не сомневался, что она привезет меня домой «без единого синяка и шишки», о чем и сказал маме, на лице которой отражалось сомнение. Я верю, что дальнейшее поведение Амалии не определялось предварительным расчетом, она просто не могла оставаться в стороне, когда люди занимались делом, поэтому, рассказывая о бесплатном концерте фолк-музыки в Прибрежном парке, на котором она побывала двумя неделями раньше, Амалия подошла к раковине, набрала горячей воды, добавила жидкого мыла и начала мыть нашу обеденную посуду. Скоро, когда Амалия споласкивала тарелки, а мама их вытирала, они болтали и смеялись, как две закадычные подруги, познакомившиеся задолго до моего рождения.
К тому времени, когда я отправился в спальню с книгой, предложение Амалии приняли в полном объеме. И уже на следующий день мне предстояло отправиться с ней в какой-то модный художественный музей, чтобы посмотреть на картины, которые днем раньше вызывали бы у меня разве что рвотный рефлекс. Но теперь, раз Амалия считала, что их надо посмотреть, я нисколько не сомневался в ее правоте.
Уже в пижаме, лежа в кровати, я не мог сосредоточиться на книге. На прикроватном столике стоял маленький транзисторный приемник с наушником, и я попытался найти музыку, которая поднимет мне настроение. Не получилось. Я достал флорентийскую жестянку из ящика прикроватного столика, посмотрел на ксерокопию страницы из книги о Манзанаре, с фотографиями матери и сестры мистера Иошиоки. Они вызвали мысли о войне и о бунтах, о том, что все убивают всех. Единственным, что как-то успокоило меня, стала хайку на маленьком прямоугольнике из плотной бумаги, который прислали с букетом цветов на похороны бабушки. Я читал хайку снова и снова: «Заря встает / И бутоны открываются / Ворота рая».
События этого дня придавили мою голову к подушке. Я заснул. Ближе к утру мне приснился сон. В этом сне мой отец душил Фиону, а я по какой-то причине хотел его остановить, хотя она пугала меня больше, чем он. Потом что-то изменилось, и я увидел, что это – не Фиона, а моя мать, и галстук врезается в ее шею. Глаза матери затуманились, она умирала. Я пытался закричать, зовя на помощь, но обнаружил, что у меня нет языка. Попытался ударить его, расцарапать лицо, но кистей у меня тоже не было. Руки заканчивались запястьями, с браслетами свернувшейся и засохшей крови.
Я проснулся, сел, откинул простыню, перебросил ноги через край кровати, в темной комнате, тяжело дыша. Совершенно бодрый, с ясной головой, встревоженный. Я боялся не самого кошмара, а того, что услышу голос мисс Перл или увижу ее силуэт, а это послужило бы подтверждением, что ужас, увиденный во сне, – пророческий.
Испытав огромное облегчение от того, что в комнате ее нет, я тут же заметил что-то бледное за сетчатым экраном, который закрывал окно, нижнюю раму которого я поднял еще вечером, чтобы дать доступ свежему воздуху. Подумал, что это лицо человека, который мог наблюдать, как я сплю, на манер Фионы Кэссиди, еще и сфотографировавшей меня. Если давно ожидаемый кризис приближался, как думали мы с мистером Иошиокой, тогда трусость – или даже колебания – могли стать для меня смертельными, я бросился к окну, чтобы противостоять тому, кто шпионил за мной. Никого не увидел, только комар бился о металлическую сетку, настолько беззвучно, что слышал я только удары своего сердца. Если кто-то и наблюдал за мной, то этот незваный гость – он или она – поспешно исчез, но, скорее всего, бледное пятно нарисовало мне мое богатое воображение.
Следующим утром, покормив и выгуляв Тосиро Мифунэ, миссис Сецуко Нозава, не нарушая скоростной режим, поехала через Чарльстон, штат Иллинойс, к Восточному Иллинойскому университету. Собаке на этот раз захотелось ехать, высунув голову из окна. При скорости выше двадцати пяти миль в час она могла серьезно повредить глаза, окажись в воздухе какие-то твердые частички.
Хотя миссис Нозава ехала кружным путем, по спальным районам, где максимальная разрешенная скорость движения была существенно ниже, чем в других местах, несколько нетерпеливых водителей пытались гудками побудить ее прибавить газа. Она же ехала с высоко поднятой головой, не обращая внимания на их недовольство, не реагируя на грубые слова или непристойные жесты, обращенные к ней. После каждого гудка она говорила: «Наму Амида!» – что означало: «Будда простит». И есть бы не тон, создавалось ощущение, что она тоже прощает всех этих торопыг. Пес, тонко чувствующий настроение хозяйки, свирепо рычал при каждом «Наму Амида».
В отделе связей с выпускниками университета симпатичная рыжеволосая девушка с россыпью веснушек на лице и внушительной грудью оказала миссис Нозаве всяческое содействие. Миссис Нозава повторила выдуманную историю о студенте, который оказал ей и ее мужу неоценимую услугу, но девушка с волосами цвета пламени объяснила, что они не вправе делиться адресами выпускников. Миссис Нозава ответила, что она прекрасно понимает ситуацию, и ей лишь нужно узнать, может ли отдел связей отправить ее благодарственное письмо этому молодому человеку, который уже покинул стены университета. Конечно же, девушка с радостью согласилась оказать миссис Нозаве такую услугу.
Сама миссис Нозава сильно сомневалась, что Лукас Дрэкмен посещал университет под именем Дугласа Т. Атертона. По ее мнению, он, скорее всего, подделал и карточку социального страхования, и студенческий билет, чтобы получить возможность арендовать абонентский ящик в магазине Норбертов. Однако она назвала девушке фамилию Дрэкмен и предполагаемый год завершения учебы – 1963. Через минуту получила подтверждение, что Лукас Дрэкмен действительно закончил Восточный Иллинойский университет, и миссис Нозава обещала, что через пару дней привезет письмо в запечатанном и снабженном маркой конверте, хотя делать это не собиралась.
Мистер Тамазаки из «Дейли ньюс» надеялся выяснить, стараниями миссис Назавы, что Лукас Дрэкмен проживал около Чарльстона в тот период времени, когда миссис Рената Колшак исчезла с круизного лайнера в Карибском море. В этом случае появлялась возможность утверждать, что он арендовал под вымышленным именем абонентский ящик, в который и направили билет на тот же круизный лайнер для Дугласа Т. Атертона. На этом миссия миссис Нозавы и заканчивалась.
Чуть позже, из своего кабинета в одной из химчисток, из которого она руководила коммерческой империей, принадлежащей ей с мужем, миссис Нозава позвонила мистеру Тамазаки, который поблагодарил ее от всего сердца. Она тоже полагала, что в этой истории поставлена последняя точка, но через несколько часов убедилась в обратном.
В центре города я бывал с мамой, но никогда в компании мальчишки с таким же, как мой, чувством юмора и под присмотром девушки-подростка, такой милой, что люди улыбались, глядя на нее. Когда она торопливо переводила нас через улицу и стремительно поднималась по длинной лестнице, ее конский хвост летал из стороны в сторону.
Мама дала мне пятьдесят центов, стоимость ученического билета в художественный музей, и деньги на ланч. Я чувствовал себя богатым, свободным и готовым к приключениям… но тихая паранойя никуда не делась.
На остановке, с которой нам предстояло уехать и где мы ждали автобуса, мое внимание привлек черный «Шевроле», в котором сидели двое мужчин, припаркованный в полуквартале. Автомобиль стоял под деревом, в тени, и я не мог видеть их лица, но практически убедил себя, что это Лукас Дрэкмен и мой отец.
Я помнил, что рассказала мисс Делвейн мистеру Отани, когда болтала с ним в канун Нового года: ее бойфренд, который недавно развелся, только и говорит о том, что заберет сына к себе. Если в автомобиле и на самом деле находились мой отец и Лукас Дрэкмен, они могли последовать за нами в центр города, где я оказался бы вдали от дома и наиболее уязвимым, и попытаться похитить меня.
Когда мы вышли из автобуса, черный «Шевроле» не стоял у тротуара и не проехал мимо, и это говорило о том, что страх мой иррациональный. Тем не менее я оставался настороже, каждое мгновение ожидая внезапного нападения.
Мы прибыли на угол Национальной авеню и Пятьдесят второй улицы, исторический центр города. В радиусе двух кварталов находилось здание суда, величественная центральная библиотека, лучший из концертных залов, кафедральный собор, самая старая в городе синагога и несколько кинотеатров. Архитектура предлагала красоту на все вкусы, здания облицовывали мрамором, гранитом, известняком, некоторые венчали башенки, и никаких тебе начисто лишенных архитектурных достоинств стеклянных монолитов. Это была самая удивительная часть города, где особенно чувствовалась красота порядка и упорядоченная сила красоты.
За нашими спинами высилась тридцатиэтажная громада финансового центра, построенного в стиле арт-деко, с Первым национальным банком на нижнем этаже. Напротив, колоннами напоминая греческий храм, находилась «Пинакотека Каломиракиса», где мы собирались посмотреть выставку «Европа в эпоху монархии».
– Пи-на-как? Ка-ло-кто? – спросил я.
– Мистер Каломиракис был одним из первых греческих иммигрантов, – объяснила Амалия, когда мы поднимались по лестнице к парадным дверям.
– Заработал миллиарды долларов, – добавил Малколм. – Скрудж Макдак рядом с ним – бедный родственник.
– Он построил это прекрасное здание, – продолжила Амалия, – покупал величайшие произведения искусства для постоянной экспозиции и учредил фонд, чтобы обеспечить полноценную работу этого художественного центра и после его смерти. «Пинакотека» на греческом – галерея… но люди склонны называть это здание музеем. Для меня бывать здесь – блаженство.
Я без труда отличал красивую мелодию от любой другой, и, возможно, мои глаза в этой части не уступали ушам, но до нынешнего дня я не отдавал себе отчета, что великая архитектура по силе воздействия ни в чем не уступает великой музыке, и в обоих случаях сердце одинаково пело от радости. Своими обаянием и заразительным энтузиазмом Амалия в тот день значительно расширила горизонты моего восприятия, открыв двери в мир, который мог оставаться неведомым для меня долгие годы, а то и всю жизнь.
Картины на эту выставку представили музеи далеких Нидерландов и Парижа, а также более близкого к нам Нью-Йорка. Мы увидели творения Рембрандта, Вермеера, Ван Дейка, Жоржа де Латура, Жан-Марка Натье, Караваджо, Прокаччини и других.
Часто Малколм просил сестру: «Расскажи ему историю», – причем говорил не об истории создания той или иной картины, а о жизни художника или особенно захватывающем периоде этой жизни. Какие-то истории были забавными, какие-то – грустными, но каждая заставляла меня с большим интересом смотреть на картину, которая принадлежала его кисти.
Наиболее ясно я помню ее рассказ об Иоганне Вермеере, который прозвучал, когда мы стояли перед его завораживающей «Девушкой в красной шляпе». Эта история преследовала меня почти полстолетия. Почему – сейчас не скажу, но скоро вы об этом узнаете. Если история Вермеера приходит мне на ум ночью, когда сон ускользает от меня, я особенно остро ощущаю хрупкость жизни, эфемерную природу всего, что мы ищем и создаем в этом мире.
Девушка с этой картины смотрела на нас с небольшого полотна, точные детали и удивительная игра света и тени создавали полнейшее сходство с реальностью.
– Вермеер – один из самых удивительных художников в истории человечества. Перфекционист, он много работал, но нарисовал мало. Может, шестьдесят полотен. Тридцать шесть сохранилось. Двадцать девять – шедевры. У него была тяжелая жизнь. Бедность заставляла его работать, потому что требовалось кормить семью. Четырнадцать детей. Можешь ты представить себе меня и четырнадцать малколмов? Я бы сошла с ума. Но подожди, нет, это не смешно. В те дни, в 1600-х, многие умирали, не дожив до совершеннолетия, и Вермеер потерял четверых. Он и сам умер молодым, в сорок три, без гроша в кармане, полубезумным, но им восхищались все прочие голландские художники. Его вдова и дети, которых он любил больше жизни, остались без средств к существованию. На двести лет его творчество забыли… на двести лет. Но вкусы меняются. Целые поколения напоминали слепцов, истинная красота оставалась невидимой у всех на виду, но рано или поздно красота обязательно берет свое, всегда, всегда, всегда. Ее наконец-то признают, потому что ее так мало. Он умер бедняком, но отныне и до последнего дня цивилизации о нем будут говорить с уважением, а его творениями – восхищаться.
Дети – возможно, не только дети, – обожают истории про неудачников, которые в итоге добиваются триумфа, даже если сначала им приходится умереть, и в тот день Вермеер стал моим героем.
К тому времени, когда половина выставки осталась позади, мое параноическое ожидание похищения забылось, и на какое-то время я почувствовал себя в полной безопасности.
Тем временем в Чарльстоне, штат Иллинойс, миссис Сецуко Нозава сидела в своем маленьком кабинете, который занимал одно из подсобных помещений химчистки, и разбиралась со счетами. Тосиро Мифунэ спал у ее ног. Одна из сотрудниц заглянула в открытую дверь, чтобы сказать, что университетский профессор, доктор Джубал Мейс-Маскил, приехал в химчистку, чтобы поговорить с ней по срочному делу.
У стойки стоял высокий худощавый мужчина с копной преждевременно поседевших волос. Худое, в глубоких морщинах лицо смягчали седые брови, а серые, в зеленых блестках глаза показались миссис Нозаве дикими, глазами зверя, которого следовало держать в надежно запертой клетке.
Она невзлюбила его с первого взгляда, возможно, из-за манеры одеваться. По ее разумению, профессору колледжа – и доктору наук, – не следовало появляться на публике в мятых брюках цвета хаки, футболке с надписью «ЗСД»[52], что бы они ни значили – и мешковатом пиджаке из тонкой материи того же цвета, что и брюки, с туго набитыми накладными карманами, и, по ее твердому убеждению, их содержимое наверняка заинтересовало бы полицию. Пиджак пестрел заплатами, причем она знала, что в таком виде профессор и приобрел его в магазине: ныне залатанная одежда была в моде. Миссис Нозава понимала, что видит перед собой не уникума. Мятежников хватало и в этом университете, и везде. Они стремились построить сверкающее будущее, отвергнув прошлое со всеми его недостатками. Но миссис Нозава очень ценила традиции. Прошлое виделось ей сокровищницей мудрости. И история не раз и не два доказывала, что те, кто отвергал прошлое, на самом деле отвергали мудрость и сохраняли и приумножали недостатки.
Как только миссис Нозава представилась гостю, доктор Мейс-Маскил принялся расхваливать Лукаса Дрэкмена, своего бывшего студента, у которого был научным руководителем, за его удивительный ум и разносторонность. Лукас получил диплом по политологии, и профессор отметил тонкую проницательность, обостренную чувствительность и неиссякаемую энергию своего подопечного. Он спросил, известно ли миссис Нозаве, что Лукас поступил в университет менее чем через год после жестокого убийства родителей, которых глубокой ночью расстреляли в спальне собственного дома? Она знала, что, несмотря на боль утраты, Лукас ни на секунду не позволял себе расслабляться, учился с максимальным напряжением сил? Она это знала? Знала? Его ждало прекрасное будущее, поскольку его отличали благородство и харизма, любовь к людям и здоровое честолюбие.






