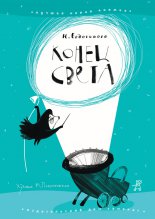Лебединая песнь Головкина Ирина
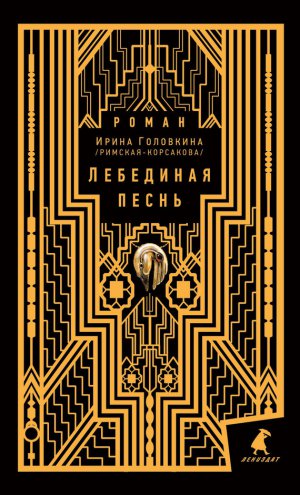
Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь.
– А сегодня… сейчас он ничего над собою не сделает? – прошептала она дрожащими губами.
Утром Ася стояла в церкви в ожидании Причастия. Ее глаза смотрели вперед, на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса.
«Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная! Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки – все одна мадам. На днях я не захотела даже сбегать в булочную. Я и к бабушке недостаточно внимательна: часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, когда кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи! Вот опять Ектенья… Это за усопших! Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием, воина Всеволода, убиенного, и папиного денщика воина Григория, убиенного! Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере… Упокой их всех со святыми… И мою собачку умершую – мою бедненькую Диану, она была вся любовь! За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога. Вот опять отодвигают зазесу… Сейчас запоют «Херувимскую». Ах, если бы спели Девятую Бортнянского – это совсем небесная музыка, точно слышишь шорох ангельских крыльев, таких, какие Врубель нарисовал царевне Лебедь. Ангелы должны быть в куполе – вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается кадильный дым. Шорох ангельских крыльев… Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило… Сколько света под веками, когда закроешь глаза, и кажется мне, Господи, что Ты меня слышишь, или кто-то из Твоих Святых… Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем исстрадавшемуся человеку! Не дайте ему погубить себя, остановите! Неужели же никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну, что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь «безнадежного пути». Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться… Как мне поступить? Написать? Я напишу сегодня, сейчас напишу!»
Отпели «Отче наш» и Ектенью, причастники стали подвигаться к амвону.
«Сейчас!» – говорила себе, дрожа от ожидания, Ася.
Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест.
«Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву: спаси Олега! Я причащаюсь за него! Я не знаю, можно ли это, но для Тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся Твоя благодать и радость прольются в его душу! Помоги мне спасти его!»
Отдернулась таинственная завеса, открылись Царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимения «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к Чаше.
«Ближе! Уже совсем близко! Сейчас прольется на меня из алтаря та чудная свежесть, в которой веянье рая. Как хороша эта фраза в Китеже: "Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли? Прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное!", и все скрипки, как бы вздыхают со стоном».
За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку – очевидно, старого солдата, – в петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его.
– Ксения, – ответила она перед Чашей. «Олег», – повторила она в душе.
Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться не прекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку.
«Страшно, но медлить нельзя! Что если он наложит на себя руки? Напишу. Надо уметь иногда жечь свои корабли. Папа всегда был храбр, а я дочь своего отца. Русская женщина не должна бояться. Пусть день Причастия решит нашу судьбу». Она быстро написала несколько слов и сложила записку.
«Конверта нет, – размышляла она, – но это ничего: я забегу на почту. Я быстро бегаю. Завтра он получит. Если он тот, каким я его почувствовала, он все поймет, а если он не такой… тогда это письмо не к нему относится, и тогда мне все равно, чтобы он обо мне не подумал. Но он – тот, тот, тот!»
Мимо нее проходили две пожилые дамы в старомодных накидках и шляпках – тоже «зубры из Беловежской пущи». Одна – Вера Михайловна Моляс, бывшего камергера, находящегося ныне в Соловках. Другая – дочь генерала Троицкого, Анна Петровна. Она осталась с двумя детьми младшей сестры, которая была взята в концентрационный лагерь по той только причине, что муж ее, морской офицер, был белогвардеец и эмигрант. Дамы делились горестями. Моляс, грассируя, жаловалась на материальные трудности, но в печали старой генеральской дочки звучали патриотические ноты: она до самых последних дней, как святыню, хранила доставшиеся ей от отца трофеи – турецкие малахитовые полумесяцы, снятые со стены Плевны и поделенные в свое время между русскими генералами, бравшими крепость. Она не продавала их, хотя бедствовала с двумя детьми, которые к тому же болели. Но в коммунальной квартире разве можно уберечь что-нибудь? Соседи выкрали ее полумесяцы и продали их на барахолке.
– Я снесла бы их в музей, если бы знала, чем кончится! Ведь это память о славе русского оружия. Ах, ma chere [58], русские потеряли теперь всякую любовь к своему прошедшему! – и она прикладывала платок к глазам.
Воспитанная в самых строгих правилах вежливости, Ася встала, едва только завидела приближающихся дам. Она услышала, как Анна Петровна сказала Вере Моляс:
– Viola la fille du colonel Bologovskoy, qu’on a fusille a Crimee. Elle est charmante, cette orpheline! [59]
«Зачем они называют меня сироткой? – думала Ася, отвечая на их вопросы о здоровье Натальи Павловны. – Все люди словно сговорились напрасно жалеть меня. У меня есть бабушка, есть дядя и тетя Зина. Я как раз очень, очень счастливая.
Когда старые дамы прошли, она вернулась к своим думам, ей хотелось скорее отнести письмо, но она знала, что нельзя уходить, пока не отнесут в алтарь Чашу, и ждала. «Завтра вынос Плащаницы, – думала она, – будут петь "Разбойника" и "Даждь ми Сего странного". Как я люблю эти напевы! Даждь ми… Господи, даждь ми Олега! Без него я уже не могу быть ни радостна, ни спокойна! Я хочу утешить его и сделать счастливым. Я буду заботиться, любить его и ласкать. Я возьму его голову к себе на грудь и поцелую израненный лоб. Я поцелую ему руку и скажу: это за мою Россию. А когда он будет заниматься за письменным столом, я подойду совсем неслышно и пролезу головой под его локоть. Даждь ми сего странного, иже не имеет, где главу преклонити – у него как раз даже дома нет».
Мимо нее проковылял на руках искалеченный солдат, она остановила его, сунула ему три рубля, проговорив:
– С принятием Святых Тайн, солдатик.
– Спасибо, добрая барышня! И вас тоже, – ответил он.
Вот, наконец, осенив толпу высоко поднятой Чашей, священник унес ее в алтарь. Она склонила вместе со всеми голову, а вслед за этим протеснилась к двери и, как коза, помчалась по улице. Она и в самом деле очень быстро бегала.
Солдат, причащавшейся вместе с Асей, долго после не уходил из храма, все ковылял от иконы к иконе. «Отпусти мне грехи мои, Господи, – шептал он перед Распятием. – Знаю я все ничтожество мое – грешен, ох, грешен я! Но за убожество и за скорби мои прости меня, Господи! Ибо ведаешь Ты, сколько намаялся я, калека, без семьи, без дома, без лишней копейки. Все это Тебе, Господи, ведомо, за то и не внидешь Ты в суд с рабом Твоим. Погляжу вот я – все это люди из церкви домой торопятся, кажинного хозяйка егоная, али детки, али другие родичи дожидаются, а я, убогий один, как перст, и нет на земле человека, который бы пожалел меня, пригрел, али порадовал чем к празднику. Кабы я только одну ногу потерял, мог бы еще жить припеваючи. Да, видно, лютое горе – как привяжется, так и конца ему нет. Была бы жива моя Аленушка – не посмотрела бы она, сердечная, что я, как червь, по земле пресмыкаюсь, не погнушалась бы – еще пуще меня призревала и жалела, оттого, что сердце было золотое ей в грудь Господом вложено. Но ведь Господь дал, Господь и взял! Со святыми она, поди, радуется теперь на небесах, может, и на меня другой раз глазком взглянет: как-то, дескать, Ефим мой мытарится? Погляди, погляди, Аленушка, да помолись за меня святым, чтобы послал мне Господь кончину – мирную, непостыдную и упокоил в месте злачном, да сподобил с тобою встретиться – гостьюшкой желанной мне тогда покажется смерть!»
«Помяни, Господи, усопших! – говорил он перед кануном. – Жену мою Алену и сынов моих, иже без вести сый! Помяни родителей моих Симеона и Авдотью и полковника моего – раба Твоего Константина, благоверного императора Николая, убиенного со чадами, и всех товарищей-однополчан. Как начнешь припоминать, все-то уже все – на том свете! Пора бы и мне! Не радостно, больно стало мое житие. Опостылел весь Божий Свет! Опостылел и угол мой грязный, да нетопленный. Лучше бы мне, кажется, в гробу лежать. Ноченьки стали больно длинные да холодные на одинокой постели, в людях нет ни Божьей радости, ни сердечности, человек человеку нонче ровно волк. Недобрые, ох, недобрые времена!»
Церковь опустела, он все не уходил.
«На трехрублевку, что дала мне барышня, куплю себе чайку, заварю крепенького да горяченького, побалую грешную душеньку. Добрая барышня! По всему видать из бывших – енеральская или полковничья дочка. Пожалела солдатика – за Егория, видно, дала. Из себя-то больно пригоженькая – беленькая, как сахар, и вся этакая тонкая, куколка-фарфорка, а ресницы – что покрывало. На смотрах я, бывало, в каретках таких барышень видел, а теперича и нет таких. Царскую дочку Ольгу Николаевну она мне малость напомнила. Как теперь, покойница у меня перед глазами, какой подходила ко мне христосоваться в Светлое Воскресенье. Полковник – его превосходительство Константин Александрович – в первый ряд нашей роты меня тогда поставил: знали, что я поведения смирного и собой складный – не стыдно показать. Был ведь и я не из последних… Да – было времечко. А мне, выходит, и на судьбу роптать грешно, когда вон сама великая княжна пристрелена или придушена в двадцать лет! Упокой, Господи, ее душу! Россию любила: за царевича румынского сватали ее – не пошла! "Хочу русской остаться!" Вот и осталась: вместо царского венца – могилка, да поди и могилки-то нет. Ох, грехи наши, грехи тяжкие!»
Сторожа пришли затворять церковь, и волей-неволей он заковылял к выходу.
– Никак Ефим Семеныч! Ты, земляк? – окликнул его пожилой, со степенной осанкой мужчина, стоявший около церковного ящика.
Он узнал в нем своего однополчанина и соседа по деревне, с которым видался время от времени. Обменялись несколькими фразами.
– Вот и я сподобился приобщиться. Пойдем ко мне, Ефим Семеныч. Моя жена с чайком поджидает. Чайком с сахаром побаловать себя можно. Почитай, и коржики постные у ней припасены. Пойдем погуторим, вспомянем добрые старые времена.
Разговор и в самом деле все время возвращался к старым временам: вспоминали смотры и великих княжен; вспоминали бои с немцами под Кенигсбергом и под Двинском, и с большевиками под Перекопом; вспоминали генералов и солдат – даже выпили по рюмочке за их память. Согласились на том, что Россия-матушка нонче не та – ровно бы подменили. И лета-то бывали раньше теплые, и зимы морозней, и рожь-матушка стояла прежде стеной, не то что нынче, и печки-то горели прежде жарче – видно, дров в них тогда не жалели, и косы-то у девушек были длинней и лучше, и песни протяжней, и блины масляней! А главное, люди веселей и добрее!
– Да, не та нынче Россия, не та! Спортилася. Это все жиды проклятые. Пей чай, земляк, не вешай голову, такая уж, видно, нам с тобой планида выпала.
– Да твоя-то планида, смотришь, еще ничего, Макар Григорьевич. У тебя вот комнатка есть, жена, дети выросли. Не гневи Бога. Нас с тобой и равнять нельзя.
– Дети? Эх, земляк, не знаешь ты наших семейных делов – знал бы, не сказал. Как уходил я в германскую на фронт, Егорке моему еще шел тринадцатый годок. А в двадцатом году при взятии Феодосии довелось мне с им повстречаться. Гонят это нас красные на разоружение да переформировку. Гляжу: никак мой парнишка? Точно, он! Идет с винтовкой в красноармейской шинели и шапке, да статный, пригожий такой, нас окарауливает. Ну я его окликнул по-отечески: дескать Егорка, дескать – сын! А он мне: «Тятька! Вот ведь где нашелся! Ишь, развоевался, старый хрыч! Смотри, как бы наш комиссар не велел засадить в тебя малую толику свинца. Вот при товарищах скажу: мне царский унтер-врангелевец – не отец!» Вот оно как натравили-то, понял? С тех пор и не заявляется. А на след напасть нетрудно – в деревне наш городской адрес знают. Это, вишь, сын. Ну а с дочкой друга беда. Поля наша за партийцем уже пятый год. Парень непьющий и на всякую работу горазд, да безбожник первостатейный и к старшому уважения вовсе не имеет. Дети народились – им прозваний христианских мало показалось, они Кимом сыночка нарекли, а девочку Электрофикацей. Ким – это, изволишь ли видеть, коммунистический интернационал или другое что-то коммунистическое. Внучку-то мы с женой потихоньку от родителей в церковь снесли да окрестили, а внучок так нехристем и остался. Кабы мне кто мне в прежнее время наперед сказал, что у меня внук некрещеный будет, – я бы того человека, кажись бы, из избы вытолкал, дескать – не жиды мы и не татары. Не поверил бы я, что возможно такое дело. Ни в жисть не поверил! Вот оно как! А что крику и ругани у нас было, как проведали они, что девочку мы окрестили! Насмерть они с нами переругались -с тех пор и глаз не кажут. Жена моя Аграфена Кононовна по полу каталась: «Не хочу, – кричит, бывало, – Электрофикации; Кима твоего, нехристя, с лестницы спущу!» А сердце-то болит; спечет что аль состряпает – сейчас охнет: вот бы внучаток попотчевать! В баньку соберется: ах, внучаток бы прихватить, веничком попарить! Каков то мой внучек теперь? Ким! Ах, они, безбожники! Ким! И завоет. Опять же и от фининспектора нам покоя нет: я малость сапожничаю, зачиняю дыры, да подметки переменяю – так он житья не дает, в любой день и час открывай окаянному! Лезет колодки пересчитывать. Налог прислал – думал, ввек не выплачу! Продали женин салоп, самовар да кольца обручальные – рассчитались. «Довольно, – думаю, – пойду-ка лучше на завод». И уж был устроившись, так ведь выгнали! Подал я, видишь ли, в союз, проработав положенное время, ну а там, прежде чем принять, собрание актива, и меня, значит, на проверку, да как дознались, что унтер царского времени, пристали: где был в гражданскую, зачем служил в Белой армии? Ты-де изменил рабочему классу. Я, говорю, служил верой и правдой, кому присягнул: рабочим до тех пор я никогда не был; коли вы теперь меня в свою рабочую среду примете, буду и на вас работать так же верно, как служил моему государю императору. Вы, говорю, по моей царской службе видеть можете, что я не перебежчик и не проходимец, а человек верный. «А зачем сапожную мастерскую держал?» – кричат мне. Дураки вы, дураки, говорю, жить мне чем-то надо? Тут один безусый паренек как вскочит: «За тобой, – кричит, – выступает звериная морда врага рабочего класса!» Ничего, говорю, за мной не выступает, окромя твоей глупости! Разгалделись они, и пришлось мне брать мое заявление обратно. Ну а ден через пять сократили как враждебный рабочему классу элемент. Снова за сапоги взялся, малость только похитрей стал: готовую обувь держу в печке али в буфете горохом засыпаю. Всю молодость провоевал – вот уж не думал, что под старость ровно вору какому изворачиваться придется. Опять же и квартира коммунальная – соседка заела. Ни к плите, ни к ванной жену не допускает, поедом ест. «Только сунься, – кричит, – я ваших заказчиков считаю, сейчас фину сообщу!» Что ты тут будешь делать? Вот и сидим тише воды ниже травы. Ночью с боку на бок ворочаюсь: «Господи, – думаю, – кабы я что дурное делал, а то за свой же труд такую муку терплю». Отчего ж это раньше ни коммунальных квартир, ни фининспекторов не было? Заработал человек, и слава Тебе, Господи! Захочу – один в целом доме живу, и никто мне не указчик! Да и то сказать, во всех странах, слышал я, памятник неизвестному солдату поставлен, а у нас вот как травят бывших фронтовиков… Да ты что это, Ефим Семенович, так призадумался, что ровно и не слушаешь?
– Дело такое, браток… Посоветоваться мне с тобой, что ли? Своего ума ровно бы и не хватает. Помнишь ты, был у нас в полку Дашков – поручик, сын нашего корпусного генерала?
– Помню, как же! Дмитрий Андреевич, не поручик только, а капитан.
– Э, нет! То старший братец егоный. А этот только из учения вышел, когда к нам в полк прибыл. Мы тогда под Двинском стояли. Я в его взвод попал, коли помнишь, да потом так с ним и провоевал не только немецкую, но и всю гражданскую. Ничего, в нашем взводе его любили. Чтобы этак попросту, по-свойски с солдатами – нет, этого за ним не водилось; с нашим братом особенно не якшался, но в обиду своих людей не давал – очинно всегда заступался, а как получит посылку из дому, так всегда раздаст – и сахару, и табаку, и чаю. И себя не берег, надо правду сказать: на всякое опасное дело вызывался. Говорил, бывало: я заколдованный, меня пули не трогают. И в самом деле, четыре года под огнем и все цел оставался – ни царапинки. Зато потом и досталось же ему разом. Наш взвод без шапок стоял, как укладывали его на носилки. Думали все, помирает. У него денщиком был Василий Федотов. Он его на руках в часть принес – в секрете они, что ли, были? Ты Василия помнишь?
– Помню! Рубаха парень! Он, говорят, в лагеря исправительные попал, да там и сгинул. Ну, так чего же ты начал про поручика?
– Так вот, видишь, месяца этак три тому назад в самые-то это морозы повстречал я его благородие на базаре. Подивился, завидевши: я его в «заупокой» вместе с их превосходительством папенькой поминаю, а он жив, оказывается! Шинелишка заплатанная, сам -краше в гроб кладут. Тоже, поди, из лагеря – ведь их, господ офицеров, хватают безо всякого сожаления: вы-де оплот старого режима, а этот же еще генеральский сынок. Ну, постояли, поговорили, да и разошлись всяк в свою сторону. А вот теперича… – и солдат рассказал про Злобина и его настойчивые расспросы по поводу Олега. – Сдается мне, не следит ли доктор за моим поручиком? Нашел меня в больнице, заговорил о том, о другом, да все норовит свернуть на поручика. Адрес спросил, на дом ко мне заявился, выложил на стол десять рублев, да снова на то же поворачивает. А теперича вон что выдумал: послезавтра, в Великую субботу, должен это я в полвосьмого как из пушки явиться на Моховую улицу к воротам дома тринадцать. Там меня посадят у стенки. Ровно в восемь выйдет из подъезда человек и агент ихний переодетый, остановит его и попросит закурить, а я должен глядеть в оба и после отлепортовать, кто этот человек – поручик ли Дашков али кто мне незнакомый. Хорошо, коли нет, а коли и в самом деле окажется поручик Олег Андреевич, как бы мне Иудой перед ним не выйти? Почем знать – может, он скрывает свое имя? Он просил меня никому о ем не сказывать, а я вот по дурости моей сболтнул доктору, да не в добрый час, видно, сболтнул и не доброму человеку. Спервоначалу я думал, может, приятели они с доктором, что он этак разыскивает поручика, да теперь выходит, что-то не то, чем-то другим пахнет! Что скажешь, Макар Григорьевич?
– Скажу я тебе, дело дрянь. Беспременно выслеживают. Ничего другого и быть не может. Услышал от тебя, что знаешь в лицо, ну и пристал, как банный лист. Советую тебе, браток, вон выходить из этого дела, а то и в самом деле предателем соделаешься. Сегодня вон об Иуде в церкви читали… Теперича у нас шпиков этих самых до черта развелось. Деньги, говорят, зашибают большие, за то и творят дела. Видно, и доктор твой из таких же. Посулил чего?
– Для начала – место на койке и хороший санаторий. Подлечим, говорит.
– Ну, это для начала, а там подговорит пособлять ему, и из трясины этой ты ввек не выпутаешься. Берегись, браток! Не дело для старого солдата выдавать боевого товарища – генерал ли, солдат ли, поручик ли – все едино.
– Вестимо, не дело, я про то и толкую. Сегодня, как к Чаше подходил, так меня ровно что в сердце – толк: к Святым Дарам подходишь, а завтра будешь человека губить? Ему же никак не больше тридцати; почитай, жена, дети маленькие… К тому же и по книге моей, только на его раскрою – сейчас выходит насильственная кончина. Это все одно к одному! Никак нельзя выдавать! Только как бы мне это половчей спроворить? Вовсе к им не пойтить – так ведь завтра же явится каналья доктор и снова начнет нудить.
– А ты пойди, отлепортуй: явился, мол. А потом говори: не знаю и не знаю этого человека. Как они тебя уличить смогут? Легко, что ль, в оборванце узнать офицера, да еще десять лет спустя?
– Ладно, так и сделаю. По крайности, хоть совесть будет спокойна. Только б он сам не заговорил со мной, а уж без санатория обойдусь. Старому солдату предателем соделаться, да еще в Великую субботу – ни в жисть не будет этого! Спасибо, браток, что поддержал ты меня на добром решении. Не пора ли нам к двенадцати евангелиям собираться?
Мысль, которую он высказал Елочке: «Больше я туда не пойду», – крепко засела в голове Олега. «У меня не осталось ничего, чтобы могло привязать меня к жизни. Ася одна могла это сделать. Эта девушка такой высокой пробы, что даже в прежней среде ради нее стоило бы перестреляться не одному десятку мужчин, а теперь это драгоценность редчайшая. И в ней начало просыпаться ко мне что-то: доверие, ласка, сочувствие… Ее светлые излучения могли бы возродить меня от тоски. Я только что поверил во что-то лучшее впереди… И вот все кончилось, едва только успело начаться. Зачем жить? Чтобы каждый день мучить себя мыслью, что я мог бы провести его с ней? Или: что было бы, если бы не было Октябрьской революции? И каждый день ждать нового приглашения к Нагу? Нет, больше не хочу! Все религии утверждают, что самоубийство не выход, а страшная ошибка, которая повергает душу человека в самые темные слои потустороннего мира… И все-таки это одно, что мне осталось!» Он пробовал читать, но взятый им томик стихов о прекрасной даме снова возвращал его мысль к Асе. Как человеку, у которого поранен палец, кажется, что он задевает им о каждый предмет, так ему казалось, что каждое стихотворение бередит его душевную рану.
Своей душе, давно усталой,
Я тоже верить не хочу.
Быть может, путник запоздалый,
В твой тихий терем постучу, -
Говорил он ей.
Мой любимый, мой князь, мой жених, –
Говорила она ему.
Он оставил книгу и лег лицом в подушку. Но если он не думал об Асе, он думал о матери. Издевки следователя расшевелили старую, незаживающую боль. Он представлял себе, как это было. «Мама извелась от тоски и беспокойства за нас. Она, может быть, надеялась, что в Петербурге что-нибудь сможет узнать или хотя бы увидеть родных и друзей. Одиночество, надзор и эта жизнь в избе стали невыносимы. И вот однажды, как только смерклось, мама стала собираться. Одела, наверно, ту тальму с капюшоном, которую обычно носила в Вечаше, а в руках у нее был бисерный ридикюль и в нем наши фотографии. Она и ее Василиса побежали глухими тропинками на полустанок. Рекс, конечно, сзади. А там кто-то из железнодорожных служащих выдал… Они нас знали, всегда бывали так подобострастны… но… времена переменились! Комиссар Газа… латыш наверно… Эти комиссары почти все латыши и евреи. Может быть, если бы не этот Газа, маме удалось бы спастись: ведь она не была приговорена трибуналом, как отец. А этот Газа со своими полномочиями, конечно, счел долгом расправиться. Революция была бы в опасности, если бы он не расстрелял одинокую замученную женщину! Мама, моя святая! Моя красавица! Что она пережила, когда эта свора набросилась на нее! «Княгиня не произнесла за все время ни слова», – узнаю маму в этой выдержке! Небо было, наверно, по-осеннему, багровое, и слышались железнодорожные гудки… Одна Василиса пыталась заступиться… Ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг… Буду верить, что расстреляли тотчас же!»
Но хоть он и говорил «буду верить» – против воли возникали сомнения: следователь упоминал о полустанке, о горничной и о собаке – стало быть, что-то знал.
«Нет, не могу! Кончать, скорее кончать! Теперь же, завтра же! Эх, жаль револьвера! Это единственный способ, которым я мог бы действовать с полной уверенностью. Все остальные ненадежны, и уж хуже всех городской транспорт: всегда не во время явится спаситель, который помешает, или шофер затормозит в последнюю минуту, а там – больница, и майся инвалидом. Нет, тогда уж лучше веревка. Это немного по-плебейски, но зато ничем не рискуешь: ни толпы зевак, ни увечья, не удалось – пробуй еще раз. В лесу деревьев довольно – всегда можно найти крепкий сук!»
Голоса Нины и Мики привлекли его внимание:
– Нет уж, в школу ты не суйся! – кричит Мика. – Мне и без княгинь достается, а ты, с твоими ухватками, только покажешься, так мне и вовсе житья не будет! Оставайся лучше дома, ваше сиятельство!
Натянутые нервы Олега не выдержали, он сорвался с дивана, выскочил в коридор:
– Мика, иди сюда! – и втащил мальчика за плечи в комнату. – Ты как смеешь издеваться над сестрой и трепать с таким неуважением наше имя и титул? Твоя сестра вышла по любви за благороднейшего человека, который отдал жизнь за Родину! Разве было что-нибудь позорное в ее браке, что ты смеешь ее так попрекать? Ей нелегко было вырастить тебя. Другая на ее месте давно бы отправила брата в детский дом. Посмотрел бы я на тебя тогда – каким ограниченным и забитым ты бы вырос! Ты непомерно неблагодарен и дерзок!
– Олег, Олег, нельзя так говорить! – воскликнула Нина, вбегая вслед за Микой.
– Я не вмешивался до сих пор в ваши отношения с братом, Нина, но он затронул наше имя, а с меня довольно издевок над нашей семьей. Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, Мика, ты получишь от меня такую затрещину, что своих не узнаешь! Хочешь на кулачки? Ты, кажется, воображаешь, что у меня сил нет? Да я справлюсь с тремя такими, как ты! Подойди только!
– Олег, успокойтесь! Что с вами? – твердила испуганная Нина. – Уверяю, что эти издевки только по моему адресу: он не хочет допустить меня поговорить с учителями, а между тем к нему настолько несправедливы, что пора уже вмешаться кому-нибудь.
– Нина не хочет понять, что сделает только хуже, – вмешался запальчиво Мика. – Они занижают мне отметки, а на мои возражения откровенно заявляют: «А зачем носишь крест на шее?» или: «Не первым же учеником делать княгининого братца!»
– Это говорят с кафедры педагоги? – перебил Олег.
– Педагоги. Особенно политэкономша и физик.
Нина и Олег смотрели друг на друга
– Что за возмутительная травля! – воскликнул Олег. – Разрешите, Нина, вмешаться мне. Я не стану объясняться с педагогами, а добьюсь директора и заставлю его ответить мне, есть ли распоряжение сверху, из роно, травить мальчика за происхождение и родство? Посмотрим, что он ответит мне на ребром поставленный вопрос! Если нужно будет – пойду в роно.
– В качестве кого же вы пойдете? Не знаю, удобно ли? Родственником вы называться не можете… – Нина возражала, а Мика молчал. Олегу ясно стало, что они опасались бури, которую он намеревался поднять, и предпочли обойтись без нее.
– Впрочем, как хотите, я не настаиваю, – сказал он тотчас же и подумал с горечью: «И зачем я вмешиваюсь в чужие дела? Если бы Мика был сын Димитрия – тогда другое дело! Но судьба мне не оставила даже этого ребенка. Я с моими услугами не нужен никому».
Мика прервал его мысли:
– Вы лучше скажите Нине, чтобы она сама-то меня не грызла. Сколько мне от нее достается за крест! – сказал Мика.
– За крест, от Нины?!
– Да! Она каждый день приступает ко мне то с просьбами, то с угрозами, чтобы я снял его с шеи.
Олег повернулся к Нине, которая начала бормотать оправдания, которые сводились к тому, что она хочет оградить от неприятностей Мику же.
– Не мешайте мальчику, Нина, остаться честным перед самим собой. Его принципиальность послужит примером для других. Нельзя же всем до одного измельчать и исподличаться.
И не дожидаясь ее ответа, он вышел из комнаты.
За ночь, которую он провел без сна, план его окончательно оформился и утрамбовался в его голове: завтра после работы он зайдет купить веревку покрепче и поедет в Царское Село, как будто затем, чтобы подышать воздухом. Там пройдет в Баболовский парк, который всегда такой пустынный, и там… сделает, что задумал. Перед этим опустит в почтовый ящик письмо для Нины, в котором объяснит все… Решение было твердо, но утром, когда он поднялся, ему внезапно пришло в голову одно соображение: через два дня зарплата, Нине так трудно с деньгами, Надежде Спиридоновне он должен за разбитые блюда… С какой стати дарить ненавистному правительству выслуженные им деньги? «Промаюсь еще два дня, получу зарплату и оставлю ее Нине, а если за это время придет приглашение к Нагу -просто не пойду. С того света к ответу не притянет: руки коротки!»
Это было во вторник, на Страстной. Вечер вторника и среду он провел все в тех же мыслях и как мечту носил с собой свой план. Вечер в парке представлялся ему непременно ясным и тихим. Там серебряные ивы и вековые дубы напоминают Вечашу; он пройдет под ними спокойно, совершенно спокойно, гуляя. Никто его не увидит, не будет торопить… Но в четверг вдруг замучили воспоминания… Они шли, как морская волна, одно за другим: придет, подержит на гребне и отхлынет… Почему-то с особенной силой вспоминалось раннее детство: прогулки в Вечаше, приготовления к Пасхе, игры, шалости… Несколько раз его мысль возвращалась к тому, как дорого стоило его рождение матери: боясь повредить младенца, она отказалась от наложения щипцов после тридцати шести часов мучений, когда все окружающие уже отчаялись в благополучном исходе… А он вот теперь собирался прекратить эту жизнь, данную ему с такой любовью! Но он заглушил в себе голос совести и, назвав малодушием все эти мысли и колебания, запер их на ключ.
В пятницу утром он получил, наконец, зарплату. «Итак – сегодня!» – сказал он себе, расписываясь в получении денег. «Постараюсь уйти пораньше».
Моисей Гершелевич назначил производственное совещание в своем кабинете. «К чему мне оставаться? – сказал себе Олег, – комедия этих совещаний, в которых все заранее решено, меня нимало не интересует, а неприятности, которые могли бы меня ждать в случае неповиновения, мне уже не страшны!» И на виду у всего правления, собиравшегося в кабинете шефа, пошел к выходу.
– Казаринов, вы куда? Попрошу остаться! – начальственно окликнул его Моисей Гершелевич.
– Куда вы, товарищ? – окликнула его еще другая портовая шишка.
Олег обернулся на них, и вдруг на него нашло озорство: «Нате, скушайте!» – подумал он и сказал громко:
– Куда я тороплюсь? Сегодня ведь Страстная пятница – хочу приложиться к Плащанице! – и посмотрел на всех, как будто желая увидеть, не сделаются ли корчи с этими жидо-азиатами и русскими отступниками.
Корчи не сделалось, но лица у всех вытянулись и глаза опустились. На каждом из этих лиц, казалось было написано: «Товарищи, да никак он с ума сошел. Караул! – не знаю, как реагировать». Олег усмехнулся, оглядывая их. «В моем положении есть, однако, и свой плюс, а именно: мне нечего опасаться! Оригинальное для советского служащего состояние! Я осмеливаюсь им напомнить о большой тысячелетней культуре старой России, которую они ненавидят и желали бы вовсе вычеркнуть из памяти и в которой этот день был единственным и неповторимым в году», – думал он, выходя из учреждения.
Он говорил с ними шутя, чтобы их побесить, но пока он ехал в трамвае, мысль о вынесенной на середину храма Плащанице, на которой лежат живые цветы, около которой горят свечи и толпятся молящиеся, встала настойчиво в центре его сознания. Он не был у Плащаницы все те же десять лет, роковые в его жизни. «Зайду на минуту в церковь, приложусь сначала, а уж потом…»
Поразительная картина ждала его около церкви: ему еще не случалось наблюдать ничего подобного, так как все последние годы он провел вне города. Вокруг церкви, извиваясь вдоль садовой ограды, стояла очередь к дверям храма. Пожилые интеллигентные мужчины, простолюдины, бабы в платочках, дамы в туалетах, которые 15 лет тому назад были последним криком моды, сшитые у Вога и у Брисак – все серьезные и тихие, терпеливо ждали своей очереди под медленно накрапывающим дождем. Многие стояли с детьми, мужчины почти все стояли с обнаженными головами – даже те, которым было еще далеко до церковных дверей. Олег тотчас уяснил себе, в чем тут дело: ведь в этом огромном городе осталось 11 церквей вместо нескольких сотен – вот почему такое стечение народа. Это та Русь, которая не дала за полтора десятилетия изменить себе и лицо, и сердце. Он тотчас же занял место в очереди и подумал при этом, что если бы он был неверующим, он встал бы ради этого молчаливого протеста. Но торжественная тишина ожидания сообщилась понемногу его душе, и сонм воспоминаний опять закружился в сознании. В детстве у него был хороший голос – высокое чистое сопрано, и когда он поступил в корпус, он был отобран в хор кадетской церкви, где пел, пока в 14 лет не пропал голос. Он вспомнил, как на Страстной пел в трио в стихаре посередине храма «Да исправится молитва моя», и мать приходила в этот день в церковь послушать его. Какие они были тогда еще невинные, все трое, – и ему вспомнились херувимы, которые сидят у ног рафаэлевской Мадонны! Фроловский выносил свечу из алтаря, тоже в стихаре, с самым благоговейным видом, но это не помешало ему вечером этого же Дня, заманив Олега в пустой класс, наговорить ему всевозможных вещей по поводу того, откуда берутся дети… И как будто разом что-то разрушилось в восприятии мира, целая гамма невидимых лучей угасла, что-то словно подменили во всем окружающем. Отправляясь на Светлое Воскресенье домой, Олег думал, как будет смотреть в глаза матери: ему казалось, что она при первом взгляде на него поймет, что он уже не тот. Теперь он мог только улыбнуться, вспоминая свою душевную растерянность в те дни. Когда после двухчасового ожидания подошла очередь Олега приблизиться, он, вспоминая свое преступное решение, не осмелился коснуться губами священного изображения, а приник к нему только наклоненным лбом…
Когда он вернулся домой, то запечатал прежде всего письмо к Нине, которое приготовил накануне: «Дорогая Нина, я не вернусь – так будет лучше для всех вас. Я не вижу ни цели, ни смысла в своем существовании. Простите, если я огорчаю вас. Я думаю теперь, что мне лучше было не появляться вовсе на фоне вашей жизни: этим я бы избавил бы вас от многих тяжелых минут, которые подошли к вам со мною. Не упрекайте себя ни в чем: вы сделали для меня все, что могли. Вы найдете в ящике стола мою зарплату – пусть это будет для Мики на лето, за вычетом долга Н. С. Ваш Олег Дашков». Запечатывая это письмо, он думал: «Бросив его в ящик, я этим отрежу себе дорогу к отступлению». Впрочем, он не видел в себе ни капли колебания – церковные веяния слегка освежили душу, но не изменили ничего. Он взглянул в последний раз на комнату. Стал шарить по карманам. «Веревка здесь. Так. Денег на обратную дорогу не нужно – эти три рубля лишние, прибавлю к Мининым. Авторучку оставлю Мике, портрет мамы возьму с собой, посмотрю в лесу. И пусть будет на мне вместо иконки или креста». Он только что хотел снять со стены портрет, как вошел Мика. Взглянув на лицо мальчика, он подумал: «Мальчик симпатичный, честный, живой и умный, немного запальчив и груб, но это пройдет с годами. Я мог бы пригодиться ему, но ведь он мне чужой». И он опять подумал, что если бы остался жив ребенок Нины – сын Димитрия, ему было бы для кого жить, а так все, решительно все гонит его из жизни! Ему не хотелось заводить разговора, но Мика заговорил первый:
– Вы знаете наши последние школьные новости? В Светлое Воскресенье мы обязаны с десяти до двенадцати утра ходить по квартирам собирать утиль, и это уже третий год подряд такая история! Нарочно, конечно, чтобы вырвать нас из домашней обстановки и испортить нам праздник! У, злющие! Ну, да мы в этот раз устроили им хорошую штуку – я и мой товарищ Петя Валуев,- мы написали в классе на доске крупными буквами: «Металлом и ломом по суевериям и предрассудкам», а в другом классе: «Товарищ, ну стань же скорее ослом, поди, собери-ка металлолом!» Боже мой, что тут поднялось: шум, крики, комсомольское собрание, негодующие речи… Пионервожатая из кожи вон лезла: «Как так?! Кто посмел издеваться? Контрреволюция! Черносотенцы, белогвардейцы, сыскать!»
Нина, вошедшая вслед за братом, хоть и засмеялась, но спросила с тревогой в голосе:
– А не дознаются? Никто не выдаст?
– Никто не видел, а буквами мы написали печатными. Раньше хлам собирали татары, ну а теперь русские школьники – достижение: дорога нацменьшинству!
Но Олег слушал их рассеянно, думал, скоро ли они уйдут. А Нина, как нарочно, спросила:
– Вы куда это собрались, Олег?
– Я? Загород… Хочу подышать воздухом, – ответил он. Они заговорили снова и все не оставляли его. Наконец Нина пошла к двери.
– Прощайте, Нина! – воскликнул он тогда с неожиданным для себя волнением: ведь она была одним из осколков прошлого! Она быстро обернулась и пытливо взглянула на него.
– Я вернусь, когда вы уже ляжете, – поспешил он прибавить и поцеловал ей руку. Она вышла, вышел наконец и Мика. Ему он не сказал даже «до свидания», боясь возбудить подозрение. Оставшись один, тотчас схватил портрет и остановил глаза на прекрасном лице. «Видишь ли ты сейчас своего сына? Если ты не хочешь, чтобы я попал в темноту, – соверши чудо! А так – я больше не могу». Если он ощущал идею бессмертия, то только через ее любовь, через мысль, что эта любовь не могла исчезнуть, прекратиться. Ее возвышенная душа оставила после себя неуловимый след – чистую струю, которой он иногда умел коснуться внутренним напряжением. И вот это, неясное, но сильное ощущение не давало ему разувериться в истине бессмертия. Более очищенной и тонкой душевной структуры он не встречал ни в ком. Нечто похожее показалось ему в этой девочке, в Асе, – она тоже словно бы освещена изнутри… но с Асей все кончено.
Он вынул портрет из рамки, надел шинель, взял конверт, адресованный Нине, и двинулся к двери. Теперь все уже было готово, обречено, назначено: только доехать да выбрать дерево – два-три часа жизни! Чудес в наши дни не бывает, и ничто уже не спасет его!
В дверях он столкнулся с Аннушкой:
– Письмо к тебе, – сказала она.
– Повестка, вы хотите сказать? – поправил он, переносясь мыслью к Нагу.- Требуют, наверно, расписки.
– -Да кака така повестка? – возразила она. Письмо говорю, сейчас из ящика вынула. Бери вот, – протянула письмо и вышла.
Он взял его с недоумением: от кого? Почерк был незнакомый и как будто несколько детский… Перед фамилией стояло большое «Д», вычеркнутое, и уже после было поставлено: «Казаринову» – стало быть, писал кто-то, кто знал тайну его происхождения… но кто? Приговоренное сердце заколотилось тревожно и быстро – разве что-то еще могло волновать его в этой жизни? Он разорвал конверт.
«Я вам пишу в церкви. Я только что причащалась. Сейчас поют «Тело Христово примите», а я сижу на ступеньке и вот пишу. Я за вас молилась и поняла, что необходимо скорей открыть вам одну мою тайну: я не боюсь «безнадежного пути» – вот эта тайна! Ваша Ася».
Он стоял с этим письмом неподвижно… Что это? Ведь это как раз то единственное, что могло удержать его от непоправимого преступного шага, что могло разбудить желание жизни, перестроить все струны. Отчего именно сегодня, сейчас написала ему письмо эта милая невинная девушка? Ведь она же не могла знать, что он задумал, или все-таки знала, чувствовала, уловила в воздухе? Ее душа живет «слишком близко», ее душа – эолова арфа, ее душа – тончайшая мембрана! Задержись это письмо на несколько минут или пролежи лишнюю секунду в ящике, и он бы ушел из дому, и все было бы кончено… «Ну тогда измени что-нибудь в моей жизни, а так я не могу», – сказал он только что матери – и вот все изменилось! Это – чудо, это на самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту. Кто-то оттуда, сверху, оберегает и защищает его, не желая его погибели. В безнадежности, в темноте как будто зажегся факел и осветил ему путь. В этом письме был призыв к жизни, оно было обещанием любви, в нем был порыв, нежность и все та же очаровавшая его чистота – «Ваша Ася». С бесконечной нежностью смотрел он на эту подпись, которая обещала ему все те радости, по которым так тосковала душа! «Все знали, что я на грани отчаяния, – думал он. – Но день и час угадала одна, и руку помощи протянула она же!» Убивать себя сейчас было бы кощунством, было бы подлостью, маловерием, он видел перед собой опущенные ресницы и точеное лицо… Спрятав письмо в карман, он бросился из дому, вскочил на ходу в трамвай, выскочил тоже на ходу, едва не попав под колеса огромного грузовика, и вбежал в знакомый подъезд. На звонок отворила Ася. Она была в хозяйственном переднике поверх юбки и блузки – очевидно, занята пасхальной стряпней.
– Вы? – воскликнула она и умолкла; он тоже молчал, дыханье у него захватило… Она отступила из передней в гостиную, он вошел за ней и огляделся: они были одни в комнате, залитой светлыми весенними сумерками. Он упал на колени и обхватил руками ее ноги.
– Милая, чудная, дорогая! Вы мне спасли жизнь! Спасибо вам! Ведь я хотел, вот она… веревка! Она еще здесь, в кармане! Вы меня с петли сняли: я не мог больше жить без вас! – и он прижался головой к ее коленям. Она уронила ручку на его голову.
– Вот! Я угадала! Я знала! Это святые внушили мне, когда я подходила к Чаше! Божья Матерь, наверно!
– Я знаю, кто внушил вам! – сказал Олег, чувствуя слезы в горле. – Не Божья Матерь, а всего только моя! Ася, вы любите меня хоть немножко?
– Люблю! – прошептала она, и ярко вспыхнули нежные щеки.
– Вы будете моей женой?
Она молча кивнула и стала теребить его волосы. Он опять прижался лицом к ее ногам.
– Слишком, слишком много счастья после этой мертвящей пустоты! Ведь у меня никого, никого не было! – и потом, оторвав лицо, взглянул на нее снизу: «Святая Цицилия! Снегурочка! Царевна Лебедь!»
На пороге показалась Наталья Павловна. Олег стремительно вскочил с колен.
– Наталья Павловна, я только что сказал Ксении Всеволодовне, что люблю ее, и просил быть моей женой. Я, может быть, должен был сначала обратиться к вам, но все вышло непредвиденно… Я прошу у вас ее руки…
Наталья Павловна опустилась в кресло. Ася приподняла руки, которыми закрыла лицо, и взглянула на бабушку.
– Подойдите оба ко мне, – сказала Наталья Павловна.
Они подошли, она справа, он слева.
– Наталья Павловна, я знаю, что это очень большая дерзость – добиваться такого сокровища, как ваша внучка. Я в моем положении не должен был решаться на это – я почти обреченный человек. За меня говорит только то, что я безумно люблю ее… Ничего больше!
Ася молчала и только припала головой к груди Натальи Павловны, опустившись на колени около ее кресла. Наталья Павловна стала гладить ее волосы.
– Я рада, что вы ее любите, Олег Андреевич. Я знаю, что вы благородный человек. Не доказывайте мне, что вы плохая партия: я не знаю, кто может быть теперь хорошей партией для моей внучки. Вы должны понимать, что я не хотела бы увидеть рядом с ней партийца из пролетариев или еврея, а люди нашего круга… все не уверены в своей безопасности, и один Бог знает, чья очередь придет позже, чья раньше. Будем надеяться, что Бог смилуется над вами ради этой малютки: она в самом деле сокровище, – и прибавила с нежностью: – Как рано расцвел мой цветочек!
Мадам, вошедшая в комнату с какими-то рассуждениями по поводу творога, положила конец этому разговору: увидев Олега и Асю на коленях около кресла Натальи Павловны и ее, обнимающую их головы, она наполнила комнату восклицаниями и поздравлениями, причем ее доброе лицо все сияло от радости. Она, по-видимому, уже рисовала себе в воображении, что в недалеком будущем, как только la restauration [60] завершится, Олег водворит Асю в особняке предков и представит ее ко двору.
Заговорили о том, когда назначить свадьбу. Ася, вырвавшись из объятий мадам, закружилась по комнате, напевая на мотив арии из «Дон Жуана»:
– Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро!
– Как не скоро? – с отчаянием воскликнул Олег. – Не огорчайте меня, Ксения Всеволодовна! Если вы назначите слишком далекий срок, неизвестно, доживу ли я!
– Mais taisez-vous, donc, monsieur! [61] – замахала на него руками француженка.
Ася приостановилась и взглянула на него с внезапной серьезностью:
– Вы остались живы – вот главное! А мне еще немножко с бабушкой пожить хочется! Ведь видеться мы будем каждый день – чего еще нужно?
И закружилась снова; косы ее и передничек развевались по комнате. Наталья Павловна сохраняла вполне корректным выражение лица, но француженка, гордясь тем ореолом невинности, которым сумела украсить воспитание Аси, как на дрожжах поднималась.
– C’est un tresor, monsieur, voyez-vous? Un tresor! [62] – повторяла она, сияя.
– Согласен с вами! – ответил он, следя восхищенными глазами за кружившейся девушкой.
– Я вас помирю! – сказала улыбаясь Наталья Павловна и предложила сделать свадьбу перед отпуском Олега, с тем чтобы они могли поехать куда-нибудь вместе. Олега оставили пить чай, к которому, точно по заказу, явились Нелидовы. Зинаида Глебовна со слезами поцеловала Асю, повторяя:
– Как бы счастлива была сейчас твоя мама!
Но в карих глазах и хорошеньких губках Асиной кузины можно было заметить недоумение: «Странно, что Ася, а не я! Ведь я же интересней – это все говорят! У меня каждая прядь волос отливает по-своему и все волосы в локонах, а у Аси прямые, у меня родинка, как у маркизы, и еще… Это все виноват Сергей Петрович со своим «не лижи чужих сливок». Ну, да не беда – я теперь буду умнее: остальные все будут мои!» Ася, очевидно, смутно что-то почувствовала. Она оттащила сестру в угол и, точно извиняясь, шепнула:
– Знаешь… я не виновата… я очень его жалела и молилась о нем сегодня… оттого все вышло!
Когда Олег поднялся прощаться, он остался на короткое время вдвоем с Асей в передней.
– Что с вами? – спросила она, заметив тень, омрачившую его лицо в ту минуту, когда он взялся за ручку входной двери.
– Я подумал: если в эту ночь придут за мной или дома повестка ждет, я не увижу вас больше! Сегодня меня спасло чудо, но ведь чудеса не повторяются изо дня в день.
– Тише, неверующий! Чудеса все время вокруг нас, но они любят совершаться в тишине: о них нельзя говорить громко. Святые спасли вас сегодня не для того, чтобы погубить завтра!
– Дорогая, следователь сказал, что вызовет повторно. Они, по-видимому, что-то заподозрили. Я каждый день жду повестки, и при мысли, что мое счастье висит на волоске… Позвольте мне, чтобы унести о вас память в тюрьму…
Он клонил к тому, чтобы выпросить у нее поцелуй, но она перебила его:
– Слушайте! С тех пор как я стала большая, я еще ничего никогда не просила у Бога для себя. Я всегда всем была довольна. Сегодня я попрошу! Не беспокойтесь, спите всю ночь спокойно – я все устрою! Я это беру на себя, слышите?
Он благоговейно поднес к губам тонкое запястье и вышел, странно успокоенный этими доводами, но несколько пристыженный.
Затворившись у себя в этот вечер, Ася, уже раздетая, опустилась на колени на коврике у постели. «О, что за день! Он весь был полон любви и света! Я буду умирать и будет помнить этот день. Я очень устала и засну, как только положу голову на подушку, но это нельзя – надо молиться: мне опять страшно за него! Старец Серафим всегда всех слышит, уж если он слышал меня за крокетом, то тем более услышит теперь». И перед глазами Аси на минуту возникла Березовка и крокетная площадка, где шла ожесточенная битва между ней и кузеном Мишей с одной стороны и братишкой Васей и Сергеем Петровичем с другой стороны. Битва была ожесточенная, но силы явно неравные. Это было в 1916 году. Сергей Петрович – в те дни молодой офицер – приехал на несколько дней в отпуск с фронта и, появляясь между детьми на крокетной площадке, производил неизменный фурор: метали жребий, кому из них играть с ним в одной партии, и приходили одни в восторг, другие в отчаяние от каждого удара его молотка, так как бил он без промаха и производил неизменное опустошение в лагере противника. И вот в этот знаменитый вечер шар его по обыкновению прошел с первого же хода весь путь и, став разбойником, объявил крокировку шару Миши; крокировка эта грозила тем, что новоиспеченный разбойник, забрав себе ходы, сгонит с позиции шары противной партии и под своей опекой в одну минуту поможет закончить Васе. Ася, страстно увлекавшаяся игрой, приходила в отчаянье от этой мысли. Шары стояли на таком коротком расстоянии, что даже среднему игроку легко было попасть, а такому чемпиону, как Сергей Петрович, удар этот, казалось, не стоит усилий. Спасения не было – Сергей Петрович уже взялся за молоток с артистической небрежностью и изящной самоуверенностью. Замирая от страха, семилетняя Ася надвинула на лицо пикейную шляпку и, закрыв глаза, на минуту сосредоточилась: «Старец Серафим! Милый, чудный, родной старец! Помоги мне и Мише! Сделай так, чтобы гадкий, злой дядька промазал! Защити от него!»
Она услышала короткий сухой удар и вслед за этим всеобщий вопль, в который слились и восторг, и ужас. Она отодвинула шляпку от лица и оглядела поле сражения: шар Миши стоял невредимым, сам Миша прыгал и визжал от радости, а у Васи глаза были полны слез – оказалось, что Сергей Петрович не только «промазал», не и умудрился каким-то образом задеть собственным шаром колышек и теперь должен был выйти из игры. Дело кончилось полной победой Аси и Миши. Вот этот случай вспомнился Асе теперь.
«Даже в таких пустяках старец слышал меня, тем более услышит теперь, когда я буду молиться за жизнь человека! – говорила она себе. – За крокетом он это сделал не ради пустяшной игры, а ради славы своей: он явил могущество молитвы, чтобы на всю жизнь запомнила я, с какой любовью относятся к людям там. Старец, милый! Я знаю, какой ты добрый – ты даже медведя пожалел. Пожалей моего Олега! Олег такой хороший! Устрой, чтобы они спутались со следа. О, пожалуйста, пожалуйста, старец Серафим! Сделай это для меня, для Аси».
Однако молитвенного напряжения хватило ненадолго, голубой свет лампадки придавал фантастические очертания предметам, и скоро она задумалась, глядя на причудливые тени на потолке. «Как трудно быть сосредоточенной! Надо все время делать усилие. Наверно, нужна очень большая внутренняя дисциплина. Попробую еще раз». Были ведь молитвенники – она слышала о них и читала, – которые умели всю полноту мысли и чувства вкладывать в молитву Иисусову или иные славословия – и достигали озарения: у них открывались внутренние очи, и дивные потусторонние лики становились доступны их взгляду…
«Вот оно – это сияние под веками, которое я так люблю! Вот это веяние на лбу… точно кто-то коснулся меня крылом… Я приближаюсь к черте, за которой неведомое… Еще одно усилие, и я ее перейду!»
Но молитвенный взлет, при всей его интенсивности, не мог у нее быть длительным – достигнув наибольшего напряжения, он стал постепенно ослабевать. Нет, не проникнуть! Не вырваться мне из теней земного сознания… Только тем, которые достигают святости, это дано – они могут слышать нездешние голоса и видеть невидимые облики, а я… В «Consolation» [63] Листа и в «Китеже» Корсакова есть что-то от этого состояния… Экстаз Скрябина? Нет, там не то – там усилие сверхчеловечности, но нет умиления! Я люблю Римского-Корсакова за благородство его мелодии. А Глинка? Кто это сказал: «Глинка, Глинка, – ты фарфор, а не простая глинка!»?
Голова ее склонилась к подушке, и она заснула на коленях около кровати. Когда она очнулась и с недоумением огляделась, в комнате было уже совсем светло, и доносился городской шум. Она озябла и, дрожа от холода, поднялась с колен. «Седьмой час! Что же это? Я проспала 4 часа и оставила его без охраны! А вдруг его взяли?»
Страх за любимого человека сжал сердце, и опять она бросилась на колени.
«Господи Иисусе Христе! Я не хочу верить и не верю, что, пока я спала, черная карета приехала и увезла его! Я не хочу верить, что Ты можешь быть так жесток, чтобы украсть его у спящей! Я нечаянно заснула – я устала! Господи Иисусе Христе, Сам, Сам услышь меня, Сам! Будь милосерд к нему и ко мне! Не отпускай его в тюрьму, не отдавай его этим страшным людям – довольно уже они мучили его. Дай ему немного счастья, хоть один год чудного светлого счастья! Господи! Ты слышал разбойника и Магдалину – услышь же теперь и Асю!»
Она сжимала маленькие руки. «Мучительно это беспокойство! Неужели так будет всю жизнь? В 9 часов он должен быть в порту, ехать туда очень долго, наверно, он теперь уже встал. Позвоню ему по телефону».
Она накинула на плечи халатик и босиком выскользнула в коридор. Вздох облегчения вырвался из молодой груди, когда она услышала его голос.
– Вы? Слава Богу! Простите, что я так рано. Я… видите ли… я в середине молитвы нечаянно заснула… так вот поэтому я хотела узнать, все ли благополучно… Да, да – молилась. Да, всю, всю ночь… Ничего, не заболею… Любите? И я люблю. А теперь до свидания, мне хочется согреться и заснуть. Меня в постели ждет мой щенушка… Не расслышали кто? Щенушка! Бабушка не позволяет мне с ним спать, а я беру его… Все-таки не расслышали? Ну да, собачка, щенок, поняли? Наконец-то! Ну, я бегу. Приходите обедать прямо из порта.
В восемь часов француженка пришла будить Асю. Спутанная головка с розовыми щеками приподнялась с подушки, а рядом зашевелилась кудрявая мордочка пуделя.
– Мадам, не гоните его и не говорите бабушке. Я так люблю с ним спать. Мне без него скучно. Мадам, душечка, можно мне заснуть еще часочек, пока не встанет бабушка? Закройте меня хорошенько.
Француженка заботливо поправила на ней одеяло и перекрестила ее. «Право, можно подумать, что малютка решила заспать вперед за все те бессонные ночи, которые у нее будут после свадьбы, когда молодой муж не даст ей покою. Вот тогда ей скучно не будет», – подумала она и, воображая себе поцелуи, которыми Олег станет осыпать Асю, вся расплылась от умиления. По той или иной причине, но с этой ночи Ася уже не знала, что такое спокойный сон.
Повесив трубку после разговора с Асей, Олег поспешно допил чай и вышел из квартиры, торопясь в порт. В подъезде, едва он открыл дверь, к нему под ноги кубарем подкатился ребенок, споткнувшись о приступку подъезда, и пронзительно разревелся. Олег подхватил его на руки.
– Что ты, мальчуган? Ушибся? Да не кричи так – визжишь, как поросенок, которого режут. Разве мужчины плачут? Э, да ты, наверное, девочка! Девочка в штанишках, да?
Ребенок обиженно и озадаченно смолк.
– Вовсе не девочка. Я – мужчина! – ответил он.
– Да как же так? Мужчины-то ведь не плачут и не кричат, – и желая отвлечь внимание ребенка, Олег прибавил: – Видишь, какая у меня дыра во лбу? Это была рана, а я не плакал.
– Нет, плакал!
– Нет, не плакал!
– Ну и я не плачу!
– Не плачешь? Ну, это – другое дело! Мне, значит, только показалось! А что ты здесь на улице делаешь?
Продолжая разговаривать с мальчиком, он посмотрел на тротуар, где шагах в десяти от себя увидел безногого нищего, в котором узнал солдата, продавшего ему револьвер. Как он попал к моему дому? Случайно? Странно! Нет, это не случайность – подстроено. Он и есть тот доносчик, который заварил всю эту кашу. Зашифрованная очная ставка, по всей вероятности. И все продолжая разговаривать с ребенком, он зорко обводил вокруг глазами, по-военному оценивая положение. «Нищий здесь, конечно, по приказанию Нага. Но где же сам Наг? Притаился в соседнем подъезде, наверно. Попробую пройти. Всего вернее, что подлец-нищий окликнет, и вряд ли поможет, если я не обернусь. И все-таки: ни на фамилию, ни на «господин поручик», ни на «ваше сиятельство» оборачиваться не следует… Дело плохо. Напрасно молилась моя сказочная царевна! Но так или иначе, идти надо».
Он спустил с рук ребенка, потрепав его по щеке, и пошел вперед быстрым шагом с видом равнодушного, торопящегося человека. Он не смотрел на нищего и все-таки видел его. Ему показалось странно, что нищий смотрел мимо и тоже как будто не хотел его узнавать – отсутствующим, безучастным взглядом он обводил вокруг себя…
– Гражданин! – услышал вдруг Олег чуть ли не около своего уха. «Так и есть, останавливают!»
Он обернулся – незнакомый человек в штатском подходил к нему.
– Извиняюсь, товарищ, нет ли прикурить? Спички забыл, – сказал этот человек. «Условный сигнал. Нищий должен опознать меня опознать – все ясно! Сейчас окружат: тут, конечно, шныряют переодетые шпики», – думал Олег, протягивая спички.
Человек закурил.
– Благодарю, товарищ, – и пошел в сторону.
У Олега было странное чувство в спине – какая-то связанность, каждый нерв позвоночника словно ощущал на себе пристальные недобрые взгляды, которыми, очевидно, провожали его. «Не останавливают пока. Дошел до угла… Прибавлю шаг. Оборачиваться не следует ни в каком случае. Как только поверну на Симеоновскую – побегу за трамваем – это покажется вполне естественным. Таким образом, выясню, идут ли следом. Поворот уже близко… есть!»
Никто не остановил его.
На работе с минуты на минуту он ждал, не вызовут ли в спецотдел. «Быть может, сразу не остановили только потому, что задержали переговоры с нищим? Да и зачем им спешить? Куда я денусь? Я ведь разыграл полнейшее неведение, ребенок помог сориентироваться. Да и куда бы я мог скрыться, если бы даже намеревался? Заграницу не убежишь, как было принято раньше!»
День прошел благополучно. «Дома может быть засада?» Подымаясь по лестнице в свою квартиру, он встретил Мику, который «сыпался» вниз (патент на это выражение был собственностью мальчика).
– Что скажешь, Мика? Все благополучно дома?
– Все, кроме того, что мне опять влепили три! – крикнул Мика, не останавливаясь.
«Странно! – подумал гвардеец. – На какой-то срок опасность, по-видимому, миновала; что же мог сказать им обо мне нищий?»
А нищий сказал: «Не знаю я этого человека, товарищ следователь. Это не поручик Дашков. Прикажите доктору не тревожить меня больше».
Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не умещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали, крестный ход не выходил наружу – все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла: каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушённый отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками – она тотчас водворялась снова. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали: «Шапки долой!» – и зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были поснимать их. Конная милиция теснила толпу по краям, милиционеров было так много, что можно было опасаться облавы – примеры чему бывали. Но толпа не расходилась и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклы буравили ее, она молча размыкалась и смыкалась снова.
Олег стоял около ограды, на которую ему удалось поставить Асю и Лелю. Он опять обнимал ножки Аси, придерживая ее. Ни одного звука не долетало из-за наглухо закрытых дверей, и все-таки им было хорошо! «От Пасхи в царское время всего ярче в памяти у меня остались белые гиацинты и колокольный звон», – думала Ася. «Хрустальная, чистая царевна моя! Если бы не ты, я бы качался сейчас на суку», – думал Олег, прижимаясь головой к ее коленям, с нежностью припоминая, что на шее ее он увидел в этот день ожерелье из пасхальных яичек на тонкой золотой цепочке. «Это было принято раньше, а теперь давно уже я не видел ни на ком такого ожерелья. Что-то особенно родное и нежное есть во всем, что ее касается». С глубокой внутренней радостью он сознавал, что в нем молчит в эту минуту мужская страсть, и только глубокую умиленную нежность чувствует он к этой девушке. «Как хочется верить, что встречу с Асей мне даровала душа мамы, воскресшая после своей Голгофы!»
Идея бессмертия носилась в эту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилен.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Еще в восьмом классе – а теперь он был в девятом – Мика несколько раз говорил своему товарищу Пете Валуеву:
– У меня идейный кризис! Эта пустота Теречеллева, эта безыдейность вокруг нас угнетают! Никто из окружающих меня этого не хочет понять! Ну жил бы я, допустим в Х1Х-ом веке – сделался декабристом или, может быть, народником, или редактором вроде «Современника», а то так сбежал бы на Балканы или к Гарибальди. А теперь что? Идейных людей днем с огнем не сыскать. Знаешь, я прихожу к мысли, что всякая доктрина, едва лишь она принята и канонизирована, страшно теряет в своей первоначальной чистоте. Взять христианство первых веков до Константинополя и сравнить с тем, какое оно теперь; или социализм: пока он был в подполье, у революционеров он был хорош, а вот во что выродился теперь! От наших комсомольских собраний и пионерской линейки уже тошно делается, а партия со своей генеральной линией просто тюремщик. Душевный голод грозит моей жизни; и вот в такое то время Нина не дает мне проходу со всякой ерундой, я всегда виноват: то салфетку не сложил, то сапоги не вычистил, то не встал при входе тетушки… Она не хочет понять, что до этих мелочей мне вовсе дела нет, я не могу о них помнить.
– А я тебе скажу вот что, – в свою очередь исповедовался Петя, – если кто вообще ищет правду и заглядывает вглубь вещей, так это именно мы в 14-15 лет. Эти самые взрослые словно шелухой обросли: кто карьеру строит, кто за семью трясется, а кто уже обмещанился по самую маковку… Ничего они не хотят знать, не хотят видеть. Соль земли – мы с нашими острейшими запросами, с нашим душевным голодом… А вот нас-то и презирают и в семье, и в школе.
Аксиомой раз навсгеда принятой двумя философами было: дома в кругу родных ничего захватывающего, большого, заслуживающего интереса быть не может. О домашних делах говорилось всегда в презрительном тоне. С комсомолом дело обстояло еще острее: комсомол насаждался, навязывался и этим уже набивал оскомину. Туда шли по проторенной дорожке один за другим, как стадо баранов, шли, чтобы не отстать от других, чтобы облегчить себе дорогу в вуз, чтобы не прослыть антисоветскими. Комсомол бросал иногда лозунги, которые, казалось бы, могли увлечь юные умы, но престиж этой организации был уже настолько загрязнен в глазах мыслящих людей, что набрасывал тут же тень на свои великие слова и они не загорались огненными буквами! В рядах комсомола в данный момент не находилось ни одной сильной, яркой личности, которая способна была бы увлечь собственным примером или хотя бы искренним словом. Высказывания, дословно почти повторяющие передовицу «Правды», заставляли мальчиков только насмешливо переглядываться. К тому же для них не оставались в тайне методы, идущие за красивыми лозунгами. Вражда с комсомольской организацией школы началась еще с дней пионерской линейки. Месяца за два до предполагаемого перехода в комсомол был взят в концлагерь отец Пети Валуева – бывший правовед. Через несколько дней пионервожатая сделала мальчику какое-то замечание на линейке и прибавила во всеуслышание:
– Не бери пример со своего отца.
Петя, вспыхнув до ушей, со злостью уставился на пионервожатую, подыскивая достойный ответ.
– Вы по какому праву так говорите? Ведь его отец не уголовник, – в ту же минуту задорно отчеканил Мика.
– Папу взяли как правоведа! – в свою очередь крикнул Петя, – сейчас всех правоведов хватают! – и голос его оборвался.
– Правоведы – враги трудящихся. Истинный пионер не должен заступаться за них, – догматически возвестила пионервожатая и велела выровнять ряд.
– У нас все враги как посмотришь!