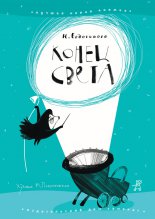Лебединая песнь Головкина Ирина
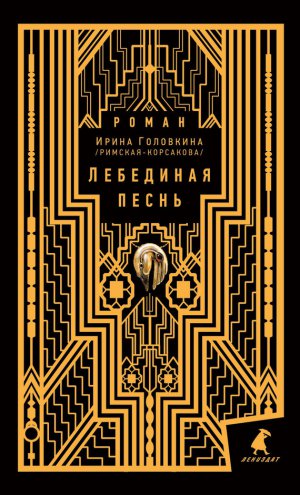
Нина и Сергей Петрович молча взглянули друг на друга; он пожал и выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней; за весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу.
Комендант сделал остановку в Могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в Могильном и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не зная, куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утра увидела отряд выходящим из ворот.
Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади; сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень, во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за отрядом, все-таки дошла до Клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладело отчаяние.
– Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь… я его не увижу больше!
Клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом… Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатушке, и вот что теперь!… Она озябла и проголодалась, волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель и кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь: ее хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг – ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный, убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею: наводили ужас темные углы пустой хаты – они, казалось, жили угрюмой, таинственной жизнью, казалось там, в глубине, в паутине, роились и прятались все призраки, которым пугали ее в детстве -буки, ведьмы, кикиморы… Скоро над ней начала протекать крыша; сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанило частой дробью; она не шевелилась – страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку:
«Я сыграю тебе Моцарта!» – вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги, на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу перебравшихся из мокрых углов поближе к ней к величайшему ее ужасу. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженная черной армией.
О, Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится! Надо отговорить Асю от брака с Олегом: он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, Ася же так молода и такая еще дурочка! Она, конечно, тотчас же нарвется на беременность, а потом окажется с ребенком в таком же медвежьем углу. Завтра же пошлю телеграмму – это моя прямая обязанность теперь, когда я познакомилась с жизнью ссыльного.
Забрезжило, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугунке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза.
– Дверь отворилась, на пороге показалась баба в ватнике и в сапогах и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой.
– Что вам? – спросила Нина.
– Ничаво, ничаво, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся.
Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже двое, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Внезапно ее озарила догадка: слух, что она только что зарегистрировалась с ссыльным, к которому приехала, очевидно, уже докатился; в представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь! Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась: баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали: она ударила рукой по подоконнику и вскочила:
– Да что же это здесь, театр, что ли? Уйдите! Мне никого не надо. Я хочу быть одна! – и захлопнула за ними дверь.
«Ну! Что делать? Идти в Могильное к коменданту? Остается только это или я не узнаю ничего! Опять эти 30 верст, опять собака… Ну да уж ничего не поделаешь!
Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. «Хороша же я сейчас вся заплаканная в зипуне, в сапогах», – думала она, и, не подозревая, что скорбь, разлитая по выразительному лицу, делала его лучше, чем она знала его в зеркале в обычные дни. Теперь при свете дня, вновь пересматривая свое решение отговорить от замужества Асю, Нина пришла к тому, что рассуждала неправильно. Подобной телеграммой она только бы непоправимо скомпрометировала Олега и, может быть, навсегда поссорилась с ним, а цели своей по всей вероятности не достигла. «Когда мы влюблены, мы все делаем глупости, и я сделала величайшую, приехав сюда. А впрочем, глупость эта, может быть, самое большое и лучшее, что мне довелось сделать!»
Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история, с тою только разницей, что после третьей подачки собака уже не скалила зубы, угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вильнув хвостом, взяла его из ее рук.
– Демон, Демончик, хороший Демаша! – завела уже привычную песню Нина и, все еще робея, направилась к крыльцу, а Демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома: сравнение было не в пользу человека, настолько грубо были высечены черты коменданта и настолько тупость этого лица вызывала впечатление примитивности и чего-то скотского, впрочем, не злого.
– Здравствуйте, товарищ комендант! – стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. – Вот решила заглянуть к вам, чтобы прослушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?
Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней:
– Просим, просим, товарищ артистка!… Садитесь. Не желаете ли пивца холодного? Дочка уж мне житья не дает: когда же твоя знаменитая певица меня послушает?
Нина поспешила мило улыбнуться:
– Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней; я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт?
Тупое лицо как будто слегка насторожилось.
– Вы это о чем, гражданочка?
Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины.
– Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией согласно вашему разрешению и была невольной свидетельницей.
Спазма сжала горло Нины. Комендант наблюдал ее немного пристальнее, чем раньше.
– Так, так, гражданочка, точно. Что ж дальше? Подчиненный мой действовал согласно инструкции. Над нами ведь тоже начальствуют, доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали. Никакого упущения по службе не было, могу вас уверить! Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный: вам оно… страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка; забудьте – вот и вся недолга! Мой вам совет: от ссыльных лучше держитесь подальше; особенно от пятьдесят восьмых – неспокойный народ! Должен я вам сказать: с уголовниками куда легче, свои ребята! А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и все в лес смотрят.
Глухое, больное возмущение, накипавшее в Нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. «Упущения по службе не было! – со злостью подумала она. – Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша! Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека. А мой Сергей с этой смертью будет еще более одинок!»
Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно:
– Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил: это меня не касается. Я хотела узнать, за что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорей.
И опять ей перехватило голос.
– Подождите, подождите, гражданочка, дайте я справлюсь в рапорте, я не упомнил фамилии. Минуточку.
Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид.
«Свинья в ермолке», – подумала Нина.
– Как фамилия вашего супруга, гражданочка?
– Бологовский, Сергей Петрович.
– Так, так; совершенно верно; Бологовский под арестом: «Пытался возмутить против конвоя…», видите ли, какая штука! Это вам не фунт изюма, гражданочка! Вы извините, я попросту. Есть у нас в гепеу новые ученые кадры; те выражаются и действуют, так сказать, по всем правилам полицейской науки, а я на переподготовке еще не был и привык этак попросту, по-солдатски. Зато уж вы мне неудачное словцо в строку не ставьте.
Его, по-видимому, смутило выражение «фунт изюма». Нина усмехнулась.
– Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно! Снимите показание с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно!
– Я не собирался заваривать дела и чинить допрос по всей форме, гражданочка; домашним образом думал справиться. Тут, чего доброго, нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное и в Калпашеве людей отпускал только по моей мягкости: одолевали меня с просьбами: кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов по специальности… Ну, и соглашался; вот и вас прикомандировал, а по всей строгости оно бы не следовало, да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься… Ну, а начальство может косо на это поглядеть: мирволит, скажет!
Невольно шире открылись глаза Нины: так этот держиморда опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив – в мягкосердечии и гуманности! Хороши же были типики, сидящие над ним, уже кончившие школу палачей! Но так или иначе, а огласки этот великолепный администратор не желал! Нина тотчас это учла и очень дипломатично сказала:
– Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам.
– А с кем вы там говорить намерены?
– Я знакома кое с кем в Томске, – храбро солгала Нина. – Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпускать.
– А вы меня, гражданочка, уж не припугнуть ли желаете? Из этого, доложу я вам, ничего не выйдет: я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны; партийных взысканий не имел, стою твердо – не подкопаетесь.
– Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных, а что значит «кончить домашним образом» я не понимаю! Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других?
– Никак нет, гражданочка! Ссыльных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром, без следа, пропадают люди самые полноправные, а не то, что высланные! Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своею головой, но у меня здесь или осужденные, или административно-высланные. Таких тысячи в каждом из здешних районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб – довольно, что знаю я.
Нина вся дрожала от негодования, а тот продолжал:
– Для знаменитой артистки я всегда готов стараться! Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины; вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распоряжаться, как сам нахожу нужным – запомните, гражданочка! Хоть повесить, ежели заблагорассудится; но я, имейте в виду, не суров.
Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады. Ватник и платок были незаметны на ней.
– Я вас поняла, товарищ комендант, благоволите теперь привести меня к вашей дочери.
Два часа она просидела с кривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла – чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения, а надо было до сумерек пройти опять тридцать верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенной, и что вследствие этого встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную Клюквенку.
«Бедный Сергей! Как я боюсь, чтобы он не повредил себе на допросе: он слишком горяч! Я могу здесь пробыть еще неделю… если комендант не выпустите его теперь же, и я уеду, не зная его судьбы, что я скажу Наталье Павловне? Злой рок преследует меня и в новом замужестве!»
Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуро молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг на одном повороте она увидела неподвижную мужскую фигуру, стоявшую впереди на дороге.
«Кто это? Уж не бродяга ли – беглый уголовник?»
Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах десять лет назад, она панически боялась чужих мужчин, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки. Теперь при одном взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее заколотилось сто раз в минуту.
«Почему он стоит? Никто не услышит, если я закричу. Надо было дождаться в Могильном, пока не выпустят Сережу. Бежать в чащу? Но я запутаюсь, а дело к вечеру, там звери…»
Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее.
«Одна на один я, может быть, с ним справлюсь».
Человек подходил все ближе и ближе, и вдруг она узнала этого неуклюжего бородача: «Кажется, это философ Яша! Слава Богу! Но что он здесь делает?»
– Нина Александровна! – сказал старый еврей, подходя неуверенной, шаркающей трусливой походкой, – ну, как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше, чем никто! Не бросайте палку, через час будет темно, почем знать? Идемте.
Они пошли рядом, причем этот скромнейший человек не решился предложить Нине руку, как будто не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, Яша сказал:
– Немножко утешу вас, Нина Александровна! В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата; у одной из них муж плотник; она потащила его чинить, потом подговорили еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру.
И, взглянув еще раз на расстроенное лицо своей спутницы, спросил:
– Нина Александровна, вы верующая?
– Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду: нет, давно нет! Всенощное бдение в институте, Причащение с другими девочками – все это поэтическое воспоминание, и только! Христос, который учил человечество милосердию или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе!
– Не произносите даже шутя таких слов, Нина Александровна. Душа ваша открыта навстречу всему прекрасному, почему же в религии вы так поверхностны и рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь, на земле, в земных формах – все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере! Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые Учителя, и на этом долгом пути скорби служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их, – они начинают интуитивно постигать неисповедимость Божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть, и сами с любовью и умилением оглянетесь когда-нибудь на нынешний день и этот крестный путь в Могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените ниспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно, нитями родства потустороннего, связывают вас с любимым человеком.
– Яков Семенович, вы теософ?
– Нет, Нина Александровна. Не знаю, кто я. Вернее будет сказать – христианин или антропософ. А разве в названии дело? Родился в иудействе, я сын виленского раввина. Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попало Евангелие и, когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа, я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства, – я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом, в углу моей бедной комнаты, я читал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Еже за вы проливаемая…» Наступила Страстная; занятия в гимназии были прерваны, и вот потихоньку, как вор, побежал я, еврей, в христианскую церковь, не в нашу гимназическую, нет – разве я бы посмел туда явиться? – в монастырское подворье на окраине. Шла литургия, и когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря: «Пиите от нея вси сия есть Кровь Моя», – те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал и, знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к Чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого: и страшный протест окружавшей меня среды узкого провинциального еврейства, и косность ваших священников, и порочность вашего христианского мира – все это обрушилось на меня еще в ранней юности и едва не затушило отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный Образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее, уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами материальных благ, и лишь когда окончание университета дало мне право и жить и работать в Петербурге, я принял Крещение. Здесь выплыли новые трудности: священники, к которым я обращался, после бесед со мной отказывались меня крестить, находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от Православия в самой его сути, но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки, великая Церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, не может быть полностью во власти заблуждения, как бы ни были погрешны отдельные представители. Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял! Больше того; мое самовольное Причащение он рассмотрел как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом: «Храните символ Веры и не порывайте с Причащением, тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы пребудете в Церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения». Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я, близорукий, страшился упрека в материальной заинтересованности при переходе в Православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество, а Христос в Своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать! Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый; у меня нет ни угла, ни семьи, но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно! Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки: книги были моею страстью, и на них я тратил все мои средства; за годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания, ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно от соседей по квартире, что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку, – это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла; не осталось ничего кроме радости идти за Распятым Учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой, да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком, но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала: как раз в их гуще и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами.
Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная.
– Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее, – и он прибавил с улыбкой: – Странно, не правда ли, что вы – христианка по рождению – выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так!
– Нет, Яков Семенович. Я этого не думала… Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем… Я сейчас вспомнила своего брата… вот бы вам поговорить с ним, вы бы друг друга поняли, а я…
Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно.
Когда, уже в сумерках, они подошли, наконец, к Клюквенке,и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена, пол подметен и даже печь вытоплена; а чугун полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем; очевидно, женщины предполагали, что она вернется из Могильного с мужем, и решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако, она так устала, что не могла есть, а тотчас улеглась на лавке и в этот раз проспала всю ночь как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь: может быть, и в самом деле отпустит после допроса! Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник, который обегал ссыльных, вызывая на перекличку к коменданту, так как был понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды.
Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску, ей опять делалось жутко; неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью.
– Кто? – спросила она, вскакивая, но не снимая крючка и дрожа.
– Нина! Открой! Это я! – услышала она знакомый голос.
Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу.
Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше – не придет до весны! Этот прощальный сигнал всегда звучит на Оби, как только шуга, первый мелкий лед, проявляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селеньях ссыльные с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Колпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слезы.
В Томске, прежде чем пересесть на поезд, она несколько дней обивала пороги некоторых учреждений. Этот город, обросший сетью лагерей и тысячами учреждений по управлению лагерями и тюрьмами, стал ей невыносим. Она побывала по крайней мере в десяти присутственных местах и не могла найти конца и начала этой сети. Ее безжалостно гоняли с места на место. По сравнению с агентами, которых она видела здесь, хамоватый комендант казался ей теперь очень человечным: он давал себе труд выслушивать ее и питал наивное уважение к званию заслуженной артистки, самовольно присвоенному ею. Тогда как в Томске она оказалась совершенно бессильна перед привычной черствостью персонала и хаосом канцелярий. Единственно, чего она достигла, – это частного обещания директора одной музыкальной школы, где она дала бесплатный концерт, попытаться вытребовать скрипача Бологовского на педагогическую работу, как только школа получит расширение штатов. Успех этого предприятия был весьма сомнителен, но это было все, чего она добилась.
Измученная и душевно, и физически, она покинула Томск в последних числах сентября.
Дни, проведенные с Асей на берегу Ильменя, показались Олегу райским блаженством: очарования любви, ранней осени и седой старины как будто соединились, чтобы закрыть от него безотрадную действительность. Он отлично знал, что гепеу может найти его на Ильмене так же легко, как в Петербурге, и, тем не менее, закрывая по вечерам двери своего «палаццо», он ни разу не подумал о том, что среди ночи может раздаться стук в эти двери, как не думал и о том, чтобы не выдать себя неосторожным словом. Здесь его личность ни в ком не вызывала ни любопытства, ни интереса: вокруг были только крестьяне-рыбаки, занятые полевыми работами и рыбной ловлей. Ася была прелестна, и все заботы и опасения таяли в лучах ее любви. Он был свободен от службы, где приходилось все время быть начеку и взвешивать каждое слово. Наскучившая пошлость задающей тон партийной среды, дешевая агитка, преследующая в новом обществе каждый шаг человека, и газеты, которые действовали на него как змеиное жало, сюда не долетали. Все это властно прикоснулось к его нервам в поезде, как только они помчались в направлении Ленинграда.
«Как странно, – думал он, – влияние большого города так могуче, что распространяется далеко за его пределы. Мы как будто уже попали в орбиту Ленинграда, и вот я чувствую уже отравленное дыхание среды, которую не переношу! Я люблю крестьян и могу с ними жить душа в душу, они всегда почти мне глубоко симпатичны, но городской пролетариат под партийным соусом мне чужд и враждебен». Первый вечер дома прошел, однако, очень оживленно и даже весело: Ася за чаем щебетала без умолку и была очаровательна, нисколько не меньше, чем в деревне; Наталья Павловна и мадам были с ним очень ласковы, и он чувствовал себя все таким же счастливым. Правда в бесконечных думах о том, что ждет его на работе и как обернется к нему ближайшая действительность, он провел почти всю ночь без сна. «Ведь у этой семьи в сущности средства к жизни отсутствуют, – думал он. – Очень большая удача, конечно, что у Натальи Павловны сохранились вещи: возможность продать то или другое всегда может выручить, но нельзя допускать систематической распродажи; я должен вносить в дом сумму, достаточную, чтобы содержать четверых, а между тем в советской действительности ставки хватает на одного, в лучшем случае на двух человек! Необходимо подработать уроками, если их удастся найти… Лишь бы с гепеу не было осложнений. О, этот вечный гнет!»
В шесть утра, когда он стал одеваться, Ася пошевелилась и открыла глаза.
– Дай мне мой чудный халатик, я приготовлю тебе завтрак, – сонным голосом отозвалась она.
Он стал убеждать ее, что все сделает сам, а она пусть сладко спит до восьми и пьет кофе, как прежде, с бабушкой и мадам. Педантичная заботливость оказалась не в характере Аси: не возражая, она потянулась, улыбнулась и с самым безмятежным видом закинула руки за голову, тотчас же забыв про завтрак. Он стал покрывать поцелуями эти плечи и локотки и в первое же свое деловое утро убежал, не сделав ни одного глотка.
«Как она беспечна! Совершенный ребенок! И лучше мне не делиться с ней моими вечными тревогами, чтобы сохранить ее подольше такой ясной и солнечной», – думал он, мчась вниз по лестнице.
По-видимому, он еще находился до сих пор во власти благоприятного течения: на работе все складывалось благополучно, Моисей Гершелевич встретил его милой начальственной улыбкой, сослуживцы приветствовали, видимо, довольные его возвращением; дела было много, но дела он не боялся, знаний и способностей в области языков у него было больше, чем требовалось, и он опять стал успокаиваться. Целительным бальзамом против всяческих тревог и огорчений было сознание, что у него теперь есть свой очаг, а в нем «своя белая Киса с голубым бантом». Эту истину он объяснял ей каждый вечер, усаживая к себе не колени.
– Она совсем такая, как ты хотел? – спрашивала Ася.
– Такая, какую я только в мечтах мог себе представить.
– Она красивая?
– Это определение к ней не совсем подходит, хотя она умопомрачительно хороша.
– Она умна?
– Это тоже не в ее стиле, хотя у нее бездна чутья и такта.
– Так может быть деловая?
– Фу, какая гадость! Конечно не деловая! Терпеть не могу деловых женщин.
– Ну, так какая же она, наконец?
– Очаровательная и это все, что мне надо.
Ася сияла.
Когда он в первый раз после женитьбы получил заработную плату, он спросил: «Кому я должен передать деньги – жене или grand madame?»
– Ой, только не мне! Конечно, бабушке или мадам.
– A propos, тебе не кажется, что ваша милейшая мадам находится в некотором заблуждении относительно меня: она, по-видимому, считает, что я имею косвенные права на русский престол, – сказал Олег.
Ася засмеялась.
– Да, в самом деле: в глазах мадам ты – принц крови, она постоянно журит меня за промахи в манерах и повторяет при этом, что ты привык к придворному этикету. А сегодня она послала меня на рынок за клюквой для киселя, уверяя, что не прилично подавать обед без десерта, хотя до тебя мы отлично обходились без третьего блюда.
Олег привскочил на месте:
– Только не ради меня! Я вношу в дом недостаточно и первый заинтересован в том, чтобы не выходить из бюджета. Объясни мадам, что я всю молодость провел сначала на фронте, а потом в концентрационном лагере, а потому не избалован. А что касается этикета, меня, правда, очень муштровали и в корпусе и дома, тем не менее, я не обнаруживаю ни одного недочета у моей жены – на совести у мадам ничего нет, она может спать спокойно.
Ася улыбнулась, а потом сказала нерешительно:
– Нина Александровна говорила мне, что твой отец всегда был очень строг, но с мамой тебя соединяла очень большая задушевность.
– Да, Ася. Сядь ко мне на колени. Ты знаешь ведь, что мама погибла при очень трагичных обстоятельствах, еще не выясненных точно… Это было такое больное место в моей душе, которое никогда не заживало. Только теперь, когда в мою жизнь вошла ты и принесла мне столько тепла и света, боль эта начала затихать. Наша особенная нежность завязалась у меня с мамой еще в детстве во время японской войны. Отец был тогда в армии, брат – в корпусе; мы проводили зиму в имении: мама не хотела выезжать в свет одна. Когда пришло известие, что отец ранен, вокруг были только слуги и они растерялись. Я узнал прежде мамы от гувернантки. Помню, я ждал выхода мамы к утреннему кофе, стоял около своего места, как это было принято при отце, и думал, как бы мама не догадалась о чем-нибудь по моему виду. И в самом деле, она, едва только вошла, целуя меня, спросила: «Ты плакал?» Тогда я сказал, что, сломал свой новый заводной поезд. Мама сказала: «Сбегай и принеси; посмотрим вместе». И мне в моей детской пришлось раздавить любимую игрушку дверью! В своей наивности я, по-видимому, воображал, что горе может совсем миновать маму. Но вечером она уже все знала; она пришла ко мне в детскую и села на край кровати: «Олег, проснись, помоги мне, я не перенесу одна! Папа умирает, может быть, за тысячи верст от меня!» С этого времени я почти не отходил от мамы: мы гуляли, читали, сидели у камина вместе, я совсем забросил свои игрушки, мама даже спать меня укладывала в своей спальне на кушетке. Так длилось около года, возвращение отца переменило все: он заявил, что за время его отсутствия я стал изнежен и впечатлителен, как девчонка, и все мое воспитание надо в корне изменить. В один из первых же дней после его возвращения я, бегая в саду, расшиб себе колено и прибежал к маме за утешением; увидев меня в слезах, отец сказал: «Через год ты должен стать кадетом, а ты похож на слезливую девчонку! Чтобы я больше не видел твоих слез!» На другой день к веранде подвели пони, чтобы учить меня верховой езде; я неосторожно быстро подошел к нему, и он лягнул меня, да так, что сбил с ног. Мать и адъютант отца бросились ко мне с веранды, но я думал только о том, что отец смотрит на меня, и повторял: «Я не плачу, я не плачу», – и удивлялся, что меня окружили и тревожно расспрашивают. О, да, он был строг и сумел закалить во мне и здоровье и волю! Он не прощал ни одного промаха ни в манерах, ни в учении; было время, я пребывал в убеждении, что отец не любит меня, и, только став офицером, оценил, наконец, его заботу. Если у нас с тобой когда-нибудь будет сын, я знаю, как его воспитывать.
Он в первый раз заговорил с ней о будущем ребенке и промолвил эти слова с глубокой нежностью, взяв ее ручку в свою. Ася молчала, притаившись, как мышка: застенчивость сковала ее. Ни ему, ни ей в голову не приходило, что этот вопрос мог обсуждаться еще кем-либо, кроме них, тем более, что сами они еще ни разу не пробовали обсуждать его; а между тем несколько пожилых дам, навещавших Наталью Павловну, живо интересовались этим пунктом.
– Ваша пара очаровательна, – говорила мадам Фроловская, – я бы не желала для Аси лучшего мужа, если бы не эта неустойчивость его положения. Посоветуйте им не иметь детей, чтобы в случае осложнений, Ася не осталась с семьей на руках. Это было бы настоящей катастрофой.
Мадам Краснокутская высказывала ту же мысль:
– Надо непременно посоветовать им повременить с ребенком. Ваша Ася так неприспособлена, а под ним никакой твердой почвы.
Но Наталья Павловна возражала:
– Я не вмешиваюсь. Пусть будет так, как они хотят сами. Я лично нахожу, что присутствие маленького существа даже в самых неблагоприятных условиях украшает жизнь, а потому жаль было бы лишить Асю радостей материнства.
Младший ребенок «потомственного пролетария» – Павлютка был всегда бледен до синевы; череп у него был неправильной, несколько удлиненной формы, с низким лбом, уши торчали в разные стороны, а в карих глазах, смотревших несколько исподлобья, застыли обида и огорчение. Этот наивный взгляд побитого щенка продолжал тревожить сердце Аси. В одно утро, прислушиваясь в паузах между разучиванием фуги к тому, как он упорно и жалобно скулит, она не утерпела и, захлопнув крышку рояля, побежала в «пролетарскую» комнату: она знала, что ребенок один.
– Что ты все плачешь, Павлик, или Эдька опять обидел? – и голос ее прозвучал глубокой нежностью.
Выяснив, что «мамка ушла, а кушать не оставила», Ася тотчас принесла чашку киселя и сухарики, мастерски приготовленные мадам в честь кандидата на русский престол. Ася полагала, что это останется никому не известным, но не тут-то было! За чаем Наталья Павловна попросила подать ей любимую ложечку; Ася и мадам метнулись к буфету – ложки не оказалось: тут только Ася спохватилась, что снесла ее с киселем ребенку. Красная, как рак, предчувствуя, что ей попадет, она бросилась опять к «пролетарской» комнате.
– Извините, Бога ради, за беспокойство! Я угощала сегодня утром киселем вашего мальчика и оставила у вас кружечку и ложку, позвольте мне взять их, – робко сказала она.
– Как же, как же, видали, благодарим. Вот я намыла вашу кружечку, берите! – круглолицая Хрычко просунула Асе в дверь кружку.
– Была еще ложечка серебряная, бабушкина, с надписью «Natalie»
– Ложки что-то не видала… Да точно ли была-то? Может, вы и забрали уж, да запамятовали?
Ася почуяла, что дело плохо.
– Простите, я совершенно точно знаю, что ложечка здесь. Поищите, пожалуйста. Ведь ты ее видел, Павлик?
– Едька ложечку забрал, я ему говорю «не тронь», а он мне язык показал да вышел.
Реакция Хрычко на это сенсационное сообщение была самая непредвиденная.
– Ловок ты на брата наговаривать, мерзавец мальчишка! Так уж ты небось и видел, как он ее в карман сунул? Язык попусту чешешь, а люди слушают! Вам, гражданка, незачем было и соваться сюда с вашими киселями да ложками. Одни только неприятности нам через это.
Ася медлила на пороге, не зная, что сказать. К ужасу ее, из глубины пролетарского логова послышалось в эту минуту грозное рычание:
– Чего там? Какие еще ложки? Мой сын с голоду не околевает. Закройте дверь и не суйтесь! – На пороге показался сам Хрычко, но жена живо втолкнула его обратно, увидев приближавшегося Олега.
– Пошел, пошел, ложись! Не связывайся! Оставьте его, гражданин: выпил ведь он, потому и куражится. С пьяного-то что спрашивать?
– Я в драку вступать не собираюсь: можете не тревожиться за целость вашего супруга, – насмешливо бросил ей Олег и повлек Асю обратно к чайному столу, где предоставил гневу Натальи Павловны. Оправдываясь перед бабушкой, она робко оглядывалась в сторону мужа, но взгляд его глаз, в которых появилось что-то ястребиное, не обещал ей помощи.
– Ты дождалась, что хамы выгнали тебя из комнаты, и провоцировала их ссору с Олегом Андреевичем, а между тем, ты отлично знаешь, сколько зла приносит теперь нашему кругу внутриквартирная вражда: иметь в лице соседа врага – значит постоянно опасаться доноса. Олег Андреевич, о ложке более ни слова. Я ни в каком случае не хочу обострять отношений, – говорила Наталья Павловна. – Неужели этот слюнявый мальчишка дороже тебе моего спокойствия, Ася?
– C’est donc un proletaire, un troglodyte! [72]- повторяла мадам, в ужасе вращая круглыми черными глазами.
– В этом ребенке что-то вырожденческое! Во мне он вызывает только брезгливость, – ввернул Олег.
Ася внезапно вспыхнула:
– Слышать не могу! Когда мы с тобой были детьми, нас окружало все, что только было лучшего! Нам стать noble [73] было легко, а этот ребенок видит одну грубость, и никто, кроме меня, его даже не пожалеет. Брезгливость по отношению к пятилетнему малютке возмутительна!
Белая киса показала свои коготки. Олегу пришлось убедиться, что помириться с ней не так-то легко; они допивали чай втроем, а когда он вошел в спальню, то нашел ее уже свернувшейся калачиком в постели, она не сделала ни одного движения в его сторону, как будто бы не видела его.
– Довольно сердиться. Помиримся. Дай мне свою лапку, – сказал он, садясь на край кровати и с нежностью глядя на ее белье и полосатую блузку, повешенные на стуле и вверенные на сохранение плюшевому мишке, который сидел тут же с глупо вытаращенными глазами.
Ася не шевелилась.
– Лапку.
Но белая киса ушла с головой под одеяло, как в норку, и он не дождался от нее более ни слова.
Утром он попытался завязать дипломатические переговоры, но опять тщетно, а так как времени было в обрез, то пришлось уйти, не примирившись.
Посередине своего служебного дня он вошел с бумагами в кабинет шефа и увидел пожилую даму в трауре, которая стояла около стола Моисея Гершелевича, прижимая платок к глазам.
Что-то небрежное, недостаточно почтительное было в той манере, с которой выслушивал ее старый еврей, развалясь в своем кресле. Это сразу бросилось Олегу в глаза, как и то, что незнакомая дама, безусловно, принадлежала к хорошему кругу. Увидев Олега, Моисей Гершелевич тотчас перебил незнакомку:
– Уже перевели частично? Имейте в виду, что без этой инструкции нам не закончить прием оборудования, так как мы не можем подвергнуть механизм испытанию. Покажите.
Но Олег не протянул бумаг.
– Я могу подождать, пока вы закончите ваш разговор, Моисей Гершелевич. Не беспокойтесь.
Еврей тотчас принял повелительный тон.
– Мы не в гостиной, товарищ Казаринов. Дело прежде всего! Давайте сюда перевод и садитесь. А вас попрошу подождать, – последние слова, сопровождаемые небрежным кивком головы, относились к даме в трауре. Олег сел, досадуя на очередное, постоянно им наблюдаемое отсутствие джентльменского обращения, всегда шокировавшее его.
Несколько позднее, проходя по двору учреждения, он опять увидел эту же даму, которая направлялась к проходной. Группа инженеров и Моисей Гершелевич стояли тут же и, хотя она шла мимо них, никто ей не поклонился, а между тем ее, по-видимому, знали.
– Скажите, пожалуйста, кто это? – спросил Олег одного из этой группы.
– Супруга бывшего начальника отделения. Он, видите ли, был арестован по обвинению во вредительстве, – и тут инженер понизил голос, – обвинение это, кажется, не подтвердилось; по крайней мере, кое-кто был по этому делу выпущен, а он вот скончался прежде завершения следствия – не осужден и не оправдан; вдове разрешили взять его тело из тюремной больницы, и она пришла просить, чтобы местком помог ей в этом деле. Наивная женщина!
– Да почему же наивная?
– Помилуйте! Да разве местком пойдет на это? Разумеется, местком отказал; она – к администрации; Рабинович тоже отказался; она к одному, к другому. Ко мне тоже обращалась: не приду ли я помочь ей доставить тело из морга в церковь. Разве я могу пойти на это? Ведь человек был скомпрометирован! Позвольте, Казаринов, вы словно удивляетесь! Да ведь меня тотчас же возьмут «на карандаш», а то так в стенгазете продернут!
– Но вы, очевидно, бывали же в его доме, если вдова решилась обратиться к вам?
– Бывать – бывал, и не я один! Новый год, помню, у них всей нашей компанией встречали; так слоеные пирожки такие водились, что пальчики оближешь! Бывал, как же!… Но при других обстоятельствах! Что ж я – враг сам себе, что ли? Ведь у меня семья!
Олег отвернулся и быстро пошел вслед удалявшейся даме, которую настиг у самой проходной.
– Мадам! – проговорил он со своей безупречной вежливостью, поднося руку к фуражке. – Я к вашим услугам: располагайте мной, как находите нужным!
Удивление мелькнуло на измученном лице:
– Простите, я вас не знаю! Вы, кажется, никогда не бывали у Семена Ивановича?
– Так точно. Я еще недавно работаю и не имел чести знать вашего супруга; однако это ничего не значит: готов служить вам -приказывайте!
– Вы, очевидно, не знаете обстоятельств дела и потому так говорите! Мой муж был привлечен по пятьдесят восьмой, скончался в тюремной больнице. Я совершенно одинока и просила помочь мне взять его тело; эта миссия настолько неприятная… притом она может скомпрометировать вас: при входе на территорию больницы надо предъявлять удостоверение личности…
– К вашим услугам, – перебил Олег, – куда я должен явиться?
Только в 11 вечера он вернулся домой; навстречу вниз по лестнице вихрем сбежала Ася и бросилась ему на шею.
– Наконец-то! Я беспокоюсь, жду! Караулю на лестнице! Куда ты делся?
– Да ведь я же говорил по телефону с мадам и просил передать…
– Она передала, что ты опоздаешь, но так надолго! Я уже стала думать, что ты рассердился и не идешь нарочно, чтобы наказать свою белую кису.
Он вошел и устало опустился на стул.
– Иди, мойся. А я побегу греть обед, – сказала Ася.
– Спасибо, я не хочу есть.
Она быстро и зорко взглянула на него:
– Что с тобой. Ты огорчен чем-нибудь? Я знаю, что была злюка и виновата, прости, что спряталась… ты тоже был виноват немножко.
Два больших глаза блеснули около его лица; он уже не видел ее, а только эти два глаза.
– Сейчас пошли золотистые теплые лучики из меня в тебя и обратно, а значит, всякая обида тает. Говори же, что случилось на службе. Я все равно знаю, что было что-то… Милый, милый, никогда не пробуй скрывать от меня что-нибудь: у меня очень хороший нюх, я догадаюсь все равно!
Он убедился еще раз, что ее детская беспечность касалась лишь материальной стороны жизни; во всем остальном тонкостью своего понимания она воспринимала каждое колебание невидимых струн. «Это все благодаря ее музыкальности: ее тончайший слух распространяется и на область духовного. Как Эолова арфа она отвечает мне», – думал он, целуя опускавшиеся ресницы. Они, как виноватые отскочили друг от друга, когда мадам постучала к ним, приглашая к вечернему чаю.
На следующий день они возвращались вдвоем от «дамы в трауре», которую пошли навестить после похорон. Ася шла молча и не подымала головы. Полагая, что она находится под впечатлением чужого горя, Олег попытался развлечь ее разговором, но она сказала:
– Мне сегодня с утра что-то нездоровится, у меня такое чувство, как бывает на корабле: мутит и голова кружится. Это препротивно.
– Ты говорила бабушке? – тревожно спросил он.
– Нет не стоит ее беспокоить, пройдет.
– Хочешь, я возьму такси, чтобы скорей быть дома?
– Нет, не надо. Приятно пройтись. Я люблю первый снежок.
Утром, уходя на службу, он спросил ее, как она себя чувствует, и она призналась, что, как только зашевелилась и подняла голову, это чувство вернулось.
В столовой Олег, против обыкновения, увидел обеих дам и накрытый стол: оказалось, что Наталья Павловна собралась к обедне. Глотая наскоро чай, он стал им говорить о нездоровье Аси и увидел, что они переглянулись, а француженка заулыбалась и погрозила ему пальцем. Только тут внезапная догадка осенила его.
– Да разве это так начинается? – спросил он, ставя стакан, и охваченный целым роем ощущений, от которых сжалось сердце, закрыл рукою глаза. «Если бы жизнь шла нормально, как бы я счастлив был сейчас. Но у нас за каждой радостью тысяча опасений! Это вечное беспокойство присасывается ко всему!» Обе дамы молчали, по-видимому, испытывая то же самое.
– Может быть, и не то, – сказала наконец Наталья Павловна, – во всяком случае, за здоровье ее страшиться особенно нечего: она молода, здорова и переносить, по всей вероятности, будет прекрасно.
Ася удивилась, когда Олег опять ворвался к ней и, покрыв поцелуями ее руки к великому негодованию щенка, уже пристроившегося в кровать, так же стремительно умчался. Как бы рано Олег не подымался, он всегда оказывался перед угрозой опоздания и приходилось гоняться за автобусами и прыгать на подножки трамваев.
«Ну, теперь, я не буду спокоен ни на одну минуту! – думал он. – Она – не Марина, и, конечно, не заговорит об аборте. Уверен, что она даже не подозревает, что это такое. И старые дамы, конечно, тоже об этом и думать не станут. Но… ведь теперь необходимо охранять от всяких волнений, беречь, питать… а между тем каждую минуту может случиться если не катастрофа, то осложнение… Все висит на волоске! Уверен, что сегодня же судьба приготовит мне что-нибудь, чтобы меня помучить!»
Судьба как будто была его личным врагом – человеком, которого приходилось опасаться! На службе, входя в кабинет Моисея Гершелевича, он всякий раз проникался убеждением, что тот имеет сообщить ему нечто, могущее омрачить видимый горизонт его существования. В середине дня, закончив деловой разговор, Моисей Гершелевич сказал ему:
– Подождите уходить, Казаринов, мне необходимо переговорить с вами еще по одному поводу.
– Слушаюсь, – ответил Олег, садясь на окно, и тотчас его охватила уверенность, что это и будет тот разговор, которого весь день ждали его обостренные нервы.
Отпустив двух служащих, ожидавших его подписи, Моисей Гершелевич указал Олегу на кожаное кресло около своего стола и несколько минут молчал. Пытливо всматриваясь в черты еврея, Олег видел, как обычное, деловое и несколько самоуверенное выражение его лица заменялось более мягким и становилось симпатичным.
– Послушайте, Олег Андреевич, ну, скажите мне, друг мой, отчего это вы себя так не бережете, а? Ведь я принял вас, несмотря на очень веские доводы, говорившие против вас; я пошел на риск и мог, казалось, ожидать, что, не желая подвести ни себя, ни меня, вы должным образом будете взвешивать каждое слово и каждый шаг. А между тем, в то время, как я всячески стараюсь создать вам репутацию и незаменимого работника, и советского, своего, проверенного человека, вы с непостижимым легкомыслием вредите себе на каждом шагу – не берусь сказать, сознательно или нет. Продолжая так, вы доведете до того, что я вынужден буду перестать заступаться за вас: не враг самому себе и я.
Недостатка деликатности в этих словах оказалось довольно, чтобы в Олеге мятежной волной всколыхнулись постоянно дремавшие в нем желчь и обида:
– Чрезвычайно благодарен вам за все, что вы для меня сделали, Моисей Гершелевич, но в чем же вы усматриваете мое легкомыслие?
Голос его прозвучал жестко, и на лицо легла тень.
– За примерами недалеко ходить. Например, в понедельник, по отношению к жене заключенного… а еще раньше, весной, что-то по поводу религиозного обряда… Ведь это бравада, вызов окружающим! Я не имею права разглашать, но из сочувствия к вам не скрою: о вас был весной запрос из Большого дома. Я дал блестящую характеристику, против которой наш парторг возражал, что она раздута и явно пристрастна; однако я настоял. Ваша личность возбуждает постоянные пересуды и в отделе кадров, и в парткоме. Попрошу несколько изменить линию поведения. Сегодня у нас общее собрание: повсеместно проходят бурные митинги, приветствующие смертный приговор этой группе вредителей; хорошо было бы и вам высказаться с трибуны, приветствуя мероприятие, чтобы ни в ком не осталось сомнений по поводу ваших идейных позиций. Во всяком случае, на вашем присутствии я настаиваю категорически: за вами будут наблюдать, поймите.
Олег со злостью посмотрел на эту сытую, холеную фигуру.
«Еще недавно Россия была моя Родина – не твоя! – подумали он. – Ты здесь был ничто! И вот скоро, так скоро изменилось все!; Теперь, в СССР у себя дома – ты, а я – лишенец, каторжник, не смеющий назвать своего имени! А между тем, когда Россия была в опасности, ты сидел в спокойном теплом местечке, в то время как меня, истекающего кровью, нес на руках денщик. 5 лет мук – и в награду 6 лет лагеря, и вот теперь ты мне предписываешь свои требования, ты смеешь меня третировать за мою же работу, за мои знания?»
Он чувствовал, что ненависть просвечивает в его лице и вот-вот прорвется непоправимым словом… Он сделал над собой усилие и сказал спокойно: