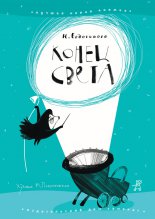Лебединая песнь Головкина Ирина
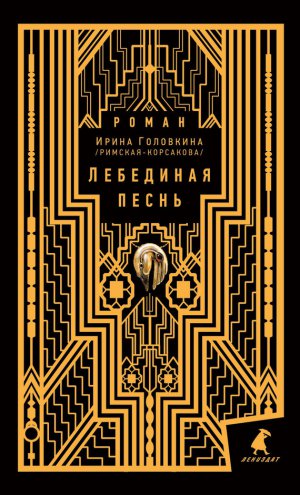
– Где вы служите? – спросила Наталья Павловна Геню, и тот, нимало не смущаясь, выложил ей свой цензурный комитет. Наталья Павловна выронила лорнет, и он повис на цепочке из горного хрусталя. Леля завертелась на стуле, но Олег спас положение тем, что перенес разговор на театральный репертуар, и Леля уцепилась за него, как за якорь спасения. Ася предложила выступить с пением. В репертуаре был романс Гретри, который исполняла Леля, и Ася хотела предоставить сестре возможность показать свой голос.
Леля в самом деле хорошо спела в этот вечер – слова отвечали ее настроению.
Il me dit: je vous aime.
Et je sens malgre moi,
Je sens mon coeur, qui bat,
Qui bat, ji n’en sais pas pourquoi! [104]
Наталья Павловна и Зинаида Глебовна смотрели на нее с дивана.
– Наши девочки такие талантливые и тонкие! Они как тепличные цветы! Эта грубая жизнь сомнет их, – шептала, вытирая глаза, Зинаида Глебовна.
– Не споете ли вы теперь Дунаевского? – спросил в эту минуту Геня.
– Хам, хам! Что ему среди нас делать? Обратили ли вы внимание на его манеру обращения со мной? Я не выношу эту манеру.
Наталья Павловна соглашалась величественным и печальным кивком головы. Геня внимательнейшим образом рассматривал интерьер комнаты.
В этот день была продана и уже вынесена из гостиной большая хрустальная люстра, опускавшаяся из плодового букета, вылепленного на потолке. Это существенно изменило вид гостиной, и все-таки комната со своим красным деревом и фарфоровыми свечами в бронзе имела еще очень изысканный облик, а дамы на старинном диване дополняли картину. Юноше казалось, что он смотрит на сцену, где разыгрывается спектакль из стародавней помещичьей жизни: «Старуха на диване ей-же-ей напоминает то ли гончаровскую «бабушку», то ли помещицу из «Рудина». Эк куда угораздило меня затесаться. А впрочем, я ничего против них не имею. Ася эта прехорошенькая, не хуже Леночки, хотя Леночка моя пикантней. Казаринов – персона весьма подозрительная, однако, я и с ним готов бы жить в мире. Чем он мне, спрашивается, мешает? Ходили бы на вечеринки и в кино всей четверкой, а там и на брудершафт, смотришь, выпили… Помешались у нас в Большом доме на контрреволюции, а я теперь выкручивайся».
В это время Ася говорила Леле:
– Я искала тебе цветов, но магазины пусты. Я мечтала тебе поднести букет пурпурной гвоздики.
– Что? Гвоздики? Почему именно гвоздики? – воскликнула Леля.
– Невестам не подносят пурпурных цветов, а только белые, – внесла внушительную поправку Наталья Павловна.
– Но почему же гвоздики? – не успокаивалась Леля.
– Да ведь ты же всегда их любила! Что с тобой, Леля? На что ты обиделась?
– А теперь я эти цветы ненавижу! Запомни!
Стол был уже сервирован, когда мадам обнаружила отсутствие чая в серебряной массивной чайнице и стала взывать к молодежи, чтобы кто-нибудь пощадил ее старые кости и сбегал в магазин. Олег с готовностью поднялся и вышел, забрав с собой пуделицу. Леля начала ловить Славчика, который с радостным визгом бегал по гостиной; увертываясь, ребенок выскочил в диванную, Леля за ним. Геня, тяготившийся чопорными фразами Наталья Павловны, сорвался с кресла и бесцеремонно последовал за невестой.
– Что это у вас? – спросила удивленная Леля и остановилась перед перевернутым манекеном, окруженным опилками. (Случайно ее еще не успели посвятить в тайну.)
– Похоже, что вы, товарищи, конспирацией тут занимаетесь? – добродушно засмеялся Геня.
– Из-за бабушки, – с ноткой жалобы в голосе ответила Ася, – бабушка не хочет расставаться с семейным архивом. Она ничего не скрывает: и в гепеу, и в райсовете отлично знают, что она вдова генерал-адъютанта, однако же могут сказать: зачем мы бережем такие вещи? Вот мы и порешили лучше спрятать.
– Ух, какая девочка чудная, и бант огромный – сейчас улетит, как бабочка! – сказал Геня, беря в руки одну из карточек. – Это уж не вы ли? – прибавил он, обращаясь к Асе.
– Да, я на коленях у папы, – ответила та. Геня взял другую карточку, где была сфотографирована Наталья Павловна в боярском летнике и кокошнике.
– Какая странная одежда! – сказал он.
– Придворная форма, – пояснила Леля.
– Бабушка была фрейлина, – сказала Ася.
Он с любопытством взглянул на ту и на другую и взял еще одну карточку.
– А это, кажется, ваш муж? – спросил он уже с новой интонацией.
Ася, застигнутая врасплох, растерянно молчала.
– Как похож Славчик на эту карточку Олега: совсем такие же глаза, – сказала Леля.
Геня перевернул карточку и прочел надпись.
– Паж, – сказал он и начал перебирать остальные.
– Пойдемте в гостиную к бабушке, – нерешительно сказала Ася.
– А кто эти двое в подвенечном уборе? – со странным упорством продолжал Геня.
– Знакомая дама со своим женихом, – ответила Ася.
– Кавалергард, – сказала Леля, предупреждая вопрос Гени и глядя через его плечо.
– Он поразительно похож лицом на вашего мужа… отец или брат? – спросил опять Геня у Аси.
– Брат, – промямлила та, находя слишком неудобным промолчать во второй раз.
Ни Ася, ни Леля не подозревали, что на этой карточке тоже имеется надпись, но Геня перевернул, и все увидели: «На память о дне нашей свадьбы. Нина и Дмитрий Дашковы».
Геня перевел глаза на Лелю, и она вдруг вспыхнула и отвела свои, как будто в чем-то уличенная.
– Неудобно, что старшие одни в гостиной, – сказала Ася, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы Наталья Павловна не сочла невежей Геню и чтобы Олег не рассердился, увидев его перед манекеном.
– Ну, пошли, пошли. Уважимте старуху, – добродушно откликнулся Геня.
За чаем разговор то и дело приближался то к одной, то к другой пропасти, которые удавалось благополучно миновать только благодаря стараниям Лели и Олега, с удивительной находчивостью приходившего на помощь. Радость и оживление Лели потухли с той минуты, как Геня бросил на нее свой взгляд, узнав подлинную фамилию Олега. Ей почудился упрек в этом взгляде, и теперь не терпелось внести ясность в их отношения. Она не могла дождаться конца беседы за чайным столом и вздохнула свободно, только когда все вышли в переднюю. Наталья Павловна произнесла несколько приятных фраз; мать, разумеется, сказала, что если они хотят пройтись пешком, пусть вдвоем, а она сядет в трамвай. И вот они идут рука об руку.
– А ваша кузина очень мила: прехорошенькая и так просто себя держит, – сказал Геня.
– Боже мой! Да как же иначе-то можно себя держать? Так принято, так мы приучены с детства, – возразила Леля.
Они помолчали.
– Геня, – тихо сказала она, и маленькая рука протянулась к нему, – не оскорбились ли вы? Я не собиралась хитрить с вами: я дала себе слово, что доверю вам нашу семейную тайну, чтобы вы знали, с какими людьми имеете дело. Но вчера я об этом забыла, а сегодня… не собралась с духом… Верьте, что ни я, ни Ася никогда не усомнимся в вашей порядочности.
Но он не повернулся к ней и не взял ее руку, глаза его не засветились ей навстречу, когда, прибавляя шаг и словно убегая от нее, он ответил:
– Я на доверие ваше не претендовал и не претендую, но такого пассажа, признаюсь, не ожидал. Можно было предполагать, что все это только нелепое, ни на чем не основанное подозрение…
Леля в изумлении остановилась.
– Как «предполагать»? Как «подозрение»? Да вы разве уже слышали об этом? Кто мог вам говорить?
– Никто ничего не говорил. Я сам сделал некоторые выводы… Бросимте этот разговор, Леночка.
Наступило молчание.
– Отчего у меня вдруг так заныло сердце! – Леля вновь остановилась, и слезы зазвенели в ее голосе.
– О чем вы, Леночка? Бросьте расстраиваться? Какое нам дело до этих людей? У нас своя жизнь, – он опять взял ее под руку. – Послушайте-ка, Леночка, накануне первого мая у нас в клубе вечер – торжественная часть, ужин, вино, танцы. Все будут с девушками, и я хотел привести свою, кудрявую и хорошенькую. Поедет она со мной? Леночка-Леночка, милая девочка, ваша кузина хорошенькая, очень хорошенькая, но «изюминка»-то в вас, а не в ней. Слышали вы такое выражение – «изюминка»?
Леля прижалась к его руке.
– Геня, вы меня в самом деле любите?
– Вот так вопрос! Кабы вы мне не нравились, стал бы я вас приглашать? Я часа бы на вас не потратил! После дома отдыха я еще ни на одну девушку, кроме как на вас, не смотрю, да вот толку-то пока никакого.
– Как никакого толку, если я ваша невеста! Разве этого мало?
– Вы знаете, чего я хочу.
– Почему же непременно теперь? Зачем ускорять события и напрасно терзать меня?
– Улита едет, когда-то будет?
– Да почему же, Геня, почему? Свадьбу можно сделать очень скоро, на церковном венчании я не настаиваю, хоть мне и очень грустно отказаться от него. Ничего не мешает нам стать мужем и женой.
Наступила минутная пауза.
– В ближайшие дни я не смогу к вам заскочить: у меня срочная командировка, а тридцатого вечером заеду, чтобы вместе отправиться на вечеринку. Идет?
– Буду ждать, – ответила Леля и не решилась опять повернуть разговор на задушевную тему, хоть и чувствовала, что не удовлетворена объяснением и какая-то стенка воздвигается между ними.
Тридцатого Геня появился у Лели в шесть часов вечера.
– Вы? – спросила она, выбегая к нему еще в домашней штопанной блузке, – я не ждала вас так рано. Я еще не готова. Мама гладит мне платье.
Он поймал ее за руку и увлек в угол.
– На вечер еще рано… я приехал вас попросить… заехать сначала ко мне… Я не ловелас и не обманщик! Я не стану лживо уверять, что вы уйдете такой же… какой пришли. И все-таки я прошу! В конце концов, я тоже могу обидеться на недостаток доверия то в одном, то в другом… Или вы сейчас поедете ко мне, или пусть все между нами кончено! Вот – как хотите.
– Но почему же так, Геня? Не понимаю ничего!
– Не надо расспросов, Леночка! Боюсь потерять вас – довольно вам? По-видимому, ваши родные вам дороже меня!
– Мои родные тут ни при чем, а отказывать вам я не собираюсь. Объяснитесь яснее.
– Не стану. Мне не объяснения нужны. Вот я увижу теперь вашу любовь! Ну, как?
– Вы так жестко и сухо со мной говорите!
– А вы смотрите не на тон, а на содержание слов!
– А как же… как же потом?
– А потом пойдем в загс – в день, который наметили, если вы ничего не измените, – он сделал ударение на слове «вы». Она пытливо всматривалась в него, чувствуя, что он чего-то не договаривает. И опять ее охватила уверенность, что она перед несчастьем, которое ее подстерегает, стоит у двери совсем близко, стоит и стучит…
– Пусть это будет между нами теперь или не будет вовсе, – повторил Геня, глядя мимо нее.
Что-то трепыхалось в ее груди, как будто туда залетела и билась там испуганная птица. Она закрыла лицо руками.
– Ну, как? Едете или не едете? – приставал он.
Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унизительно. Да и что могла значить клятва для такого человека?
Она помедлила еще минуту.
– Я согласна, Геня… я поеду… Я верю вам… запомните это… Он крепко сжал ее руку.
– Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в шесть. Бегите, я подожду.
Когда Леля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами:
– Ну, Христос с тобой, моя детка. Повеселись, потанцуй, а я не лягу – буду тебя дожидать.
Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не броситься матери на шею. «Если бы мама только знала!»
…Свершилось! Она уже не девушка! Минута, к которой постоянно тяготело ее воображение, пришла и ушла, и никакого огня, который, казалось ей, должен был ее зажечь и сжечь, она не ощутила – только страх и боль. Ее лучшая драгоценность потеряна – печать невинности стерта, и это совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения – без них все приняло оттенок падения, которое смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дождаться хотя бы загса? Непонятный каприз омрачил ей неповторимые минуты и поставил ее в зависимость… А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь». А Геня не понимает всего, чем полна ее душа… и неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он… не в первый раз! Самого слабого оттенка смущения, растерянности или робости не промелькнуло в нем, хотя он только тремя годами старше ее. В горле у нее стоит комок и только усилием воли она подавляет желание расплакаться.
В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен пройденной в детстве школе воспитания. В десять лет оно было уже прервано, но пример окружающих старших делал свое дело: она дозревала, как помидор, и в этот трудный этап своей жизни уже полностью владела собой и уясняла себе значение каждой интонации, каждого взгляда.
Как часто в воображении она рисовала себе балы: много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, исступленные завывания джаза, «шумит ночной Марсель», дамы в эксцентричных туалетах и красивые, смелые мужчины – весь этот угар своими вакхическми нотами шевелил в ней глубоко скрытый темперамент, приглушенный аристократизмом манер. Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали; этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать «faux pas» [105], вся эта официальность – должны были, казалось ей, наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и pas de cart’ue [106], несмотря на всю изысканность среды и обстановки.
Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распущенность; здесь слишком остро не хватало изящества. Мужчины уже слишком мало были похожи на салонных львов, скорее на деревенских парней от сохи. Исключительно не distinguias [107] женщины – расфуфыренные и развязные жирные еврейки из nouveaux riche’ek [108] и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки сжаты в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех были ярко размалеваны, безвкусица в одежде, убожество манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков – все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось! И в такую минуту воспринималось особенно болезненно.
Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей:
– Моя Леночка лучше всех.
А в общем, был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах.
Пришлось встать, когда пили тост за товарища Сталина.
С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга, а Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста!
Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпила непременно до дна, и это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его:
– Геня, не пейте больше! Геня, довольно! – и обрадовалась, когда начались танцы.
Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а наливая ей вино, почти обнял ее.
– Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой, – сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом. – Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян.
Геня, разумеется, стал уверять, что он не пьян, совсем не пьян.
Не было вальса с веселыми выкриками «Les dames au milieux!» [109], «A une colonne!» [110] и «Valse generate!» [111]. Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, которое ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только тустеп и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону.
– Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку, – услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку.
– Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, – сдерживая негодование, ответила Леля и уцепилась за Геню.
– Что вы, Леночка, мы тут все знакомы! Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой.
– Нет, Геня. Я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама, а вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра, – и так как завхоз уже ретировался, прибавила: – Я не желаю танцевать с подобным типом: он едва на ногах держится, разве вы не видите? Нет, Геня: вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет.
Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгальтером, так они были миниатюрны.
– Геня, Геня, nous ne sommes pas seules!! [112] – прошептала она, забывая, что он не понимает по-французски, и отстраняя его; но он сжал ее еще сильнее.
– Вы только не вздумайте прогонять меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось, – бормотал он заплетающимся языком.
– Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим.
– Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка… вчера… у меня был неприятный день… Мне это тяжело, честное ленинское! Уж этот мне Шерлок Холмс – человек со стальными глазами! Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем?
Сердце Лели внезапно похолодело.
– Что? Что? Человек со стальными глазами? – пролепетала она.
– А вы обещайте, что не разлюбите! – продолжал бормотать Геня. – Ну да может быть она не узнает… Я вас спрашиваю: где тут моя вина? Я сам пострадавший: помешали моему счастью с девушкой… Я вас спрашиваю…
– Геня! Геня! Кто помешал? О ком вы говорите? О ком? – в ужасе восклицала Леля: страшная мысль занеслась над ней. Но он, свернувшись клубком, соскользнул словно куль муки к ее ногам.
Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лели.
– Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем растаял, размокропогодился! Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?
Но Леля, вся заледенев от страшного подозрения, не понимала, о чем он говорит.
– Господи, Господи! Что же это! – повторяла она, хватаясь за голову.
– Да ничего, протрезвится! А вот кто мне теперь платить будет? Есть ли у вас деньги, девушка?
Сообразив, наконец, о чем говорит шофер, Леля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она попросила доставить Геню по его адресу, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони.
– Человек со стальными глазами… Боже мой! Один только и есть такой человек. Один. Предательство!
Накануне первого мая, сразу после работы – утренняя смена кончалась в три часа – Олег помчался на вокзал, в восторге от мысли, что может провести дома двое с половиной суток. Пришлось забрать с собой Маркиза, которого слишком жалко было оставлять в голоде и одиночестве.
В Ленинграде, выскочив вместе с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному. «Вот обрадуются мои птенчики! Скорей бы увидеть их лица! Уж пущу же я пух из моей перепелки!» И едва он это подумал, как тут же в магазине увидел ее: она стояла спиной к одному из прилавков, а в руках у нее были довольно безобразные бумажные розы. Она тоже увидела его и быстрым движением тотчас же спрятала цветы за спину. Это было достаточно красноречиво, чтобы понять, в чем дело.
– Отдай розы! – сказал он, поспешно приблизившись и стискивая ее руку. – Без возражений. На нас уже поворачиваются! Выходим.
В луче яркого весеннего солнца, брызнувшего на них при выходе из магазина, глаза ее испуганно и растерянно поднялись на него.
– Так вот оно что! Ты продаешь цветы! Да неужели уже дошло до этого? Ты, стало быть, от меня скрываешь свои затруднения? О, какой в этом упрек мне! Зачем ты присылаешь в Лугу то булку, то масло? Они мне вовсе не нужны. Мне во сто раз приятней сидеть на одном хлебе, чем видеть потом мою жену торгующей на улице, – и он швырнул в лужу бумажный букет.
Глубокая обида отразилась в ее лице.
– Как ты смел? Мадам просидела над этими розами весь вечер, а тетя Зина потратила два дня, чтобы ее выучить! На что ты негодуешь? Разве я сделала что-нибудь плохое? Ведь продает же цветы тетя Зина уже десять лет!
– Очень жаль, что твоей тете Зине приходится это делать. Лелю она, однако, с цветами не посылает. Молодой женщине стоять у стенки в магазине или на улице – в этом есть что-то недопустимое, невозможное для такой мимозы, как ты. Первый попавшийся мужчина пристанет к тебе с гнусными предложениями.
– Вовсе нет! Это все твои предрассудки старорежимные!
– Пусть так! Довольно того, что я не желаю и не позволяю. Отныне я в Луге ем один хлеб, но ты больше с цветами не выйдешь. Бьюсь об заклад, что Наталья Павловна не знает об этих проделках: это вы с мадам вдвоем обмозговали!
Она молчала.
– Ася, пойми и то, что любой милиционер, накрыв тебя с цветами, имеет право по советским порядкам схватить тебя за шиворот, приволочь в отделение и запереть, а потом в 24 часа выслать.
– Меня и в моей комнате могут точно также схватить и выслать! – жалобная нота прозвенела в ее голосе. – Что же делать, если не хватает того, что ты приносишь и что могу заработать уроками я? Ведь и хлеб, и булку, и сахар приходится докупать по коммерческой цене около булочных с рук у тех, кто захочет продать! Я никогда не жалуюсь, но откуда же взять деньги?
– Ася, не плачь на улице! Дома поговорим.
Но она все-таки продолжала, прицепляясь к его руке:
– Ты еще не все знаешь! У нас новая беда: вчера бабушку вызвали в часть и взяли у нее подписку о невыезде. Это ведь почти всегда означает ссылку!
Олег остановился.
– Подписка о невыезде? Да, это означает, что о ней решается дело. Я давно этого опасался! Но какая жесткость! Человеку скоро семьдесят! Как это приняла Наталья Павловна?
– Наружно бабушка спокойна. Говорит: придется уехать – уеду. А мадам очень расстраивается; она говорит, что не отпустит бабушку одну и уедет с ней.
– Героическая женщина ваша мадам! Славчик здоров?
– Здоров. Ты так спокойно разговариваешь, точно тебе все равно и до бабушки, и до того, что мы скоро окажемся врозь.
– Господь с тобой, Ася! Ну откуда ты это взяла?
– Так спокойно говоришь, как о чем-то обыкновенном! А я сегодня целый день плачу, – всхлипывала она.
– Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я тоже плакал и ломал руки? Этого не дождешься! Я не плакал, когда узнал о гибели собственной матери, хотя мне тогда было столько же лет, сколько теперь тебе. А впрочем, если бы это могло нам помочь, я, может быть, и заплакал бы вместе с тобой, но ведь слезами не поможешь. Ася, пойми: если что нужно теперь, то только мужество!
– Все мужество да мужество! Всю жизнь я только это и слышу! Еще дядя Сережа говорил: будь мужественным оловянным солдатиком. А я вот устала от этого мужества!
– Устала? Бери пример с Натальи Павловны: ты в 22 год устала, а ей – 70, она потеряла всех детей одного за другим, а вот как держится перед новой угрозой. Наталья Павловна – истинная аристократка, а тебя кем прикажешь считать? Неужели я должен отнести мою Кису к разряду «гнилой интеллигенции»? – он говорил это, открывая ключом дверь.
– Папа! – зазвенел тотчас на всю квартиру детский голос. Славчик выбежал из гостиной и, подхваченный Олегом, прижался бархатной щечкой к его щеке.
Стол уже был накрыт к обеду, как всегда белоснежной скатертью со всеми необходимыми принадлежностями вплоть до салфеток в кольцах и трех тарелок у каждого прибора: опускаться решительно не желали в этом доме. Приложившись к ручкам Натальи Павловны и француженки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу новых угроз и тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но опять неожиданно для себя натолкнулся там на Асю: она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой.
– Что ты здесь делаешь, дорогая? Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку… Идеальное издание Аленушкиного лица. Ася, да ты опять плачешь! Уж не больна ли ты?
– Нет, нет… не больна, а только… только… я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной, я вдруг увидела наше бессилие: удар – выпрямимся, залижем раны, снова удар… опять из последних сил наладим жизнь, и снова… Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время, ты, может быть, разлюбил меня?
– Что ты! Что ты, родная! Никогда еще я не любил тебя так, как теперь! Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго – только и всего! Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же! – но она закрывала лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега – это пудель протискивался к своей хозяйке, большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменяла положения.
– Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем, теперь все горе, все. Мне жалко нас всех, мне жалко самое себя… – шептала она сквозь слезы.
– Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладу, скажи нам, – она молчала, глядя в пол; нахмурившись, он молча всматривался в нее… – Кажется, я догадываюсь… Ася, беременность, может быть? – и взял ее руку.
Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила, на щеках остановились две крупные слезинки.
– Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю… И все-таки: неужели мы с тобой будем считать это несчастьем? Слезы… а слезы какие-то соленые, горькие… я проглотил вместе с поцелуем. Ага, улыбнулась! Твоя улыбка как радуга после дождя. Ася, послушай: а что если там девочка, дочка?
Она, все еще всхлипывая, прижалась к его груди.
– Так ты рад! А я ведь не решалась тебе сказать, я еще никому не говорила. Помнишь, когда ты так резко… о щенятах? Я уже тогда о себе знала, но побоялась заговорить, я подумала, что ты пошлешь меня в больницу на этот страшный fausse-couche.
– Да что ты, девочка моя, никогда в жизни! Разве я такой изверг? Разве я не люблю детей? С каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты – моя святая, не знающая соблазнов! Это я во всем осложняю твою жизнь и вместе с тем так мало могу быть полезен теперь своей семье. Мысль, что ты вынуждена бегать по урокам и плохо питаться мне покою не дает… и все-таки не будем унывать, Ася, пусть, наперекор всему, новый ребенок будет счастьем для нас!
Наталья Павловна уже больше четверти часа сидела за столом перед супницей, поджидая молодую пару, и это было нарушением; неписаного семейного этикета. Лицо старой дамы еще осунулось, и мраморный профиль заострился под короной серебряных волос, но олимпийское спокойствие не изменяло ей. Француженка, оставшаяся несмотря на свои 50 лет непоседой, сгорала от нетерпения и любопытства и, наконец, нашла предлог выскочить из-за стола и произвести розыски; вернувшись, она таинственным шепотом доложила, что молодые заперлись в ванной, где по всей вероятности целуются… Но старая дама со своим строгим целомудрием не выносила намеков и полунамеков на что-либо интимное…
– Нет, Тереза Львовна, Олег слишком хорошо воспитан, чтобы целоваться с Асей по углам, когда он знает, что я его жду! – безапелляционно заявила она и перехватила своей рукой крошечную лапку Славчика, который барабанил ложкой по столу, сидя на высоком креслице. Вошел Олег, еще с мокрыми волосами, и сел, извиняясь за опоздание; француженка опять вскочила и в одну минуту оказалась в спальне, где нашла Асю перед зеркалом. Мадам тотчас заметила ее покрасневшие веки.
– Et bien, ma petite Sandrillione? [113] – дипломатически окликнула она.
Ася начала рассказывать о брошенном в грязь букете, но нервы ее настолько развинтились, что тут же расплакалась. Против ожидания, мадам пришла в восхищение.
– Он не мог иначе реагировать, крошка! Нечем расстраиваться! Я бы, напротив, сочла себя оскорбленной в том именно случае, если б мой муж разрешал мне такие вещи! Каждый благородный человек должен был возмутиться! Это будет наш маленький секрет – только и всего! – твердила она по-французски, целуя свою любимицу.
После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за семидесятилетнюю больную вдову; Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет: Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна.
– У меня только «минус»: к Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе, – говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее, ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась.
Часов около восьми вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге.
– Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину и лучший сорт чаю, – говорил он.
Ася подняла головку:
– Я этого не посылала: у тебя воображение разыгрывается.
– Как нее не посылала? А помнишь, через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?
– Через Елочку я не передавала ничего!
Они с удивлением переглянулись.
– Елочка, стало быть, захотела нам помочь! – сказал Ася.- Это так на нее похоже: подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья! – и, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос: – Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер, он погиб от репрессии красных, а она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого, она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорят о нем; он подарил ей раз духи «Пармскую фиалку», и она до сих пор бережет как самую большую драгоценность этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаясь ее надушить.
Олег вдруг взял ее руку:
– Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн, – он быстро встал. – Пойду выкурю папиросу.
– Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю.
Итак, она любила его! Любила и, кажется, любит, эта замкнутая молчаливая девушка! Сколько выдержки, сколько такта! За что она меня полюбила? Я был достаточно безобразен, лежа пластом, весь в бинтах. Хорош герой романа! Жалела, вероятно! А жалость в чистой женской душе, по-видимому, большое творческое начало – семена, приносящие прекрасные цветы!
Перед ним вереницами закружились образы… Вот она – юная, девятнадцатилетняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку… Но эта крымская трагедия, на фоне которой выступала она и ее незамеченная, неоцененная любовь, была залита кровью… Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе…
Он нахмурился и, отбросив папиросу, вернулся в спальню.
Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку.
– Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет, – сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям. – Тучка проходящая… вот уже радуга! Если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался Светлый Дух, но не грозный Архангел с трубой, призывающий на Суд – я не хочу возмездия, – другой, весь исполненный любви! И пусть бы его увидели одинаков и праведные и неправедные, и верующие, и атеисты; может быть, тогда люди бы покаялись и кануло в вечность все зло… Как ты думаешь?
Но он думал совсем о другом и сказал:
– Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем е хоть букет цветов.
Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку. Тонкий профиль ее лица под широкими полями соломенной шляпки всегда напоминал ему лучшие портреты эпохи ампир, но модуляции этого лица при всей их искренности, были иногда так неуловимы и тонки, что не поддавались расшифровке, сколько бы он не вглядывался в поднявшиеся на него глаза…
На улицах пахло распускающимися тополями, душисты липкие ветки которых продавали на каждом углу, запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым последним счастливым вечером.
К одиннадцати они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель.
– Когда ты с нами, я ничего не боюсь, я опять счастлива! – лепетала она, опускаясь на подушку. – Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком.
– А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в памяти моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант – так одевали когда-то мою сестренку.
Она блаженно улыбалась:
– Спасибо, милый! – и глубокая нежность зазвенела в ее голосе. – Я виновата, я сама вижу, что стала слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь: я везде вижу только боль и горе! Вот голуби прилетают клевать пшено, которое я сыплю им на карниз; среди них есть один с выцарапанным глазом, он такой несчастный! А окружающие здоровые птицы его толкают и щиплют вместо того, чтобы пожалеть. Голуби могут быть так жестоки – как это грустно! Мне все время грустно теперь! – и он устало закрыла глаза.
Он сидел около нее и гладил ее руку и перламутровые пальчики, не решаясь тревожить ее поцелуями: она казалось ему такой утомленной и бледной… Куда девались розы на этих щеках? Лоб был совсем прозрачный, на висках сквозили голубые жилки… Изо дня в день капельными гомеопатическими дозами разъедающая тревога западала в эту недавно еще детски-жизнерадостную душу!
– Святая Цецилия, – сказал он, – если даже существует вечная жизнь, мы с тобой и тогда не встретимся: я – нераскаянный грешник, а ты…
Ася открыла глаза.
– Молчи! Не смей так говорить. Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что умирая, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, Свят, Свят»! Мне иногда уже мерещится… Наверное, очень большая дерзость думать так!
И опять закрыла глаза…