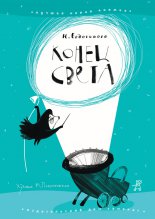Лебединая песнь Головкина Ирина
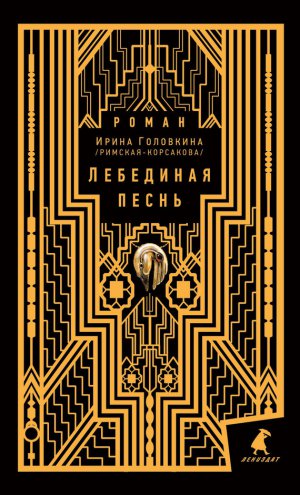
– Тетя Маня велела сказать: приезжайте нас навестить. Приезжайте и скажите ваше имя: мы за вас будем молиться.
Вячеслав пристально посмотрел в глаза ребенку:
– Мне молитв ваших не нужно! Ты вот не думай о партийцах как о злодеях и доносчиках – это гораздо важнее, понял? – и, спустив мальчика с рук, вышел из сада.
Разыскивая Олега, он не мог отвязаться от мысли, что вовлекается все глубже и глубже в чуждую ему и враждебную в классовом отношении среду. Какая-то червоточина завелась в последнее время в его мыслях… Олег и Нина, на его глазах снятые с работы и оторванные от семьи, та женщина на окне, в кухне, старик-швейцар, убитый горем, и теперь эти перепуганные дети неотступно сопутствовали его думам. Все это были классовые враги, уже апробированные, клейменые, но он не мог не видеть их человеческой красоты! За фигурой попа – худшего из классовых врагов – вырастал отец, который дрожащей рукой вешал ладанку на шею маленького сына. А кто такая эта «тетя Маня»? Богомольная фанатичка, разумеется, тоже ненавистница существующего строя, и притом портниха, кустарь-одиночка, прячущаяся, конечно, от всевидящих глаз фининспектора… Но сколько любви! Какая готовность к жертве, граничащей с подвигом! У этих людей были свои незабываемые обиды, и трудно становилось осудить их за враждебное отношение. «И все-таки откуда это море недоверия и презрения к нам? – думал он. – Какое огромное внимание уделяем; мы вопросу детского воспитания, какие колоссальные средства затрачиваем на детдома, школы и ясли – и вот какой панический страх, а репутация коммуниста переплетается с репутацией предателя, чуть ли не палача! Да что же это?!»
И только что решил, что лучше не разыскивать Олега, который своими разговорами еще больше раскачает его незыблемое, казалось, кредо, как тут же натолкнулся на Олега и Елочку. Волей-неволей пришлось заговорить и присоединить и свою фигуру к разочарованному трио, причем сеттер обнюхивал встречного весьма недружелюбно (очевидно тотчас заподозрил «чуждый пролетарский элемент»).
Олег предложил своим гостям отправиться к Нине, которая тоскует в одиночестве, а кстати может попотчевать гостей горячим и крепким чаем: ведь она располагает целой дачей и таким сокровищем, как керосинка. Нина и в самом деле встретила гостей очень радушно. У нее уже сидела одна гостья – седая старушка, тоже из высланных, с которой они уже занимались чаепитием, и, таким образом, мечта Олега о горячем тотчас осуществилась. Зато обнаружилось, что старушка обладает жалом еще более ядовитым, чем у Олега, и притом удивительным бесстрашием; нежданно-негаданно она огорошила Нину следующей тирадой:
– Что это вы меня подталкиваете, моя милая? К осторожности, что ли, призываете? Так я, позвольте вам сказать, ничего и никогда не боюсь!… Вы уж не партиец ли, милый юноша? Ага, так! Я тотчас догадалась! – и пошла, и поехала щелкать по больным местам: – Что вы нам тут чепуху всякую в голову вбиваете, будто бы Сталин – любимый ученик Ленина? Заладили и в речах, и в печати! Всем старым революционерам отлично известно, что Ленин не доверял Сталину и говорил о нем: «Он властолюбив и мстителен», «Не допускайте его встать во главе!» Я была знакома с Крупской и слышала эти слова от нее самой.
И не успел еще Вячеслав переварить упоминание о Крупской, которое подействовало на него, как удар ножа, как старушка перешла в новую атаку:
– Эх, не сумела ваша партия воспитать молодежь! Я вспоминаю наше племя! Сколько было в нас самой бескорыстной и беззаветной готовности жертвовать собой за народ! Мне довелось работать на эпидемии чумы. Царское правительство не гнало насильно, под угрозы лишения работы, как это делается теперь. Публиковали официальные приглашения на строго добровольных началах, и, однако, от добровольцев отбою не было, гнали обратно, и никто не хотел уходить, – это вам говорит очевидец! А какие смелые пламенные речи лились, бывало, на наших собраниях и студенческих сходках! Мы не цеплялись за выгодные места и не повторяли как попугаи газетных лозунгов!
Последняя тирада, может быть, не была так убедительно аргументирована, как первая, но зато согласовалась с собственными наблюдениями Вячеслава. До сих пор выводы из них были еще неясны ему, но теперь он почувствовал, что нечто в этом роде, пожалуй, замечал и сам и болезненно всякий раз уязвлялся. Ему делалось все больше и больше не по себе. На его счастье, попали к Нине они только около пяти, а в семь надо было уже выходить к вечернему поезду, неприятные разговоры поэтому не слишком затянулись.
В вагоне осаждали все те же мысли: медсестра на противоположной скамейке тоже не являла особого довольства жизнью, и он готов был биться об заклад, что она ярая контра. Об этом, казалось, кричала даже ее забавная муфточка на черных четках, а еще больше – ее надменное молчание.
Только на следующее утро, собираясь на работу, он несколько встряхнулся, сказав себе, что кое-что тут, несомненно, выдумки классовых врагов, а кое-что – перегибы у власти на местах; есть и сознательное вредительство пробравшихся в управленческий аппарат троцкистов и бухаринцев. Не зря партия проводит эту чистку в своих рядах и в аппарате. Слово «чистка» его успокоило. В самом деле: если бы Советы и великий Сталин находили все в должном порядке, они не выбросили бы лозунг о чистке, а коли он выброшен, стало быть, там, наверху, тоже видят ошибки, с которыми уже повели борьбу решительно, по-большевистски! Все сделалось опять ясно, встало на свои места.
«Отпуск мне записан в мае. Надо будет съездить в родную деревню, посмотреть, как там идет жизнь, каково переустройство. Прежде я, бывало, всякое лето наведывался, а теперь пятый год глаз не кажу. Навещу дядьев да теток, подышу деревенским воздухом, как раз на посевную кампанию попаду, да своими глазами посмотрю как нарождаются колхозы. Тогда, небось, тени от сомнений не останется и сил прибудет, иной раз надо и самого себя почистить. Если такое дело!»
Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе. «Слабым и сомневающимся – между нами не место! Мы все должны быть одного покроя: крепкие, стальные, монолитные! Положим, нелегированные, но это нам не нужно!» Непоколебимая целость его мыслей была восстановлена.
«Слуги антихриста! Как бы не так! А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием, а я мог бы сделать из него честного гражданина!»
Для Лели наступило время, когда она вся превратилась в настороженное ожидание: придет или не придет к ней, наконец, ее; счастье, наступит ли час ее победы. В санатории ее словно ядом опоили: ей дали попробовать свои силы на поприще женского соревнования в успехе; мужчины были грубее и примитивней, чем ей хотелось бы, зато в них были более обнажены их инстинкты и ясно сквозило мужское хищничество, которое ей нравилось. Игра с мужским темпераментом привлекала Лелю. Рыцарство размагниченных представителей уходящего класса давно стало казаться бесцветным и бледным. В этот год все впечатления в области флирта свелись только к санаторским, где Леле удалось попробовать себя более длительно, изо дня в день и притом освободившись от всякого присмотра. Это было очень захватывающе, потому что вокруг был молодежь, веселая и праздная, все интересы которой сконцентрировались на романах. Сначала Леле казалось странным позволять схватывать себя за локти и плечи, выслушивать намеки и убегать от поцелуев, но эта игра увлекала все больше и больше. Интерес подогревался еще тем, что она безусловно имела успех, и притом прослыла такой, которая «не дается». Женская половина отдыхающих завидовала как ее изяществу, так и этой репутации, – она это чувствовала. Всеобщий интерес как будто даже сконцентрировался на том, достанется она кому-нибудь или так и не достанется? Это открыто обсуждалось за обеденными столиками и доставляло ей огромное удовольствие. Некоторые девчонки ее открыто возненавидели, и это тоже содействовало росту ее успеха. Через весь этот довольно грубый флирт у Лели еще проходила чистая девственная нитка: страх перед неизведанной еще близостью с мужчиной, нежелание достаться слишком легко и надежда на что-то лучшее, что еще подойдет к ней может быть… Тем не менее, она отдавала себе совершенно ясный отчет, что раздразнивать мужчин доставляло ей все большее и большее наслаждение.
Когда появился Геня – «гвоздь сезона», который занял среди мужчин примерно то же положение, что она среди женщин, – вопрос заострился на том именно, одержит ли теперь над ней победу Геня, если не сумели другие. Все как будто отступили, давая ему место, но тут-то именно (может быть, потому, что этот человек заинтересовал ее больше остальных) в ней упорней заговорили привитые воспитанием навыки, и она почувствовала себя не в состоянии отдаться шутя. Он был интеллигентнее других, и ей захотелось заставить его понять, что она не такая, как все, и требует особо бережного отношения и внимания исключительного. По-видимому, он это понял, если, признав себя побежденным, пожелал перенести знакомство в Ленинград. И вот теперь он не шел! Пролетел уже весь январь, а он не появлялся! Может быть уже забыл о ней? И она увидела себя вновь перед пустотой… Опять довольствоваться обществом матери, Натальи Павловны и Аси с Олегом? Опять этот сухой постный режим, а впереди -перспектива превращения в сухую и злую старую деву? Ей было всего двадцать два года, а она думала о себе так, как будто ей было тридцать! Отчасти это происходило оттого, что Ася на ее глазах вышла замуж и этим словно поставила ее в положение перестарка. Окружающие считали ее почти девочкой, и только сама она уже готова была махнуть на себя рукой, замирая от страха, что на ее долю не выпадет радостей. Эта мысль делала ее раздражительной, она опять стала до колкости суха с матерью и потеряла вкус ко всем уютным милым минутам домашней жизни; глядя в зеркало на свое хорошенькое личико, со страхом думала, что ей уже недолго быть такой и она упускает время… А что делать, чтобы не опустить? Где найти поклонников, да еще именно таких, как хочется? Угрожающий бег времени открылся ей, чтобы мучить ее постоянными опасениями о потере драгоценных минут и невозможности ничего изменить. В ней стала появляться зависть к Асе, которая так легко и быстро нашла свое счастье в то время, когда еще нисколько не томилась по любви; зависть, несмотря на то, что Олег никогда не пленял ее воображение.
И вот в одно утро, когда, сжавшись комочком, она сидела на своей постели, раздумывая над неудачами своей жизни, в ее дверь постучали, и соседка вызвала ее в переднюю, говоря:
– К вам пришли.
Она выглянула, и внезапно, словно горячее вино пробежало по всем ее жилам, согревая кровь: перед ней стоял Геня, цветущий, веселый, в кожаной куртке и меховой круглой шапке. Щеки его были ярко-розовые, а черные глаза сверкали, как уголья.
– Узнаете меня, Леночка? Явился с вашего разрешения, если припоминаете. Думал заявиться к вам тотчас по приезде, но меня в командировку угнали. Могу я войти?
– Да, да! Пожалуйста, Геня! – воскликнула она, чувствуя, как горячая жизненная струя захлестывает ее через край.
Зинаида Глебовна вошла, когда разговор только завязался. |
– Мама, позволь тебе представить: Геннадий Викторович Корсунский – один из отдыхавших вместе со мной.
Геня поднялся, не спеша, и, кланяясь, не поцеловал руку ее - матери. Это слегка покоробило Лелю, но она тотчас подумала: «Нельзя требовать от него старорежимной изысканности, он по-своему достаточно вежлив, и этого должно быть довольно».
При Зинаиде Глебовне, однако, разговор начал увядать, и Леля смертельно испугалась, что Геня сбежит от скуки… Но у него, по-видимому, были другие планы:
– А что если мы с вами, Леночка, предпримем сейчас небольшую экскурсию по кино, а? Мой пропуск со мной, погода отличная, собирайтесь-ка поживее.
– Стригунчик, как же так? Ведь тебе к 3 часам на работу, тебе надо обедать через час, – забормотала было Зинаида Глебовна в ту минуту, как Геня подавал Леле пальто.
– Ничего, об этом не беспокойтесь: накормим где-нибудь вашу Леночку, голодной не оставим и на работу тоже доставим без опоздания, – успокоил покровительственно Геня и притронулся к шляпе, прощаясь.
В темноте кинозала, сидя рядом с Геней плечо к плечу, Леля почувствовала вдруг, как его рука пробирается к ней в рукав. Это уже вовсе не предусматривалось хорошим тоном, но вырваться она не решилась, боясь чрезмерной сухостью отпугнуть его. Надо было чем-то пожертвовать в угоду этому человеку!
– Я соскучился по вас, – шепнул он, привлекая ее к себе.
– И я, – ответила она еле слышно.
– Леночка-Леночка, милая девочка! – и он продолжал гладить ее руку.
Из кино поехали в кафе Квисисана, где Леля пила кофе со взбитыми сливками и ела пирожное, потом на такси она была доставлена на работу… Как изменилось все за этот день! С ее груди разом снялась тяжело давившая доска, исчезло ощущение уходящих без радости дней! Ее наконец оценили, ею любуется красивый веселый юноша с черными южными глазами, он готов баловать ее, он в нее влюблен! Это сразу сделало ее и веселой, и доброй… Вечером, у Аси, которая была опечалена отъездом Олега, она с такой готовностью помогала Асе и мадам в их хозяйственных делах, она так весело играла с ребенком, время от времени заглядывая вглубь своего сознания, чтобы вынуть оттуда радостную уверенность: «Счастье будет и у меня!»
На следующий день у ворот больницы Лелю ждала машина: Геня повез ее опять в кино, а оттуда в ресторан ужинать. Но когда они выходили из ресторана, он, беря ее под руку, вдруг сказал ей на ухо:
– Ну а теперь поедемте ко мне. Согласны, Леночка?
Она остановилась, точно ее хлестнули бичом: в ее мыслях отношения интимные обязательно принимали законную форму – и опять она оказалась невинней, чем то, что приближалось в действительности.
– К вам? Нет, Геня, я не поеду, – и она вырвала у него руку.
– Почему же, Леночка? Мне казалось, мы друг друга любим. Разве нет?
Она молчала.
– Леночка, надо брать от жизни все, что может нас сделать счастливыми. Вы ведь отлично видите, что я от вас без ума.
Фраза эта приятно щекотала ей слух, но она все-таки молчала.
– Вы меня не любите, Леночка? – допытывался он.
– Геня, я к вам не поеду. А сказать «люблю» для меня не так просто.
Они стояли выжидательно, глядя друг на друга, пауза была очень напряженная.
– Леночка, вы… еще не любили? Вы… простите… девушка?
Ей осталось только спрятать запылавшие щеки в старый куний воротник. «А все-таки он безмерно дерзок!» – мелькнуло в ее мыслях. Геня хмурился, что-то взвешивая.
– Леночка-Леночка, милая девочка! Да вы у нас Лисонька Патрикеевна! Уж по всему вижу, что придется мне около вас повертеться. Ну да ладно, поехали к вам.
Она облегченно и радостно вздохнула и в награду разрешила ему целовать себя в темноте машины. «Теперь он понял, что со мной нельзя шутить, и теперь, если заговорит о любви, то это будет уже предложение! Какой он все-таки милый!» – думала она, закрывая глаза под его поцелуями.
Последующая неделя была вся полна встреч и веселого оживления. Геня, по-видимому, не стеснялся в средствах: кино, театры, такси, конфеты, ужины в ресторане сыпались на Лелю, как из рога изобилия. Она так привыкла видеть вокруг себя нужду и озабоченность, что ей даже странно было наблюдать ту беспечность, с которой он тратил деньги.
В один вечер, сидя рядом с Геней перед началом спектакля в партере Алексадринского театра, с коробкой конфет на коленях, Леля обводила глазами ряды кресел и внезапно вздрогнула: на нее пристально смотрели холодные и злые зеленовато-серые глаза, взгляд которых неизменно внушал ей ужас. Сердце ее тотчас забило дробь. «Он здесь! Зачем он здесь? Впрочем, как так зачем? Пришел, как и мы, слушать пьесу. Господи, куда бы мне только уйти от этого взгляда?» Она постаралась принять равнодушный вид и предложила Гене выйти в фойе. Но звонок заставил их почти тотчас вернуться в зрительный зал.
– Вы знакомы с этим товарищем, Леночка? – спросил Геня, едва они успели усесться.
– С кем? – спросила она, хотя уже заранее была уверена в ответе.
– Вот с тем, что стоит у прохода в пятом ряду. Взгляните, как он смотрит на нас.
Леля, однако, обернуться не захотела.
– Я его не знаю, – шепотом сказала она.
– А мне его лицо как будто знакомо, – сказал Геня. – Но я не могу вспомнить, где я видел его. Кажется, он раздумывает над тем же, если так изучает меня и вас. Может быть я его встречал на службе…
– Геня, скажите, где вы служите? Я у вас давно хотела спросить.
– В цензурном комитете. Поэтому-то у меня пропуска во все театры.
– Как? Вы – цензор, Геня?
– Это вам не нравится, Леночка?
– Цензура так уродует произведения. Всякий цензор мне сейчас же напоминает Бенкендорфа, – смущенно пробормотала Леля.
– И тем не менее ваш самый преданный слуга и друг – новый Бенкендорф! – засмеялся Геня. – В нашей работе есть очень большие преимущества, Леночка: мы в курсе всех новинок кино, театра, литературы. И вхожи повсюду. Цензор видит все первым. Вот погодите, будем вместе ходить на просмотры фильмов и пьес, так вы сами войдете во вкус моей работы. Конечно, приходится иногда перечеркивать, руководствуясь инструкциями… Цензор – человек подначальный, как и всякий другой… С этим уж ничего не поделаешь! Сколько могу, стараюсь быть мягче, даже попадает иногда! – и он добродушно засмеялся.
В антракте Геня ушел в курительную комнату, покинув Лелю в коридоре бенуара. Она подошла к одному из больших стенных зеркал взглянуть, хорошо ли лежат ее кудри, и вдруг увидела позади себя отражение все того же холодного злого лица, которое проплыло мимо. Видны были только голова и шея, и это заостряло впечатление. Леля опять вздрогнула, но не обернулась. Только когда отражение исчезло, она взглянула ему вслед и увидела, что он входит в курительную за Геней. Одновременно ноздрей ее коснулся запах, который напомнил минуты в кабинете № 13: духи, которыми душился следователь, и примешивающийся к ним запах, напоминающий серу. «Он весь – как нечистый дух! – сказала она себе. – «Элладой» он хочет заглушить свой естественный запах, чтобы не выдать свое родство с нечистым. Ах, как испортила мне вечер эта встреча!»
Геня только что докурил папиросу и хотел выйти, когда услышал позади себя голос:
– Товарищ Корсунский, привет! – к нему подходил человек, о котором он говорил с Лелей.
– Простите, товарищ! Я не узнаю вас, – сказал Геня. – Лицо ваше мне как будто знакомо, напомните, где мы встречались?
– Встречались не один, а два или три раза: в клубе гепеу и на партсобраниях, посвященных вопросам цензуры; даже поспорили один раз по вопросу о переиздании «Золотого теленка».
– Совершенно верно! Да, да! Вы высказывались против, и ваше мнение оказалось мнением большинства. Но фамилию вашу я все-таки не припоминаю!
– Ефимов, следователь политчасти. Товарищ Корсунский, вы мне очень нужны. Я вас попрошу завтра же утречком зайти в наше учреждение, кабинет номер 13. Если вы заняты в это время могу прислать официальный вызов с курьером…
– Нет, нет, зачем? Я сам могу отлично освободиться. А в чем дело, товарищ? Я как-то не пойму!
– Не здесь же обсуждать! Согласитесь, товарищ, что не место. Итак, я вас жду. Попрошу держать в секрете: вашей спутнице ни полслова!
– Нет, нет, разумеется! Только я все-таки не понимаю… – начал опять озадаченный юноша, но его собеседник уже повернул к нему спину.
Леле показалось, что Геня был чем-то озабочен, когда вернулся к ней: он несколько раз хмурился и уже не шутил. Прощаясь около ее подъезда, он сказал, что не может быть у нее на следующее утро, хотя они только что условились, что поедут вместе завтракать. Расспрашивать его она не решилась, не считая себя достаточно близкой для этого, но ей стало неспокойно. Всю ночь она раздумывала над впечатлениями этого вечера, чувствуя, как тяжело и тоскливо замирает ее сердце. Тут было несколько моментов: во-первых, цензура, да еще советская! Леля знала, как издевались над ней все ее близкие и до каких нелепостей она доходит! Второе: следователь видел ее с молодым человеком: «Теперь он может взять под обстрел мои отношения с Геней и начнет допрашивать о нем…» – думала Леля. И третье: отчего Геня так изменился к концу вечера, так коротко и сухо простился? Ему, словно было не до нее! Может быть, обиделся за «Бенкендорфа»? «Надо быть вечером особенно с ним приветливой, чтобы загладит мою резкость. Милый Геня, я огорчила его!»
Следующий день тянулся убийственно медленно. Вернувшись с работы, весь вечер вся наэлектризованная, она ждала его, но он не шел! Несколько раз она шла к дверям и смотрела на лестницу в замочную скважину – все напрасно! Тревожные мысли стали осаждать ее: неужели все гибнет и счастье уходит – счастье, которого она так долго ждала? И все из-за одной неудачной фразы! Да пропади вся эта политика и вся эта семейная вражда к новым установкам! Ну, цензор так цензор! Ведь цензор – не следователь! Может быть, Геня пошел в цензуру только затем, чтобы иметь дело с искусством, а не с канцеляриями и новостройками. Важно одно – он ее любит! Только бы пришел, она чем-нибудь докажет ему свою любовь, она найдет способ повернуть к себе его сердце, она не уступит так легко свое счастье!
Ночь тянулась тоже мучительно медленно, запомнились часы, которые отбивали удар за ударом, отсчитывая такты ее мучительным думам. Эта ночь кончилась, наконец, но легче не стало. Она чувствовала, что и мать тревожно наблюдает ее, и необходимость притворяться раздражала ее настолько, что она с трудом удерживалась от резкого слова. Она боялась подумать, что будет, если он не придет: боялась пустоты предстоящего вечера и дум новой бессонной ночи. Время шло, а его все не было; в два часа предстояло обедать и тотчас уходить на работу. Она снова нырнула в темную щелку между входными дверями и стала смотреть в замочную скважину. Откуда тянулась ей в лицо струя холодного воздуха. Картина та же, что вечером: скованная холодная тишина лестничных клеток, нарушаемая стуком дверей. Она уже приноровилась разбираться в этих стуках: вот захлопывается чья-то дверь и слышны шаги вниз – кто-то вышел, этот звук ее не интересует; вот он повторяется снова. А вот звук более отдаленный и подающий надежду – звук захлопываемой лестничной входной двери внизу и после него шаги наверх по лестнице – все внимание ее мобилизуется, если бы она была собачкой, она навострила бы ушки, так чутко она прислушивается, и сердце опять отбивает дробь. Уже устало тревожиться ее сердце, хоть она и очень молода – устало все-таки! Слишком много терзаний! Вот и сейчас: услышанные шаги во втором этаже стихли, и кто-то открывает ключом дверь… и снова тишина, строгая, равнодушная и такая же холодная, как струйка воздуха, которая тянется через щелку ей в лицо. Опять стук двери, два разговаривающих голоса и шаги вниз – не то! А вот и шаги наверх, послышавшиеся вдруг очень близко (они были сначала заглушены голосами), но это не его шаги – это шаги тяжелые, медленные, сопровождаемые усиленным дыханием: это идет кто-то, страдающий одышкой, кто-то старый. Шаги останавливаются и опять тишина. Слышно, как бьют часы, уже половина второго. Совсем скоро мать позовет обедать, а потом на работу… Господи, Господи, он не придет! За что Бог наказывает ее, за что? «Знаю: брата я не ненавидела и сестры не предала», – эти строчки Ахматовой как раз к ней! За что же ее наказывать, за что? Она опять нагибается к щелке и вдруг слышит удар захлопывающейся лестничной двери и шаги наверх – шаги быстрые, молодые… кто-то взбегает через ступеньку, ближе… ближе. Похоже на него, но страшно верить: а вдруг шаги опять остановятся, не дойдя? Но шаги не останавливаются, и вот она уже видит в щелку очертание фигуры в кожаной куртке… Ой, Господи, он! Какое счастье! Она только хочет покинуть свой наблюдательный пункт, как замечает, что Геня, не дойдя до двери, остановился и, опираясь о перила, словно в раздумьи… Минута, другая, третья… Геня не идет звонить – почему? Он точно раздумывает: войти или не войти? Открыть ему сейчас – значит выдать себя, отойти – риск: ведь он колеблется, а вдруг уйдет?!
– Стригунчик, обедать! – раздается так хорошо знакомый, ненужный и досадный оклик матери.
Не отвечая, она снова нагибается к щелке: Геня все также стоит. Будь что будет! И она распахивает дверь.
– Геня, вы? Здравствуйте! Отчего вы не идете, а стоите здесь?
Он подошел и взял ее за руку:
– Здравствуйте, Леночка. Я как раз хотел позвонить, а вы – тут как тут!
Они входят в комнату, и каждый ловит на другом внимательный и как будто настороженный взгляд.
– Геня, вы не оскорбились ли, что я вас сравнила с Бенкендорфом? Я упрекала себя за эту фразу.
– Нет, нет, Леночка, что вы! Вчера утром я оказался занят, а вечером голова разболелась – только и всего, – ответил он, но ей почему-то показалось, что головная боль – только предлог, прикрывающий подлинную причину. Однако допрашивать опять не решилась.
Геня лихо доставил ее в такси на работу и все продолжение пути кормил ее шоколадными конфетами, доставая их из коробки и поднося к ее губкам в промежутках между поцелуями. Для разговоров, таким образом, времени не оставалось. Решено было, что к 8 вечера он заедет за ней в больницу, и они проведут вечер вместе.
В этот вечер впервые был затронут вопрос о ее происхождении.
– Кто этот старый человек в таком странном одеянии, Леночка? – спросил Геня, указывая на одну из фотографий в комнате Нелидовых.
– Дедушка, он был сенатор. Это камергерский мундир.
– Ого! – сказал Геня. – У вас, наверно, бывают неприятности вследствие этого, Леночка?
– Да, Геня, от вас я скрывать не хочу: мы с мамой очень много бедствовали, иначе я не работала бы в тюремной больнице. Вы советский человек, Геня, и тем не менее, наверно, согласитесь, что преследовать меня за моих предков – несправедливо, так как я ведь тут ни в чем не виновата.
– Да, разумеется. Перегиб палки, и таких перегибов у нас много. У вас, кроме матери, есть еще родные, Леночка?
– Нет, родных нет.
– Как? Никого? – почему-то удивился он.
– Только двоюродная сестра, – сказала Леля.
– Ах, вот как! Она живет одна, или…?
– Нет, в семье, с бабушкой и с мужем… Бабушка ее относится ко мне как к родной внучке, хотя с ней как раз мы не в родстве: она приходится моей Асе бабушкой по отцу, а не по материнской линии.
– Эта бабушка тоже, наверное, аристократка?
– Бологовская, вдова свитского генерала.
Выслушивая эти спокойные и простые ответы, он несколько раз бросал на нее быстрый и как будто удивленный взгляд.
– Ваша мамаша, наверно, ко мне не очень благоволит: я человек другого круга.
– У нас нет теперь нашего круга, Геня: nous sommes declasses [102], как сказали бы французы. Притом… знаете, Геня, теперь аристократическому кругу приписывают много таких недостатков, которых не было на самом деле: зазнайство в нашей среде считалось дурным тоном, присущим выскочкам. В детстве за нами очень строго следили, чтобы мы были вежливы и приветливы со всеми окружающими, с прислугой. Когда я теперь наблюдаю надменные мины, с которыми молодые врачи проходят мимо младшего персонала, я невольно думаю: вот бы им поучиться вежливости у мамы или у Натальи Павловны.
– Да, да, возможно, – бормотал он несколько озадаченно, пристально всматриваясь в нее и вертя свою шляпу. – Так вы полагаете, что Зинаида Глебовна… – и оборвал фразу. Леля мысленно докончила ее за него: «не была бы против нашего брака», – румянец залил ее щеки и, понимая, что ответ ее должен быть в высшей степени тактичен и ничуть не изобличать ее догадок, она сказала:
– Моя мама кротка и добра и готова любить всех, кто добр со мной, – и замерла в ожидании следующих слов. Но он сказал совсем другое:
– А ваша кузина вышла за человека вашего круга или из новой среды?
По всей вероятности, он спрашивал это, желая точнее уяснить себе, как будет принят сам, почему бы иначе он задал такой вопрос. Она взглянула ему в лицо, собираясь ответить с той же искренностью, но встретила взгляд, в котором сверкнуло слишком обнаженное, жадное любопытство, и это ее остановило. Минуту она молчала и опять призвала на помощь весь свой такт.
– Он не аристократ, но человек интеллигентный, как и вы. Ее он безумно любит, и это то главное, что нам в нем дорого.
– А как его фамилия?
Леле казалось, что кто-то, неосязаемо касаясь ее уха, шепчет ей: «осторожней!»
– Казаринов, – ответила она после минуты нового молчания.
Почему-то и он молчал несколько минут, а вслед за тем, не продолжая этого разговора, – разговора, который касался обнаженных проводов высокого напряжения, – вдруг сказал:
– А не махнуть ли нам в кино, Леночка?
– С удовольствием, Геня.
Но она не следила за кинокомедией, над которой потешался он, она думала над тем, что заставило ее солгать ему и каковы могут быть последствия этой лжи? Вспоминая, как странно блеснули его глаза, она говорила себе: «Я просто становлюсь мнительна в этом пункте. Однако ж обязывать чужого человека хранить семейные тайны – несколько опрометчиво! Я правильно сделала, что не сказала; я все расскажу, и про следователя, и про Олега, когда стану невестой – не раньше, не позже», – и успокоилась на этом решении.
Когда придет эта минута? Он что-то должен сделать с ней, чего она еще не испытала. То именно, из-за чего люди разбивают друг другу жизни, разоряются, стреляются, лишь бы получить «это» от того, кто вдруг начинает притягивать к себе как магнит! Она это ждет. Ее маленькое тело еще настолько невинно, что она не представляет себе ни одного из ощущений, которыми, наверно, сопровождается страстный аккорд. Но она – вся ожидание! Если «это» не подойдет к ней теперь же – она зачахнет.
Отчего это так? Отчего Ася была и осталась до странности равнодушна к этой стороне жизни? И Олег, называя жену то Снегурочкой, то Мимозой, то святой Цецилией, сам подсказывает эту мысль. Для Аси с самого начала центр лежал в чем-то ином, а в ее томит непонятное тяготение к этой минуте. В чем тут дело? Или уже сказывается разница темперамента?
В один из вечеров она вернулась домой, сопровождаемая Геней, несколько раньше, чем предполагала. Зинаиды Глебовны не оказалось дома – обычно она очень добросовестно караулила и к великой досаде Гени.
– Никого? – спросил он, озираясь, и глаза его вдруг блеснули
– Геня, Геня, не надо! Геня, что вы делаете, не смейте! Я не позволю! Геня, я не хочу! – сколько бы она не замирала в ожидании этих минут, разрешить их ему теперь она сочла бы падением.
– Геня, вы обязаны повиноваться! Прочь – слышите? – и, набравшись сил, оторвала его от себя, он ей показался тяжелы и мягким, как куль муки.
– Это же нахальство, наконец! – воскликнула она возмущенно.
Он разозлился:
– Вы что же, всегда, что ли, будете кормить меня одними надеждами? Я не импотент, чтобы довольствоваться вашей дружбой.
Леля вспыхнула:
– Вы обязаны быть деликатным в разговорах со мной! Вы не смеете касаться… касаться… некоторых вещей… Это грубо. Я однажды уже просила вас держать себя корректно.
– Вы хотите непременно в загс прогуляться или, может быть, в церковь меня потащите?
Леля гордо вскинула голову.
– Я своей руки никому не навязываю. Вы можете уйти вовсе, Геня, и это, кажется, самое лучшее, что вам теперь остается сделать.
– Самое лучшее! Целый месяц вертелся около вас, баловал, веселил, и вдруг – скатертью дорожка, катись, голубчик!
– Похоже на то, что вы намерены предъявить мне счет? – надменно сказала Леля. «Прогоню», – подумала она и только что хотела произнести несколько очень решительных фраз, которые бы окончательно разделили их, как вдруг он бросился на нее и повалил на сундук. Однако же это было не насилие – он не сдавил и не зажал ее, а только ласкался, терся, как кот.
– Леночка-Леночка, милая девочка! Не гоните меня. Ну, зачем мы куражимся, друг друга задираем… Ведь все это вздор, а вот что настоящее! Ну, приголубьте меня хоть одну минуточку. Ведь это самая большая радость жизни. Ведь я же на самом деле влюблен! Ведь не слепая же вы, чтобы не видеть этого!
Дверь отворилась и быстро вошла Зинаида Глебовна. Оба вскочили. Она все-таки не опоздала со своим материнским наблюдением, маленькая, худенькая, почти в лохмотьях, она с величавым достоинством остановилась в дверях и молчала в ожидании объяснения, что, казалось, достаточно капли такта, чтобы понять, что недопустимо игнорировать ее появление. Но для этого юноши вмешательство матери было лишь досадным и ненужным осложнением.
– До свидания, – только и сказал Геня, обходя Зинаиду Глебовну, чтобы пройти в переднюю, и взялся за пальто, но уже у самого
порога остановился.
– Вам будет от нее головомойка, Леночка? – конфиденциально осведомился он и, прежде чем Леля собралась ответить, прибавил: – Видно, и в самом деле без экскурсии в загс нам не обойтись. Пока, – и вышел.
Вот она и получила предложение в новом вкусе: без коленопреклонений, без клятв в верности, без объяснений с матерью! В теории рыцарство казалось скучным, а вот на практике получалось, что без налета романтики выходит чересчур грубо, и притом она не застрахована ни от обиды, ни от оскорбления! «Не обойтись без экскурсии в загс», – как расценивать эту фразу: считать ее предложением или не считать? Ведь он даже не спросил ее согласия, даже не сказал, что желает этого сам… Она стояла несколько ошеломленная.
– Стригунчик, что значит эта сцена? Ответь, пожалуйста.
– Ах, мама! Я знаю все, что ты скажешь. Ну да, мы целуемся! Что делать, если он воспитан в совсем других понятиях. Ты ведь видела же: я его отталкивала.
– Но ты позволяешь ему больше, чем можно позволить жениху. Делал он тебе предложение? Ответь.
– Завтра я тебе скажу все точнее, мама: видишь ли, мы еще не договорились до конца. А ты не будешь против?
Зинаида Глебовна привлекла к себе дочь.
– Я хочу только твоего счастья, дитя мое драгоценное! Человек этот, конечно, совсем другой формации, чем мы, но в какой-то мере интеллигентный. Если ты его любишь, я препятствовать не буду, хотя уже теперь вижу, что ни уважения, ни внимания мне от него не дождаться, с тобой же он чрезмерно смел… Стригунчик, будь осторожна]
Леля вдруг обхватила шею матери.
– Мама, мамочка! Несчастливые мы с тобой!
– Стригунчик, девочка моя, неужели он так тебе нравится?
– Нравится, мама. Иногда я, досадуя на него, злюсь и в то же время знаю, что без него мне станет очень пусто и скучно. Да, мама: я хочу, чтобы он стал моим женихом; я уверена, что будет очень много шероховатостей, но пустоту моей жизни я больше выносить не могу.
Утром, в этот раз несколько раньше обычного, появился Геня в коричневых полуботинках и нарядном галстуке, с двумя свертками под мышкой.
– Вот вам в подарок туфельки, Леночка, я заметил, что с обувью у вас не совсем благополучно. А вот здесь – перчатки. Я уж выбирал самые лучшие. Померьте, не велики ли? У вас лапки, скажу вам, как у мышонка.
Леля смотрела ему в лицо, и в глазах ее был вопрос.
– Эти подарки… Не знаю, Геня, по какому праву вы делаете их?
– Да разве мы не жених и невеста, Леночка?
– А вы разве спрашивали меня, Геня, желаю ли я быть вашей женой?
– Так вы непременно соблюсти форму хотите? Ну, говорите, Леночка, желаете ли… А я было думал, что все уже решено, коли я на загс согласен. Да ведь не откажете же!
– Не откажу… – смущенно прошептала Леля и покраснела.
– Как жениху – поцелуй, и едемте завтракать в «Европейскую». Вспрыснем наше жениховство бутылкой шампанского.
– Подождите, Геня! Вы неисправимы! Надо ведь маме сказать… Возьмем с собой и мамочку.
– А вдвоем разве не веселее, Леночка? Матери – тяжелая артиллерия. Вы сама уж ей лучше скажите… потом, вечером. Объясните, что комната у меня есть, и зарабатываю я достаточно. Служить вам не придется, пока будем в браке. Поехали.
– Для моей матери ваше материальное положение не играет роли, Геня, – сказала Леля гордо.
– Ну, и хорошо, если так, Леночка! Примеряйте подарки, и – едемте!
Его добродушие и веселость, казалось, разбивали все укрепления, но перевести его в серьезный тон никак не удавалось, и опять ей чего-то не хватало: не хватало бережности и нежности, ну, хоть двух-трех слов о том, что без нее для него нет счастья в жизни и что так, как он любит ее, он еще никого не любил! Фраза «пока будем в браке» звучала странно – как будто впереди уже мерещился конец. Она раздумывала над этим, пока он изучал меню, и радость, что она ускользнула от подстерегающей ее пустоты, перемешивалась с болью разочарования.
«Это все ничего! – утешала она сама себя. – Минуты счастья у меня будут и сынок будет – чудный, черноглазенький! Все ничего, только бы не пустота». Она взглянула на Геню – он уже сделал заказ и в эту минуту задумался, оперев на руку нахмуренный лоб. Ей бросилась в глаза озабоченность его лица… Чем мог быть обеспокоен в такой день этот эпикуреец в советском вкусе? И она спросила:
– Геня, о чем вы задумались?
Он встрепенулся.
– Отчего это, Леночка, так часто какая-нибудь, прямо скажем, пакость портит нам счастливые минуты? Завелся же такой порядок в нашей жизни!
– У вас неприятности, Геня?
– Прицепилась одна с некоторых пор. Ну, да ничего – выкручусь! Вот несут наш заказ: ваши любимые взбитые сливки, Леночка.
– Эта неприятность имеет какое-то отношение к нашей свадьбе, Геня?
– Нет, нет! Ни малейшего. С чего вы вообразили? Служебное.
У нее на языке вертелось: «Я всегда рада буду разделить каждое ваше огорчение, Геня. Вы можете найти во мне друга!» Но она не решилась это сказать, чтобы не показаться навязчивой или любопытной.
– Когда же мы пойдем к вашей кузине, Леночка? Надо ведь познакомиться с будущей родней, – сказал вдруг Геня.
Леля удивилась: Геня готов делать родственные визиты, Геня, который двух слов не захотел сказать с ее матерью!
– Рада буду повести вас в этот дом, Геня, там родные мне люди.
– Так почему же вы оттягиваете этот визит, Леночка?
– Что вы, Геня! У меня и в мыслях этого нет! Но поймите, что вести вас к Наталье Павловне прежде, чем вы стали моим официальным женихом, я не могла: представить вас, говоря «это мой мальчик», как принято теперь – немыслимо в этом доме.
– Ах, да: ведь там сиятельнейшие аристократки! – сказал он.
Леля молчала.
– А впрочем, муж вашей кузины, если я правильно понял, такой же выходец из низов, как и я: мой отец в молодости был типографским рабочим, он старый партиец, подпольщик; с тех пор он, правда, успел окончить высшую партийную школу и теперь на руководящей партийной работе в Киеве. А кто родители этого Казаринова?
«Почему Олег его особенно интересует? – думала Леля, чувствуя опять странное нежелание говорить на эту тему. – А ведь надо будет сказать, не откладывая; продолжать скрывать теперь немыслимо: рано или поздно ему все равно все станет известно и тогда моя скрытность может оскорбить его и поссорить нас». И сказала:
– Сегодня же вечером я забегу к Наталье Павловне и спрошу ее, когда ей удобно будет нас принять.
Он удовлетворенно кивнул и начал рассказывать сцену из «Золотого теленка», ту, где Бендер и Балаганов выдают себя за сыновей лейтенанта Шмидта. Это произведение он почитал в душе шедевром мировой литературы, хоть и не решался признаться в этом, опасаясь обвинений в дурном вкусе со стороны Лели и в недостаточной лояльности со стороны товарищей. В этот день на работе Лелю не оставляло ощущение перемены – новой пламенной жизненной переполненности, приближавшейся к ней на смену прежнему прозябанию. Но сквозь все эти ощущения, и наперекор им, в сознании ее несколько раз назойливо проплывало воспоминание о Вячеславе и его предложении, в котором под самой простой формой заключалось отношение по существу рыцарское: раньше, чем искать наслаждений, хотя бы самых беглых, таких, как пожатия рук, юноша этот заговорил с ней, обещая оберегать ее и заботиться о ней, а представитель советской золотой молодежи имел в центре прежде всего себя самого! Она не могла не видеть этого! Несколько раз мысли ее возвращались к странному факту: страшный человек вот уже два месяца не вызывал ее, несмотря на то, что встреча в театре, казалось бы, должна была о ней напомнить… Может быть он сжалился, увидев ее с юношей, и решил оставить в покое? Но нет: жалость не вязалась с этим холодным, жестоким взглядом. «Вернее всего он просто потерял надежду добыть через меня нужные ему сведения; я, по-видимому, избрала правильный путь: разоблачая по мелочам, прикрывать то, что нельзя выдать. Полковника Дидерихса взяли, конечно, не за тот анекдот, о котором я вынуждена была сообщить: его жена сама говорила Наталье Павловне, все дело в том, что он – измайловец. Надежда Спиридоновна… Вот тут доля моей вины есть, но этой ценой я, может быть, спасла Асю».
Странно, что сердце ее было все время как-то неспокойно и точно замирало в предчувствии недоброго. «Я слишком издергана и стала мнительна. Вот и все!» – говорила она себе, стараясь успокоиться, однако это не удавалось. Белый обволакивающий туман не спускался окутать ее своей волшебной дымкой, – той дымкой, в которой блуждала Ася в такие же решающие дни своей жизни.
В один из своих выходных дней, явившись домой, Олег попал прямо на скандал, разыгравшийся в благородном семействе: мадам выходила на прогулку со Славчиком и белой Ладой, и пока она учила ребенка гнать метелочкой ручейки, подскочил откуда ни возьмись крупный боксер и завертелся вокруг прелестной пуделицы и сгибло, пропало собачье целомудрие! Пуделица только что была просватана за премированного пуделя, визит которого ожидался на днях, и вот вместо законного брака нежданный мезальянс! Мадам только ахнула, увидев, до чего дошло! Испуганная пуделица, отличающаяся моральными задатками Лукреции, с жалобным визгом помчалась домой, а за ней мадам, запыхавшаяся и тащившая за ручку Славчика. В ту минуту, когда Олег появился в передней, мадам с жаром повествовала о случившемся Асе и Клавдии, высунувшей свой любопытный нос; всеми забытый Славчик с раскрасневшимися щеками, еще в шубке и капорчике стоял посередине передней. Ася стала вытаскивать забившуюся под стол пуделицу, повторяя: «Ничего, не горюй, моя любимая! Мы тебя будем любить по-прежнему, а щеняток твоих воспитаем. Не бойся!»
– Oh, mon Dieu! – восклицала француженка, – Viola, donc, un etourdi! [103] – а сама смеялась, в тайне восхищенная смелостью и ловкостью этого etourdi.
– Ну, щенки эти по всей вероятности будут таковы, что пристроить их не будет возможности: пудель и боксер не пара – топить придется! – ввернул Олег.
Ася мгновенно выпрямилась, как струнка, и Олег увидел знакомый взгляд разгневанной Дианы.
– Что?! Топить детей моей Лады?! Топить живые пушистые комочки, которые дрожат и плачут? Замолчи, или я тебя возненавижу!
Олег сдвинул свои густые брови.
– Я уже не в первый раз от тебя это слышу; признаюсь, не люблю повторений! Сентиментальным я делаться не намерен тебе в угоду.
Она взглянула на него долгим пристальным взглядом и сказала уже гораздо мягче, но очень серьезно:
– Я хочу, чтобы ты понял: когда мне кого-нибудь жаль, мен точно острием задевают. Недавно у меня заболел в первый раз зуб и, знаешь, боль обнаженного в зубе нерва напомнила мне чувств жалости – та же мучительная острота.
Черные грустные глаза собаки бросили на нее понимающий и ласковый взгляд из под стола: пудель ее безусловно понял.
Олег заявил, что намерен в этот приезд серьезно поработать напильником и сверлом, чтобы произвести намеченную операцию над «леди» – так назывался манекен, торчавший в углу диванной. Олегу пришла блестящая мысль выпилить в этой «леди» дупло и начинить ее тем компрометирующим материалом, который становилось все опаснее и опаснее держать дома. Это были кресты и ордена, визитные карточки и пригласительные билеты к «его» или «ее» превосходительству, а также метрики и фотографии, на которых перемешивались Преображенские, Семеновские и кавалергардские имена и мундиры. Наталья Павловна, несмотря на все уговоры, не желала предать все это огню. «После моей смерти вы можете сжечь все, и пусть это будет тризна по вашей бабушке, но пока я жива – я не разрешаю. Гепеу все равно отлично известно, кто я», – говорила она.
У Аси была своя «опасная» драгоценность: подаренная ей Ниной, уцелевшая в альбомах фотокарточка Олега мальчиком в форме пажа; на карточке этой имелась надпись: «Олег в день поступления в Пажеский корпус». Ася очень любила эту фотографию и держала ее некоторое время в своей комнате на камине, пока Олег не убедил ее, что это слишком рискованно, так как они никогда не могут быть застрахованы от вторжения гепеу. С полгода затем карточка эта пролежала засунутой за картину, и, наконец, было решено передать ее вместе с другими реликвиями на сохранение «леди». Конспирация была настолько оригинальна, что догадка, казалось, могла возникнуть, только если бы агентам гепеу пришла неожиданная фантазия перевернуть несчастную «леди» вниз головой и увидеть при этом следы хирургического вмешательства, а это было маловероятно.
Сразу после завтрака Олег заперся в диванной, вооружившись инструментами, рядом на ломберном столе уже был нагроможден весь тот багаж, который должен был заполнить внутренность манекена, кое-что было добавлено Ниной, посвященной в замыслы Олега.
В этот день, когда все общество собралось к обеду, Наталья Павловна сказала:
– Сообщу вам приятную новость, я ее приберегла к тому моменту, когда мы соберемся все вместе: Леля выходит замуж и сегодня вечером будет у нас со своим женихом.
Мадам рассыпалась радостными восклицаниями, Ася лукаво улыбнулась, говоря: «Я это знаю!»; Олег задал несколько конкретных вопросов. Однако Наталья Павловна никаких подробностей касательно личности жениха сообщить не могла: Леля забегала только на минуту, сияющая, попросила разрешения явиться и так же быстро убежала. Строго говоря, Наталья Павловна уже имела основания относиться с предубеждением к Лелиному жениху: за несколько дней перед тем Зинаида Глебовна со слезами говорила ей, что Стригунчик явно благоволит к новому поклоннику и дело клонится к браку, а между тем юноша из партийной среды и воспитан очень поверхностно. Но поскольку сведения эти сообщены были под секретом, Наталья Павловна никогда не позволила бы себе пролить на них свет. В течение всего обеда разговор вертелся вокруг замечательного события. Уходя работать в диванную, Олег сказал:
– Я, разумеется, предпочел бы увидеть в этой роли Валентина. Помни, Ася, будь осторожна в разговорах, а сюда входить не приглашай.
Молодая пара явилась в девять часов, сопровождаемая Зинаидой Глебовной. Леля в своем единственном более или менее нарядном платье и новых туфлях показалась всем очень хорошенькой и оживленной, с порозовевшими щечками. Геня, подвергнутый предварительной обработке со стороны Лели, снизошел до того, что, здороваясь, поцеловал руку Наталье Павловне. Таким образом, первые минуты прошли вполне благополучно.
– Поздравляю тебя, крошка! Рада твоему счастью! – говорила Наталья Павловна со своей неподражаемой величавой осанкой grande dame, целуя Лелю в лоб. – Садитесь, рассказывайте, когда свадьба?
Желая благополучно миновать вопрос о церковном венчании, Леля поспешила прощебетать, что дата еще не установлена.