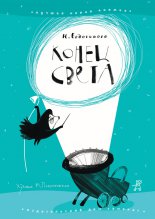Лебединая песнь Головкина Ирина
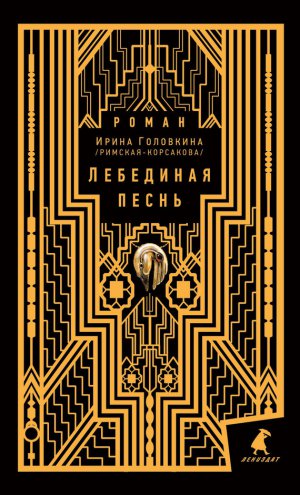
Мика свистнул.
– Вот так история! Нина права, когда говорит вам, что вы себя выдаете с головой манерой вести разговор – все эти ваши «так точно», «здравия желаю», «я вам уже докладывал» – все это слишком офицерское. На вас достаточно взглянуть, чтобы понять, что вы за птица. Уж если Вячеслав вас раскусил, то опытный гепеушник вас разом накроет и все начнется сначала. Вы должны следить за собой.
– Ты прав, мой мальчик. Но это не так-то просто. Привычка – вторая натура. Да, неприятно было бы, – прибавил он – начнут копаться в прошлом… выплывет все: Белая армия, отец, брат… Неприятно.
– Это не неприятно – это прескверно было бы! – горячился Мика.
– Пока, однако, ничего еще нет и преждевременно волноваться не следует. Не говори ни о чем Нине.
– Да, да, – подхватил Мика. – Кто знает? Очень возможно, что он и не выдаст вас. Он вообще не болтлив и если не обозлится за что-нибудь, то, наверное, будет молчать. Смотрите, не ссорьтесь с ним.
– Я не думаю, чтобы он способен был выдать из злобы. Скорее из превратно понятого чувства долга. Ведь им там, на партийных собраниях, каждый день вбивают в головы, что шпионить и доносить – первый долг каждого. Вот чего я опасаюсь. Поживем-увидим! – и он принялся за сосиски.
– Вы так спокойны?
– Дорогой мой, я привык ко всему. Теперь меня, право, ничем не запугаешь, не потому, чтобы я был неустрашим, а потому что жизнь опостылила.
Теперь Мика ерошил волосы:
– Да, вам здорово досталось, что и говорить! Наша матушка Россия стала для нас теперь мачехой. А все-таки, чувство к Родине, как бы теперь над ним не издевались, в нас не искоренить. Знаете, я всегда после всех молитв кладу земной поклон за Россию.
– Мне дорого это в тебе, Мика! Я убежден – будь ты постарше в те годы, и ты был бы в наших рядах. Я сделал бы из тебя храброго офицера.
– Да? Вы думаете? – лицо мальчика просияло, но вслед за этим он нахмурился. – Зачем вы так говорите! Вы искушаете меня. Ведь вы же отлично знаете, что от таких слов лопается на мне монашеская шкура, и из-под нее выходит совсем другой человек, весь во власти ваших военных предрассудков. Олег Андреевич, вы, право, посланы в нашу семью только затем, чтобы искушать меня. Стоит вам только заговорить и начать рассказывать о войне – что-то словно схватит мою душу и заноет она и больно, и сладко.
И он с чувством продекламировал:
Как весело свою провел ты младость:
Ты видел двор и роскошь Иоанна.
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
А я по келиям скитаюсь, бедный инок…
У Олега заблестели глаза:
– Гениально выразил Пушкин в этих словах мятежную молодую душу, – воскликнул он, – но завидовать мне все-таки не в чем, Мика. Ты знаешь в общих чертах, что мне пришлось пережить, не желай того же для себя. Могу тебя уверить, что это кажется интересным только издали. Я на обломках всего мне дорогого. Будем надеяться, что твоя жизнь сложится лучше.
– Но ваша была полна событиями, вы боролись за Россию, вы видели Двор, видели революцию, видели императора и войну… А мне мою молодость нечем будет помянуть.
– Боролся за Россию – да. А ты помнишь, чем это кончилось? С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали и убивали, нас клеймили предателями, и те, кто шли за нами в бой и видели, как мы умирали, дали себя распропагандировать и поверили, что мы враги и предатели своего народа. Это – за окопы, за битвы, за раны! Так нас отблагодарили! А теперь те из нас, которые каким-то чудом избежали расстрела, томятся в лагерях… За что? Воспоминания, говоришь ты! А я хотел бы их вырезать ножом из сердца, да не могу, они преследуют меня днем и ночью, с ними невозможно жить!
Мика, не смея пошевелиться, следил глазами, как он шагал по комнате, словно тигр, запертый в клетке.
– Ну, довольно об этом. Ты уроки уже приготовил? – подавляя волнение, спросил Олег.
– Да, – проговорил Мика, ни разу еще не видев Олега в таком возбуждении и не зная, что сказать.
– Давай, проверю задачи.
Они сели к столу, но по тому движению, каким Олег оперся виском на руку, и по выражению его остановившихся глаз Мика понял, что мысли его еще были далеко.
Верь: несчастней моих молодых поколений
Нет в обширной стране.
А. Блок
«Declasse [25]» - говорил себе Олег, – раньше я не вполне понимал значение этого слова, теперь только понимаю: выбит из жизни, выбит из привычной среды… все идет мимо». В последние дни он начал замечать, что тоска стала забирать его глубже, чем раньше. В лагере, где он был измучен непривычным физическим трудом и всегда полуголодный, где каждый его жест был под контролем грубых людей, – самообладание ни разу не изменило ему; нервная энергия поддерживала его истощавшиеся с каждым днем силы. Эту энергию вырабатывал, быть может, инстинкт самосохранения, но, так или иначе, он жил в непрерывном нервном подъеме, стараясь не заглядывать внутрь своей души, чтобы не предаться отчаянию. Теперь же, когда обстоятельства его жизни изменились так или иначе к лучшему, когда он получил минимум комфорта и отдыха и возможность располагать двумя-тремя часами свободного времени, тоска его, задавленная усилиями воли, проснулась и заговорила, словно на волю вырвалась. И вместе с ней он ощущал невероятное утомление, бессонницу и потерю сил. Он не хотел обращаться к врачу, понимая, что это была естественная реакция после чрезмерного напряжения всех сил организма, а между тем состояние это было мучительно. Приходя со службы, он бросался на диван с ощущением странной разбитости во всем теле – каждое движение стоило ему усилий, и не было желания приняться за что-нибудь: встать, заговорить, пойти куда-нибудь, да и куда бы он мог пойти? Друзей и знакомых у него теперь не было; общественные места – кинотеатры, рестораны, красные уголки – были приспособлены к вкусам и требованиям новой среды, с которой у него не было ничего общего, и которая была чужда ему и противна. Притом он чувствовал себя еще слишком истерзанным душевно для развлечений и не мог разбудить в себе интерес к кинофильму или опере, которую любил раньше. Часто, очень часто бродил он по городу и как будто не узнавал его. Улицы были насквозь чужие! Дома, силуэты, лица – все изменилось. Ни одной изящной женщины, ни одного нарядно одетого ребенка в сопровождении няньки или гувернантки. Исчезли даже породистые собаки на цепочках. Серая, озабоченная, быстро снующая толпа! Ни парадных ландо, ни рысаков с медвежьей полостью, ни белых авто, ни также извозчиков, – гремят одни грузовики и трамваи. В военных нет ни лоска, ни выправки – все в одних и тех же помятых рыжих шинелях, все с мордами лавочников, и ни один не поднесет к фуражке руку, не встанет во фрунт, не отщелкает шаг. Хорошо, что они не называют себя офицерами – один их вид слишком бы опорочил это звание! Вот Аничков дворец без караула. Вот полковой собор, но нет памятника Славы из турецких ядер. Вот Троицкая площадь, но где же маленькая старинная часовня? Вот городская ратуша, но часовни нет и здесь. В Пассаже и Гостином дворе зияют пустые окна вместо блестящих витрин… Цветочных магазинов и ресторанов нет вовсе. А вот здесь была церковь в память жертв Цусимы… Боже мой! Да ведь все стены этого храма были облицованы плитами с именами погибших моряков, висели их кресты и ордена… Разрушить самую память о такой битве – какое преступление перед Родиной! Еще одна обида.
Душа города – та, что невидимо реет над улицами и лежит, как печать на зданиях и лицах, – она уже не та. Этот город воспевали и Пушкин и Блок – ни одна из их строчек неприложима к этому пролетарскому муравейнику. И как не вяжется с этим муравейником великолепие зданий, от которых веет великим прошлым и которые так печально молчат теперь!
Вот вам особа женского пола из автомобиля высаживается. Язык не поворачивается сказать «дама»: кокотка, и то много чести, шика никакого. О Боже! Да она с портфелем! И шаг деловой – вон, с какой важной миной вошла в учреждение. Бывшая кухарка, наверное, – ведь теперь каждая кухарка умеет управлять государством. А вот еще портфель – наверно, это студент нынешний, второй Вячеслав Коноплянников. А давно ли Белый в своих стихах нарисовал портрет студента: «Я выгляжу немного франтом, перчатка белая в руке…». До чего много этих «пролетариев»! Отчего их так много? Легион! Все это на бред похоже. «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром?» Вот они. Они все здесь, а этот шум – их чугунный топот. Не зря пророчили поэты, но никто не внял им вовремя. Из заветных творений, наверное, не сохранится скоро ничего. И в самом деле, всколыхнется поле на месте тронного зала, а книги уже теперь складывают кострами – завернули же мне это подлое пшено в страницу из Евангелия. Остается появиться белому всаднику или Архангелу с трубой. Может быть, я начинаю сходить с ума? Какое-нибудь последствие ранения?
Несколько раз он заходил в церковь на углу Моховой. Его тянуло туда не потому, чтобы ему хотелось молиться, – со дна опустошенной души не подымалось молитв, но сама обстановка храма, давно знакомая и родная, казалось, одна только не изменилась за эти страшные десять лет. Она напоминала ему детство, переносила в прошлое, смягчала и успокаивала тревожные думы.
В один из своих «выходных» дней он стоял утром в храме, погруженный в печальные думы, и вдруг заметил, что в боковом пределе идет исповедь: как раз в эту же минуту церковный хор грянул «Дева днесь». Тут только он вспомнил, что это канун Рождества. Целый рой воспоминаний детства нахлынул на него и затопил теплой волной. И вдруг охватило желание подойти вместе с другими к Причастию, как ходил мальчиком, когда вместе с другими кадетами пел на клиросе и выносил свечи из алтаря. «Быть может, это, как не что другое вернет мне душевные силы, а то я словно вывихнутый», – подумал он и уже хотел присоединиться к исповедникам, но… Точно страшное земноводное, зашевелившееся на дне прозрачного ручья, зашевелилось на дне его души мучительное воспоминание, побледневшее с годами, но не изгладившееся. Воспоминание о жестокости, проявленной им однажды… Это было в разгар гражданской войны. Отряд, которым командовал Олег, проходил по только что занятой территории, ликвидируя отдельные очаги сопротивления. Они поравнялись со старым поместьем, и Олег увидел березовую аллею и две белые колонны у ворот – все, что так ему напоминало отчее гнездо. Внезапно две старые женщины – по виду служанки – с криком выбежали из ворот и, признав в нем начальника, бросились к нему. Ломая руки и причитая, они нескладно рассказывали, что, толпа пьяных красных, безобразничавших в поместье, изнасиловали нескольких горничных, а сейчас поволокли за руки барышню… Олег тотчас со своим отрядом ворвался во двор поместья. Отдав приказ оцепить дом, он в сопровождении нескольких солдат вбежал в комнаты. Неизменно вздрагивая от отвращения, вспоминал Олег ту разнузданную картину грабежа, насилья и пьянства, которую он застал в господских комнатах, и тех темных личностей с красными, пьяными физиономиями, с которыми ему пришлось сцепиться. Когда потом он вышел из дома на крыльцо и оглядел уже окруженных его солдатами и обезоруженных «красных», он почувствовал, как мутная злоба клубком душит его за горло. Никогда до сих пор он не чувствовал ее ни в одной битве. Вид этого поруганного семейного очага, этого беззастенчивого грабежа и зверского насилия впервые вызвали в нем ту классовую ненависть, о которой до 1918 года он никогда не слышал и не подозревал, которая стала чем-то вроде лозунга у большевиков и как заразная болезнь перебросилась и к белогвардейцам. В тот день ее усугубил дошедший до него накануне слух, что Нина, оставшаяся с новорожденным ребенком в имении отца, была окружена там красными, которые убили ее отца и будто бы изнасиловали ее. Он так, наверное, и не узнал, было ли это в действительности, но одна мысль, что так могли поступить с женой его брата, которая кормила новорожденного сына, приводила его в бешенство. Быть может, она так же билась и ломала руки, как эта незнакомая девушка… и ненависть его разрасталась до чудовищных размеров. «Вот он – восставший пролетариат в полной красе! Пьяная банда!» – с омерзением говорил он себе.
В полку с ним был капитан – чех, который имел репутацию жестокого, так как отправлял поголовно на расстрел пленных комиссаров. Он плохо говорил по-русски, и, отдавая этот приказ, обычно очень лаконично выговаривал «за полятно» (то есть приказывал отвести пленных за полотно железной дороги, где в течение последних нескольких дней производились расстрелы). Это «за полятно» вызывало осуждение со стороны более гуманно настроенной части офицерства, в том числе и со стороны Олега. Однако в этот раз, стоя на крыльце перед толпой задержанных им людей, он не чувствовал и следа жалости и сказал негромко, но повелительно, подражая чеху: «За полятно». Это слово как будто стало уже условным шифром и было понятно солдатам, хотя в этом месте никакого железнодорожного полотна не было.
Через полчаса, выезжая из имения, Олег еще раз увидел осужденных им людей, их вели через аллею для выполнения приказа. Они, по-видимому, уже знали, зачем их ведут, их лица больше не были ни красными, ни безобразными, а только злобными и угрюмыми; они уже протрезвели. Особенно запомнилось Олегу одно лицо, лицо юноши его лет – еще безусый паренек, смертельно бледный с расширенными, полными ужаса глазами. Большинство смотрели в землю, один показал кулак Олегу, но этот мальчик приковался к нему глазами – как-будто надеялся, что Олег еще возьмет назад свое приказание. Вспоминая лицо этого юноши, он не мог не чувствовать, что был жесток. Быть может, этого мальчика напоили, и он сам не понимал что делает; быть может, он не участвовал в насилии, а только вертелся около товарищей; быть может, удерживал их… Олег не захотел разобраться ни в чем. О, это «за полятно»! Рассказывать это священнику было бы слишком тяжело и больно. И была еще одна причина: он не верил теперь священникам. Он знал, как их расстреливали сотнями. Один из его товарищей сам видел, как расстреляли разом 140 священников, и невольно возникала мысль, что погибли самые идейные, лучшие, а те, которые остались – среди них добрая половина провокаторов. Рассказывать такую вещь могло означать осудить себя на смерть, не только на смерть. «Они могли затеять гнусный "показательный" процесс, выставляя перед всеми жестокость белого офицера, – думал Олег, – они не дадут труда вникнуть в мои чувства, в то, как гибель моей семьи озлобила меня, не захотят узнать, как я любил солдат раньше, как еще мальчиком любил денщиков отца и брата и потом своего денщика. Я не побоялся бы даже теперь встретиться ни с одним из солдат моего взвода; да ведь эти же солдаты и спасли меня, когда я лежал в бреду. Но "они" ничего не захотят узнать, они будут только кричать о том, что я расстрелял девять человек, что я "белогвардейское охвостье" и "подлое офицерье"», – говорил он, приводя себе на память любимые выражения советской печати, пересыпавшие тексты даже такого официального органа как «Ленинградская правда».
Он издали видел, как вынесли Святые Дары, и слышал чудную молитву, которую помнил с детства наизусть, она кончалась словами: «…не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзанья Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
«Господи, я был честным боевым офицером, а вот теперь не смею приблизиться, как разбойник. И нет мне утешения даже здесь».
Дома он застал Нину одну; они редко разговаривали задушевно, каждый замкнувшись в своем горе. Но в этот раз он сказал:
– Говорят, что советский служащий имеет право на отпуск после того, как проработает сколько-то месяцев. Если против ожидания я продержусь этот срок и получу отпуск, поеду туда, где был наш майорат и попробую найти могилу мамы.
Нина с удивлением взглянула на него:
– Что вы, Олег! Вам не следует показываться там, да еще с расспросами что и как. Ведь вас признают.
– Крестьяне не выдадут меня. А где могила вашего отца?
– В Черемухах, около деревенской церкви. Но я туда не поеду, нет!
– Как это вышло, Нина, что вы оказались в Черемухах, а не с моею матерью?
– Отец увез меня в Черемухи, когда узнал, что Димитрий у белых. Он говорил, что ему спокойней, когда его дети с ним. Кто мог знать, как сложатся события.
– Александра Спиридоновича арестовали там же, в имении?
– Да. Нагрянули чекисты и комиссар, латыш. Требовали, чтобы отец сдал немедленно оружие, уверяли, будто бы он сносится с белыми, которые стояли на ближайшей железнодорожной станции, а этого не было, я-то знаю. Помню: обступили Мику и стали допытываться, не зарывали ли чего-нибудь отец и сестра. А Мике было всего четыре! Слышим, он отвечает: «Зарывали!» А они ему: «Веди!» Вот он и повел их, а мы с отцом, стоя под караулом, со страхом следили через стеклянную балконную дверь: мы боялись, что он приведет их к месту, где у отца были зарыты сабля и наган. Но оказалось, что он вывел их к могиле щенка под кленами. Никогда у меня не изгладятся из памяти эти минуты… Отец… Его крупная фигура, закинутые назад седеющие кудри и та величавая осанка, с которой он объяснялся с чекистами. Он отказался выдать им ключи от винного погреба… Уж лучше было бы не препятствовать…
– Ваш батюшка, очевидно, опасался, чтобы они не перепились и не начали бесчинствовать, – сказал Олег, и в глазах его она увидела страх – страх за нее, как переживет она тяжесть воспоминания… Она вдруг закрыла лицо руками…
– Так вы, значит, знаете? – вырвалось у нее.
– Я? Нет… ничего не знаю… – но растерянность в интонации выдала его.
Прошла минута, прежде чем она опять заговорила:
– Кучер и садовник отбили меня – все-таки успели спасти, но отец уже был мертв… Из-за них… Из-за этой пьяной банды я потеряла и отца, и ребенка. Тогда… от этого ужаса… от страха… у меня разом пропало молоко.
Он обратил внимание, какой трогательной нежностью зазвенел ее голос при слове «молоко».
– Кормилицы под рукой не было… пришлось дать прикорм, а ему было только три месяца… И вот – дизентерия, – и она уронила голову на руки, протянутые на столе.
Он подошел и поцеловал одну из этих беспомощно уроненных, бессильных рук.
– Вы вот сейчас, наверное, думаете, – проговорила она, поднимая лицо, – «она не оказалась русской Лукрецией и все-таки осталась жить…»
Олег схватился за голову:
– Что вы, Нина! Я не думаю этого! Нет! Ведь тогда еще был жив ваш ребенок – имея малютку, разве смеет мать даже помыслить… и потом вас успели спасти. А вот что мне прикажете думать о самом себе – меня, князя Рюриковича, Георгиевского кавалера, офицера, выдержавшего всю немецкую войну, меня хамы гнали прикладами и ругали при этом словами, которые я не могу повторить. Нина, я помню один переход. Я отставал, у меня тогда рана в боку не заживала – она закрывалась и снова открывалась… конвойный, шедший за мной, торопил меня… потом поднял винтовку: «Ну, бегом, падаль белогвардейская, не то пристрелю, как собаку!» И я прибавлял шаг из последних сил…
Теперь она посмотрела на него с выражением, с которым он перед этим смотрел на нее.
– Не будем говорить, – прошептала она, утирая слезы.
– Не будем.
И каждый снова замкнулся в себе.
В следующий свой выходной день Олег с утра вышел из дома. Накануне он получил «зарплату» и в первый раз мог располагать ею по своему усмотрению, покончив с уплатой долгов Марине и Нине. Пока долги не были сполна уплачены, он тратил на себя ровно столько, чтобы окончательно не ослабеть от голода. В это утро, сознавая себя впервые свободным от долгов, он решил, следуя советам Нины, пройти на «барахолку» и поискать себе что-нибудь из теплых вещей, так как до сих пор разгуливал по морозу в одной только старой офицерской шинели с отпоротыми погонами; в этой шинели он проходил все шесть лет в лагере и выпущен был в ней же. Январский день был морозный, яркий, солнечный, в нем была жизнерадостность русской зимы, которая какой-то болью отзывалась в сердце Олега. Войдя на «барахолку», он тотчас попал в движущуюся, крикливую, беспорядочно снующую толпу. Выискивая фигуру с ватником или пальто, он ходил среди толпы, когда вдруг до слуха его долетел окрик:
– Ваше благородие, господин поручик!
Совершенно невольно он обернулся и увидел в нескольких шагах от себя безногого нищего, сидевшего на земле около стены дома. В нем легко было признать бывшего солдата, и даже лицо его было как будто знакомо Олегу; впрочем, он так много видел подобных лиц – и это было такое типичное солдатское лицо. Нищий смотрел прямо на него, и не было сомнения, что этот возглас относился к нему. Олег подошел.
– Из какого полка? – спросил он. И в ту же минуту подумал, что безопаснее было бы вовсе не подходить и не откликаться на компрометирующий оклик. Если бы говоривший не был калека, он так бы и сделал.
– Лейб-гвардии Кавалергардского, Ефим Дроздов, из команды эскадронных разведчиков! А вы – господин поручик Дашков? Я с вами на рекогносцировки хаживал.
– Тише, тс… смеешься ты надо мной, что ли?
– Никак нет, ваше благородие. Оченно даже рад встрече. Поверите, даже дух захватило, как вас увидел. А я ведь вас в усопших поминал, недавно еще записочку подавал за вас и вашего братца. Замертво ведь вас тогда уносили в госпиталь.
– Да, я тогда долго лежал, ранение было тяжелое, но с тобой, я вижу, обошлись еще хуже, бедняга, – и Олег наклонился, чтобы положить ему в шляпу десятирублевую бумажку.
– Очень благодарен, ваше благородие. Пусть Бог вас вознаградит за вашу доброту! А меня ведь в тот же день, что вас, немногим позже хватило; думал, помру, а вот до сих пор маюсь. Теперь бы уж я и рад, да смерть про меня забыла.
– Чем же ты живешь, мой бедный?
– Да промышляю понемногу – то милостынькой, то гаданьем; книга тут мне одна вещая досталась от знакомого старичка; по ей судьбу прочитать можно. Сяду, раскрою – подойдут, погадаю, заплатят. Не погадать ли и вам, ваше благородие?
– Нет, благодарю, я свою судьбу и сам знаю, – и он усмехнулся с горечью.
– А то перепродам что, – продолжал солдат, – вот и сейчас товарник хороший есть, как раз бы для вас.
– Что именно?
– Да товар такой, что на людях не покажешь, за него пять лет лагеря по теперешним порядкам. Я уже много раз приносил его с собой на рынок, да боязно и предлагать. Не знаешь, на кого нападешь, на лбу у человека не написано. Уж очень теперь много шпиков развелось, ваше благородие.
– Оружие?
– Револьверчик, хороший, новенький, – не желаете ли? Сосватаю.
Словно от капли шампанского теплота разлилась по жилам Олега – как давно уже он не держал оружия, а ведь он с детства привык считать его символом благородства, власти и доблести. Первое время, после того как он лишен был права носить оружие, ему казалось, что у него отняли часть его тела, и вот теперь предоставлялась такая редкая возможность!
– Пять лет лагеря – совершенно верно! А за сколько продашь?
– Да сколько дадите, ваше благородие. Цены на его я не знаю, никогда до сих пор не продавал. И теперь не слукавлю – хочу сбыть с рук, больно опасно держать. Ну, так чего я буду запрашивать? Может, он вам и беду принесет. Сколько не пожалеете, столько и дайте.
Олег вынул портмоне.
– У меня при себе девяносто, довольно тебе?
– Премного благодарен, ваше благородие.
– Бери, только помни, ты не проговоришься никому, что ты меня видел и что я здесь. И о револьвере тоже. Слышишь? Полагаюсь на твою солдатскую честь.
– Так точно, ваше благородие, – и солдат протянул ему что-то обернутое в тряпку.
– Я не могу здесь развернуть его. Он заряжен? В порядке он?
– Да уж будьте благонадежны. Заряжен.
– Прощай, – Олег протянул было ему руку, но солдат быстро поднес свою к истрепанной кепке, похожей на блин. И Олег невольно ответил ему тем же жестом, который в нем был настолько изящен, что разом изобличил бы его гвардейское прошлое опытному глазу. После этого он, не оглядываясь, быстрыми шагами ушел с рынка, говоря себе, что осторожность требует удалиться как можно скорее от места неожиданной встречи и замести следы. Чтобы проверить, не следят ли за ним, он свернул в проходной двор и,только убедившись, что никто его не сопровождает, направился к дому. «Теперь, – думал он, – я уже не попаду живым в их руки!»
Письменного стола у Олега не было, и он невольно задумался, где будет держать револьвер, не имея своего угла. Только днем, когда Мика ушел, он заперся в комнате, чтобы осмотреть револьвер, и, убедившись в его полной исправности, перезарядил вновь. Целый рой воспоминаний детских и юношеских возник в нем, пока он возился с револьвером. Он задумался, держа его в руке. Нерешительный стук в дверь прервал его мысли. Сунув поспешно револьвер подушку дивана, на которой он спал, Олег подошел, чтобы отворить дверь, и увидел на пороге незнакомую девушку в пальто и меховой тапочке, всю засыпанную снегом, свежее личико было розово от мороза, во взгляде ее он заметил нерешительность.
– Чем могу служить? – спросил он, беря руки по швам. Ему одного взгляда на эту девушку было достаточно, чтобы определить, чтоона принадлежала к несчастному разряду «бывших», и это тотчас вызвало всю его изысканную вежливость.
– Простите, я не туда попала… Я искала Нину Александровну Дашкову.
Его собственная фамилия, произнесенная при нем, болезненно резанула его слух.
– Нина Александровна дома. Сию минуту я провожу вас к ней. Если желаете снять пальто, пожалуйста, здесь, – сказал он, выходя к ней в коридор, а сам еще раз мельком взглянул на нее, потому что она показалась ему замечательно хорошенькой. В полутемном коридоре на него серьезно взглянули большие глаза из-под длинных ресниц, на концах которых повисли снежинки.
«Знакомая Нины, интересно, кто она?» – подумал он и постучал в дверь Нины.
– Ася, вот неожиданность! Войдите, милая, – воскликнула Нина, появляясь на пороге.
«Ася! Что за милое имя! В нем что-то тургеневское!» – подумал Олег. Ему захотелось войти к Нине, чтобы взглянуть еще на заинтересовавшую его девушку и проверить впечатление. Он вернулся, было, в свою комнату, к безотрадным думам, но не высидел и четверти часа. Придумав какой-то предлог, он направился к Нине. «Там сидит Марина Сергеевна, она любит болтать со мной и, наверно, удержит в комнате», – думал он.
Случилось, как он ожидал: его представили Асе, и через несколько минут он уже участвовал в общем разговоре, незаметно оглядывая Асю: «Благородная посадка головы… Шейка длинная и горделивая, как стебель у лилии… глаза, как лучи, мерцают из-под ресниц, а на висках голубые жилы… Коса – это стильно! Мне так приелись уже стриженные женские головы и бритые затылки! Тонкие запястья и тонкие щиколотки – это тоже очень важно! Но за всем этим остается еще какое-то очарование!» И перевел глаза на Нину и Марину, чтобы уяснить, в чем оно заключается. Их лица тотчас показались ему изношенными и банальными – лица поживших уже женщин – рядом с этим лицом, свежим как весенний цветок. У обеих дам были по-парикмахерски уложены волосы, слегка подбриты брови и накрашены губки, а в этом полудетском лице не было ничего неестественного, как печать лежало на нем незнание своих чар, своей привлекательности. Ненакрашенные губы казались немного бледными, незавитые волосы скромно отведены за ушки и открывали прозрачный лоб, особая чистота линий сквозила в рисунке этого лба, губ и носа, только ресницы бросали выразительную тень. Платье спускалось ниже колен, хотя мода разрешала открывать их: Олегу показалось, что даже сидела она особенно изящно и скромно и что ее, с ее лицом, нельзя даже вообразить себе в развязной позе или с папиросой. В ней было что-то специфическое от девушки из дворянской семьи лучшего тона. Даже в ее разговоре, который пересыпали слова «если бабушка позволит», «бабушка сказала», было что-то юное, невинное, полудетское…
«Она – Бологовская, очевидно, племянница того Бологовского – aman Нины, стало быть, безусловно нашего круга… Но ведь теперь даже в лучших семьях упадок и распущенность. Десять лет назад я бы не удивился, встретив такую девушку, но теперь… откуда могла взяться теперь такая!» И он стал прислушиваться к разговору.
– Бабушка всегда очень мужественна, – говорила Ася, – она никогда не жалуется и не плачет, но я знаю, как ей тяжело: дядя Сережа один остался из троих детей.
– У вас нет отца? – очень мягко спросил Олег.
– Папа расстрелян красными в Крыму. Папа был полковник, – ответила Ася (она, по-видимому, считала, что с человеком, которого представила Нина, можно быть откровенной).
– А вы помните отца, Ася? – спросила Нина.
– Помню, мне было уже десять лет, когда папа погиб, – ответила та.
– Как же вам объяснили его исчезновение? – спросила Марина. – Десятилетняя девочка еще дитя: не могли же вам сказать правду?
Ася, припоминая, нахмурила лоб, на который ни горести, ни заботы не наложили еще следа:
– Не помню… тогда столько было перемен… сказали, что убит. Я уже могла понять это и знала, что не увижу ни его, ни маму.
– Как? У вас матери тоже нет?
– Нет, мама умерла от сыпняка во время гражданской войны. Тогда же умер и мой брат Вася, а я была с ним очень дружна, -в голосе ее зазвенела печальная нота.
Наступила минутная пауза. «Как тогда, когда говорили про мою маму», – подумал Олег, и ему показалось, что этот траурный фон еще больше оттеняет белоснежность девушки и придает что-то трогательное ее образу. «Лилия на гробнице!» – подумал он, а между тем лицо Аси засветилось счастливой улыбкой:
– Воробушки! – воскликнула она, и в голосе ее зазвучало столько неподдельного оживления, что Олег и Нина с невольной улыбкой взглянули сначала на нее, а потом на окно, где воробьи суетились на карнизе за стеклом.
– Молодой душе никакое горе не помешает радоваться жизни, – сказала Нина, любуясь девушкой.
Ася слегка покраснела.
– Я себя упрекаю за это, засмеюсь, а потом стыдно становится.
– Напрасно, – сказал Олег. – В том, что юная душа не потеряла жизнерадостность при первом же испытании, нет ничего дурного. Я уверен, что ваш дядя только бы порадовался, услышав ваш смех.
Ася подняла на Олега глаза и в течение секунды не отводила их. «Ты думаешь? Я тебе верю. Я верю, что ты желаешь мне добра. Я всем верю», – сказал этот взгляд.
– Вся олицетворение весны, не зря Сергей Петрович вас называл весною, – сказала Нина, с присущей ей светскостью.
– Дядя не называл меня весной, а только весенней почкой, -невинно возразила девушка. – Это потому что, однажды в апреле мы гуляли вокруг Арсенала в Царском Селе, а там кусты ольхи стояли все в розовых почках, готовые распуститься, такие настороженные; я целовала их, а дядя Сережа смеялся, уверяя, что я на них похожа.
«Весна! – подумал Олег. – Даже странно думать, что она существует и продолжает радовать кого-то». И на одну минуту он вообразил себе лес в имении отца, себя юношей и своего понтера Рекса, с которым ходил на охоту. Как хороша бывала весна в березовых перелесках, и как радовал его тогда талый снег, первые фиалки, пробивающаяся трава… Куда девалось все это?
– Я тоже люблю Царское Село и особенно Знаменскую церковь, – сказала Марина и покосилась на Олега своими черными глазами, но не встретила его ответного взгляда, потому что он смотрел на Асю, и это ей показалось обидно.
– Знаменская церковь особенная, – подхватила Ася. – Мы всегда туда заходим из парка, я приношу ветки и листья и ставлю свечки.
– Сергей Петрович говорил мне, Ася, что вы неисправимая патриотка и постоянно бегаете ставить свечи за спасение России, – сказала Нина.
Щеки Аси вспыхнули ярким румянцем, как будто ее уличили в чем-то постыдном.
– Ну, зачем дядя Сережа говорил так! Вот он всегда дразнит меня. Нельзя рассказывать о таких вещах!
Марина взглянула на Олега, и ей показалось, что светлые мягкие лучи пошли из его глаз, опять повернувшихся на девушку. А у той от смущения даже слезы выступили на глаза.
– Я не хотела смущать вас, Ася, – сказала Нины, – мы не смеялись над этим, напротив: и мне, и Сергею Петровичу это показалось очень трогательно и мило.
– Дядя Сережа очень любит шутить, а я не люблю шуток. У меня душа живет где-то очень близко, совсем снаружи, и до нее доходит все, о чем говорят, даже шутя, и от этого бывает очень больно.
– Ах вы, девочка моя милая! Душа живет снаружи… какой, в самом деле, тяжелый случай! – сказала Нина, привлекая к себе Асю и целуя ее. Олег улыбнулся.
«Это я в первый раз вижу его улыбку!» – сказала себе Марина.
– Вот что, Ася, – сказала Нина, – я столько слышала от Сергея Петровича о вашей музыкальности, что я не выпущу вас, пока вы нам что-нибудь не сыграете!
«Неужели она играет? Как пойдет к ней музыкальность», – подумал Олег. Она не стала ломаться и послушно пошла вслед за другими к роялю в соседнюю комнату. Он проследил за ней глазами – ему захотелось увидеть ее фигуру. «Тоненькая, как козочка… Вся очаровательная, вся милая, вся!»
Первый звук рояля был нежный и чистый, как голос души, которая залетела в комнату из лучших сфер. Олегу показалось, что этот звук касается обнаженных нервов его сердца. Он встал со стула и пересел в темный угол комнаты на диван; Марина, сама не зная почему, отметила этот жест. «Warum? – это кажется, Шумана…Warum? Зачем?» Она уже кончила «Warum» и после минутной паузы начала отрывок из Крейслерианы, а потом Арабески, но для Олега все эти звуки сплетались по-прежнему в грустно повторяющийся вопрос: «Warum?»
«Зачем? О, зачем все так сложилось? Моя жизнь, словно под колесо попала. Боже мой, что "они" из нее сделали!»
Как будто музыка отворила давно закрытый наглухо самый потайной уголок его души, тот, в котором еще оказались живы и закружились вереницей, как феи в руинах, мечты о счастье. Ведь и он мог бы быть счастлив и любить девушку с таким лицом, как эта, любить той возвышенной и чистой любовью, о которой он мечтал когда-то в юности под обаянием любимых поэтов. Эта затаенная мечта, не связанная тогда еще ни с чьим образом, неясная, но уже смутно предчувствуемая, ожидаемая, реяла над ним, пока кровавый туман не застлал собой всю его жизнь. О, зачем, зачем все это так сложилось!
Он слушал и не сводил глаз с чистого профиля Аси. Несколько раз он пробовал отвести глаза, но они тотчас снова поворачивались на нее, как будто притягиваемые магнитом. И он не замечал, что Марина в свою очередь не спускала с него взгляда, в котором он мог бы прочесть многое, если б хотел. Когда Ася кончила на каком-то обрывистом прекрасном аккорде и встала, его охватило отчаяние, что сейчас она уйдет, и он снова останется в той же холодной пустоте, из которой не было выхода.
Ася подошла к Нине и подставила ей для поцелуя свой лоб. Он слышал, как Нина говорила:
– Тот же лиризм, что у Сергея и редкое туше.
Когда он подавал ей пальто и надевал ботики, он чувствовал, что руки его почему-то дрожали, и не мог совладать с непонятным ему самому волнением. Уже у самой двери Ася повернулась к Нине и, внезапно краснея, сказала:
– Бабушка просила вам передать, чтобы вы непременно навестили ее и что горе легче переносить вместе.
По-видимому, она только теперь собралась с духом сказать то, зачем ее прислали.
– Передайте Наталье Павловне, что я приду и что я очень тронута и благодарна за приглашение и за то, что она отпустила вас ко мне, – сказала Нина, целуя Асю, а Олегу осталось только сказать: «Честь имею кланяться», – и закрыть за ней дверь. И ему тотчас показалось, что в комнате сделалось темнее, как только не стало светлого лба и глаз, похожих на фиалки.
– Не помните ли вы, в каком это романсе Вертинский поет о ресницах, в которых «спит печаль»? – спросил он Нину.
Она ответила с досадой:
– Ох, уж эти мне гвардейские вкусы! Романсы писали такие гении как Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, а вы мне будете припоминать Вертинского! – и ушла к себе с Мариной.
– Ну вот! Я так и знала! – воскликнула эта последняя, как только они оказались вдвоем. – Я так и знала, что он не придет сюда; ему уже не интересно с нами, когда она ушла!
Нина с удивлением взглянула на подругу.
– Да, да – она понравилась ему! Неужели ты не заметила? ненаблюдательна же ты! Он, всегда такой мрачный, сдержанный, был так разговорчив, так оживлен! Его глаза поворачивались за ней, и только из приличия он обращался иногда к тебе и ко мне. А как он смотрел на нее, когда она играла, как подавал ей пальто, как надевал ботики… Павлин, который распускает свой хвост!
– Да, в самом деле… Пожалуй, что-то было…
– Вот видишь! А Вертинский? Эти ресницы… Господи! Неужели еще это досталось на мою долю!
– Марина, будь же благоразумна! Чего ты хватаешься за голову? Ничего серьезного еще нет. И потом… для меня это новость, что ты мечтаешь о взаимности… А муж? Разве ты решишься на все? – она взяла руки подруги.
– Нина, тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты как в восемнадцать. Конечно, если я замечу в нем хоть искру чувства, я… пойду на все! Не говори мне о необходимости сохранять верность моему Моисею. Я не рождена развратницей и могла бы быть верной женой не хуже других, но теперь, когда жизнь так надругалась надо мной, когда я волею судеб оказалась за старым жидом – я не хочу думать ни о долге, ни о грехе. Пропадай все, – она махнула рукой. – Все, за минуту счастья! И вот только что я стала надеяться, только начало возникать что-то задушевное, как вдруг эта Ася! А ты, словно нарочно, еще удерживаешь ее, усаживаешь играть… Обещай мне, клянись на образ, что ты сделаешь все, чтобы он не увидел ее больше, что ты не будешь звать ее и ни в каком случае не представишь его старухе Бологовской. Обещай!
– Успокойся, Марина, все будет, как ты хочешь, он будет твоим, я уверена.
– Полюбит меня, ты думаешь?
– Оттенки чувства его предсказывать не берусь, а покорить его, я думаю, труда не составит… Это верно, что нам с тобой не восемнадцать лет, и мы отлично понимаем, что молодой мужчина после заточения, где его морили без женщин семь лет, вряд ли устоит против искушения… А привязать его потом к себе всегда в твоей власти.
Марина тоскливо заломила руки:
– Господи, это все так поворачивается, точно я какая-то Виолетта, которая соблазняет неиспорченного юношу. Но разве я такая? Нина, скажи, ведь я же не такая?
– Ты не Виолетта, да и он не мальчик, – сказала Нина.
Когда Марина ушла, Нина быстро прошмыгнула к роялю, в знаменитую проходную; эта комната, давно не ремонтированная, с грязными обоями и грязным потолком, холодная и мрачная, эта разнородная, тяжелая мебель из числа той, которая не уместилась к Надежде Спиридоновне, пыльные бархатные портьеры и китайские вазы с сухими желтыми травами, которым, наверное, было лет двадцать, но которые старая тетка запрещала выбрасывать – все это было какое-то затхлое, ветхое, угрюмое. Но не это заставило сжаться сердце Нины: здесь все слишком напоминало Сергея Петровича, с которым она проводила около рояля так много времени по вечерам, когда пела ему вновь разученные романсы и пыталась аккомпанировать, если он брался за скрипку. Сколько здесь было переговорено о деталях исполнения и о музыке вообще! Казалось бы, комната не располагала к вдохновению, но они приучили себя не замечать обстановки. Это он подарил ей маленькую лампочку, которая стоит на рояле, и сам подвел к ней электричество. Часы за роялем были самыми лучшими в ее безотрадном настоящем, теперь и они отняты. Он теперь без музыки – как он по ней тоскует! Наверное, больше, чем по любимой женщине.
Посидев некоторое время за роялем с опущенной головой и руками на коленях, она вздохнула и заставила себя взяться за ноты – нельзя было предаваться унынию! Ее с утра тянул к себе один романс, слышанный ею накануне; весь день он заполнял ее воображение, возвращаясь из Капеллы, – она сделала крюк, чтобы зайти в нотный магазин и купить его, вот он. Она положила руки на клавиши, и пробуя разобрать аккомпанемент, стала напевать. Спела раз, спела еще… Голос звучал все лучше и лучше, но почему-то она никак не могла сосредоточиться и войти в эту вещь. Из-за этого текста и этой музыки упорно поднимались другие звуки и другие слова. Она не могла больше противиться их обаянию, она вскочила и, порывшись на пыльной этажерке, вытащила старые, пожелтевшие листки, поставила на пюпитр, расправила и запела. И даже голос ее задрожал от прорвавшегося откуда-то из глубин чувства, и слезы зазвенели в нем:
Я помню чудное мгновенье -
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!
Она пела и скоро почувствовала, что вся находится под впечатлением девического светлого образа и восторженных мужских глаз. Она стала перебирать в памяти – откуда идет это впечатление, которое так вдохновило ее, и вдруг поняла: да ведь это Ася и Олег, который не сводил с нее глаз… Углы в этой комнате были всегда темные, там водились пауки; бывало даже жутко иногда, когда она оставалась одна, когда портьеры как будто шевелились и темнота выползала из-за них. Кроме того, здесь всегда было холодно, вот и сейчас она вся слегка вздрагивает, но, может быть, это не от холода, а просто от увлечения – это тоже бывает: слишком хороша эта тонкая, нежная романтика слов и музыки… Бедный Олег! Ведь и он мог бы сказать о себе: «В глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои, без Божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви…» Бедный Олег! Он еще молод. Так понятно, что у него сердце загорелось, когда он смотрел на это юное, прелестное создание. Его очарование Асей было гораздо лучше и чище, чем то, чего от него хотела Марина. Там было что-то от Духа, а здесь… Зачем же насильно обламывать его, когда он и так уже покалечен жизнью? Она вспомнила свой разговор с Мариной, и он вдруг показался ей таким пошлым сейчас, когда она была как бы вознесена над привычным уровнем, когда музыка окрылила, утончила ее, когда она почувствовала себя втянутой в красоту этого чувства… «Кажется, я ненадежная союзница», – подумала она.
Олег слушал ее пение из своей комнаты и, чтобы лучше слышать, открыл дверь и стоял, прислонять к косяку. «Как она замечательно исполняет, – думал он, – это все прямо ко мне». И он весь отдался во власть тоскливых ощущений, которые все острее и острее сжимали грудь. «Нет, мне лучше всегда быть занятым, на ненужной и скучной работе, но занятым. В свободное время меня одолевают мысли и воспоминания, а они для меня, как острие ножа», – думал он и даже обрадовался, когда Нина кончила петь и все стали собираться спать. Но ночь не принесла ему успокоения: в темноте и тишине, установившейся в доме, как будто с новой силой пошел на него в наступление его душеный мир. Музыка разбудила все до одной мучительные думы; они росли и роились, как призраки, и над всем поднималась тоска о загубленной жизни. Ему мерещилась Ася: ее образ как будто олицетворял собою все те чистые земные радости, которых он был лишен. Он видел ее перед собой как живую: видел ее лицо, глаза, волосы, ее плечики, откинутые несколько назад, ее тонкую фигурку, как будто созданную для движения, он слышал ее голос. А в голову ему стучали слова романса – в них была вся та красота идеальной любви, которая с утра преследовала его с силой искушения. «Лучше бы я не видел ее! – думал он. – Увидел и потерял последний покой. Если бы я не жил под чужим именем и был спокоен, что меня не прогонят завтра же не только с работы, но вообще из города, я просил бы Нину теперь же представить меня ее бабушке, а потом сделал бы предложение. Тогда я был бы счастлив хоть в личной жизни. Но разве я смею даже мечтать об этом, когда мои свобода и благополучие висят на волоске». Неожиданно ему в голову пришло циничное соображение: «А может быть, это все чисто физиологическое явление? Я еще слишком молод, чтобы вести аскетический образ жизни, и вот одного взгляда на красивую девушку было довольно, чтобы возмутить мое оцепенение». И едва он это подумал, как воображение нарисовало ему нечто, что через минуту он уже отогнал от себя с чувством жгучего стыда: ее нельзя было оскорбить даже мысленно, ничто грубое и земное не должно было касаться ее. Он сам себе показался грязен и гадок. «Она весталка, а я… я грубый язычник. Что она сейчас делает? Наверное, спокойно спит в белой кроватке и не подозревает, что вывихнула всю душу одинокому человеку. Она ставит свечки за Россию, милое дитя! Но что могут сделать вздохи ребенка, когда вся страна бессильна!…»
Оклик Мики неожиданно оборвал ход его мыслей. Усевшись на постели, Мика крикнул ему:
– Да что вы все мечетесь и вздыхаете? Спать не даете! Блоха вас кусает – зажгите свет и поймайте!
Олег несколько минут молчал.
– Тоска… – проговорил он тихо и прибавил: – Послушай, а ты бы мог говорить со мной немного повежливее?
Но Мика оставил без внимания последнее замечание.
– Тоска? – повторил он иронически. – Встаньте и прочтите молитву, коли так. Тоска – тоже искушение дьявола, не лучше всех прочих. От нее верное лекарство: «Да воскреснет Бог» – вот что!
Мика повернулся на другой бок и всхрапнул.
«Он со своим аскетизмом становится нетерпимым, – подумал Олег. – Молиться я уже разучился, лучше постараюсь заснуть».
Но ему не суждено было в эту ночь заснуть – пронзительный звонок внезапно прорезал тишину комнаты. «Звонок среди ночи! Что-то недоброе!» Олег сел на диване, прислушиваясь; что-то часто и тяжело стучало – это тревожно билось и замирало измученное сердце.
Звонок повторился. Он вскочил и стал торопливо набрасывать одежду. «Они! Кто еще в такое время? На рынке проследили или Вячеслав выдал?… Опять лагерь… Нет, довольно!» С лихорадочной поспешностью он выхватил револьвер. «Теперь, или уже будет поздно! Нет у меня ни Родины, ни имени, ни семьи, ни деятельности, ни славы! Пропадай бесполезная жизнь!» Он приставил револьвер к виску: «Господи, прими мою душу», – и спустил курок. Но выстрела не последовало. «Что такое? Разряжен! Но каким же образом? Ведь я сам заряжал его! Или я начинаю сходить с ума, или сам не помню, что делаю!»
Дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нина в халатике с растрепавшимися волосами:
– Гепеу! Боже мой – револьвер! Олег, не смейте! Отдайте его, сейчас же отдайте! Безумный, безумный, что вы делаете! Аннушка, сюда! Помогите! – и она повисла на его руке.
Звонок повторился в третий раз, Олег вырвал руку.
– Он не заряжен. Пустите, Нина, – и, подойдя к отдушине, открыл ее и засунул туда револьвер.
– Олег, что будем мы говорить? Что делать?! Они за вами или за мной! Я знала, что это будет, – она хваталась за голову.
– Успокойтесь, Нина, возьмите себя в руки. Теперь уже поздно что-нибудь предпринять. Идемте. Одевайся, Мика!
Мальчик смотрел на обоих широко раскрытыми глазам и послушно потянулся за бельем. Они вышли в коридор; оттуда было видно, что в кухню входят незнакомые люди с револьверными кобурами. Вячеслав и дворник открыли им.
Нина остановилась.
– Олег, если за мной, так Мика… Вы Мику… – начала она прерывистым шепотом.
– Да, Нина, конечно! Но, даст Бог, не за вами, уж лучше, чтоб за мной!
Явившиеся люди потребовали «квартуполномоченного». Нина, бледная как полотно, обрывающимся голосом отвечала на их вопросы, что из посторонних, непрописанных лиц в квартире никто не ночует. Потребовали документы, жильцы стали их предъявлять. Подавая свои, Олег закурил и спросил, усиливается ли мороз; он тем более старался быть спокоен и небрежен, что чувствовал на себе замирающие взгляды Нины и Мики. Ему казалось, что и Вячеслав внимательно наблюдает его. Документы протянули ему обратно и заявили, что обойдут квартиру, дабы установить, не присутствуют ли посторонние лица. Кого они искали – оставалось неясным. И Олег, и Нина страшились убедиться, что ищут бывшего князя гвардейского офицера Дашкова. Только когда непрошеные гости двинулись из кухни в коридор, дворник и Нина спохватились, что Катюша не появлялась в кухне и не предъявляла своего удостоверения личности. Они поспешили сказать, что забыли еще одну жилицу и стали стучать ей в дверь. Катюша выползла с заспанными глазами, полураздетая – она одна во всей квартире не слышала возни и суетни, поднявшихся в доме, и теперь, к удивлению всех, облизываясь и улыбаясь, объявила, что у нее ночует ее подруга, с Васильевского острова. Агенты тотчас потребовали «подругу» и, когда та назвала себя, объявили ей, что уже являлись к ней на Васильевский остров, где им сказали, что ее следует искать на Моховой, 13; затем велели неведомой девице следовать за собой и пошли к выходу. Как только дверь за ними захлопнулась, Нина стала истерически кричать на Катюшу, глаза которой еще слипались.
– Как вы смеете? Вы обязаны были известить меня! Как вы смеете приводить сюда спекулянток или проституток! Так переволновать всех! Вам все нипочем, а вы посмотрите, на кого мы похожи! – и разрыдалась.
Дворничиха бросилась подать ей воды. Понемногу взбудораженная, словно муравейник, квартира стала успокаиваться; скоро в кухне остался один Олег. Он сел на табурет и, облокотив руки на стол, опустил на них голову. Он вдруг ощутил страшную усталость, очевидно, в результате чрезмерного нервного напряжения и минуты под дулом револьвера. Голова у него кружилась. «Вот мое существование все под дамокловым мечом, и так без просвета», – думал он. Дворничиха вошла в кухню и, увидев его одного с лицом, закрытым руками, подошла.
– Устал, поди! Накось, какая передряга. Ах, они – воры, разбойники! Измотают человека, да еще пужают без толку. Может, тебе чайку заварить крепкого? Согреешься, заснешь лучше!
– Благодарю вас, мне ничего не нужно.
Но она не уходила.
– У меня вот сыночек твоих лет был бы, да белые под Псковом уходили. Может, через то мне тебя и жалко. Другой раз, как я погляжу, какой ты худой да бледный, да завсегда невеселый, – так за сердце и схватит. Надо ж судьбу такую: и война-то, и раны-то, и тюрьма-то, и все напасти на человека, да еще и пожалеть-то некому.
Олег так давно не слышал задушевного тона, что от этих простых, бесхитростных слов что-то поднялось к его горлу, и непрошенные слезы готовы были навернуться на глаза. Он молчал, не отрывая рук от глаз.
– Матери-то нет у тебя?
– Нет, у меня нет матери, – с усилием ответил он.
– А ты бы хоть женился, все ж лучше, чем одному, было б хоть кому о тебе позаботиться.
– Кто за меня теперь пойдет, Анна Тимофеевна? Кому я такой нужен? Оборванный, прострелянный, кандидат на высылку; У меня даже угла своего нет.
– Не всякая девушка выгоду соблюдает. Другая – пожалеет, захочет пригреть и утешить. Ты еще молод и пригож – понравиться можешь.