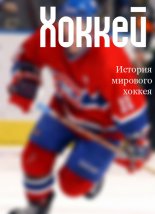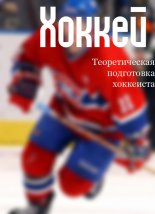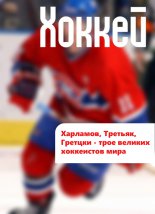Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
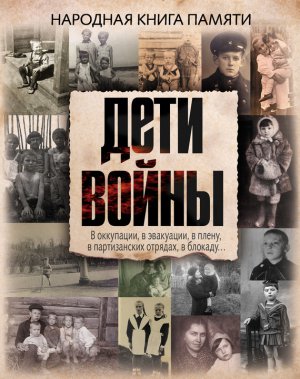
Я читал этим людям, прошедшим сквозь ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще «Бородино», они слушали и, казалось (или мне теперь кажется), невольно сравнивали про себя это, написанное пером, со своим собственным несравненным опытом. Наверное, мы им казались наивными.
Но теперь не помню, может, кто из девочек и танцевал. Палаты четко делились на солдатские и офицерские. То есть с 43-го уже точно не говорили «командирские палаты». Армия менялась. Слово «офицер» перестало быть словом «белогвардейским». В офицерских палатах было меньше скученности и воздух свежей.
Но мы, не только я, в общем-то любили выступать в солдатских. Там мы вроде были больше нужны слушателям и отношение к нам было более внимательным. Я читал этим людям, прошедшим сквозь ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще «Бородино», они слушали и, казалось (или мне теперь кажется), невольно сравнивали про себя это, написанное пером, со своим собственным несравненным опытом. Наверное, мы им казались наивными. Иногда посреди выступления кто-то просил судно или кому-то делали укол. Это ничему не мешало и ничего не прерывало. Пел какой-нибудь мальчик простую детскую песенку, а они слушали молча. Они ведь и бились за то, чтоб эта песня звучала.
В госпитале нам было хорошо. Мы многого не понимали, конечно, – в том числе физических мучений этих людей. Но здесь была надежда. В отличие от улицы, где приставала шпана, где стыли очереди за хлебом… где мешались мелочи жизни, и люди косились друг на друга или могли раздражаться друг на друга… В госпитале была общность: Народ и Страна. То, что после безошибочно назвала по имени Ахматова: «Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был…»
Именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Мы все кричали «Ура!» и долго не переставали кричать. Наверное, об этом сейчас имеет смысл вспомнить!
Именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Мы все кричали «Ура!» и долго не переставали кричать.
А тогда мне виделся невольно пустой осенний вокзал на Урале. Станция Камышлов. И как мы услышали об оставлении Киева, «после упорных и ожесточенных боев…». Наше полное и беспросветное одиночество в ту минуту. Месяца через два или три все показывали на невысокого франтоватого лейтенанта с одной рукой, только что выписанного из госпиталя. Он получил Звезду Героя за то, что при наступлении, раненый, со знаменем переплыл Днепр. За ним бегали решительно все местные девушки.
В городке много солдат и офицеров долечивались после госпиталя. И я тогда уже заметил, что у девушек пользуются большим успехом ребята, которым не нужно уже возвращаться на фронт. Если у них и недоставало – руки, даже ноги… «Что тут удивительного? Каждый дом – это, прежде всего, надежда!» – будет сказано много после в моей пьесе «Десять минут и вся жизнь»…
«Она была прекрасна как мечта…» – строка лермонтовская. Но могла появиться и у Гейне. Лермонтов любил Гейне – понимал, переводил. В строке есть что-то от немецкой лирики.
Та, о ком я пытаюсь рассказать, внешне напоминала собой героиню знаменитого фильма «Девушка моей мечты», в конце сороковых потрясавшего своим легкомыслием наши отвыкшие от легкомыслия сердца – что подростков, что старших. Это был один из первых фильмов, пришедших к нам после войны. Только… эта Марика (назовем ее Луиза, отчества не помню) была, пожалуй, еще красивей главной героини. Умнее, добрей. Но все равно – ни дать ни взять – немецкая юнгфрау, точь-в-точь образец того, что гитлеровцы считали в женщине признаками истинно арийской расы: блондинка с золотистыми и то ли серыми, то ли голубыми глазами, с розоватым цветом щек, с необыкновенной фигурой, как теперь понимаю. Она была немка по национальности и выслана откуда-то из Центральной России. У нас в школе она преподавала немецкий язык. Она одевалась очень просто, но была необыкновенно изящна, даже в самой простой одежде. Она была хорошей учительницей – не раздражалась, была ласковой. Искренне расстраивалась, если мы чего-то не знали. А случалось это часто, ибо, как я уже говорил, не учиться в школе считалось хорошим тоном.
Она ненавидела фашизм и очень страдала от того, что делали немцы на оккупированных территориях. Тогда как раз шла пора освобождения наших городов и сел, и отовсюду приходили мрачные известия. Печать и радио кричали о зверствах немцев, и кричали справедливо. Мы часто видели ее заплаканной. Она дружила с моей мамой, а мама дружила с ней и сочувствовала ей. Мама узнала как раз тогда, что в Мариуполе погиб целый клан ее близких родственников: родной дядя с дочерьми, с невестками, с внуками, – и помню, они, обнявшись, плакали вместе.
Луиза все повторяла: «Как же так? Как же так?» – и говорила о том, что думала, будто знает свой народ, а оказалось, не знает!
Это потом про Бабий Яр старались не говорить, но в войну все было не так. Вообще, в войну все было не так, как после войны.
Когда был освобожден Киев и туда выехала комиссия по расследованию (ее возглавлял, кажется, Алексей Толстой), впервые появились сведения о Бабьем Яре. Это потом про Бабий Яр старались не говорить, но в войну все было не так. Вообще, в войну все было не так, как после войны.
Луиза говорила моей маме:
– Поверьте, Белла Осиповна! Когда я вернусь домой… Я пойду в библиотеку, я погружусь в книги! Я хочу понять – откуда это взялось и как это могло произойти?! Как это случилось с моим народом?..
Она задавала вопросы, на которые нет ответа по сей день. И не только в немецкой истории.
Маме было тогда около сорока, Луизе – 23, от силы 24. «С глазами, полными лазурного огня, // С улыбкой розовой, как молодого дня // За рощей первое сиянье». (Опять Лермонтов.) Она была, верно, девушкой, как теперь можно понять – такой несовременный вариант, и была по-девичьи наивна. Помню, как на нее глазели мужчины – даже наши суровые преподаватели мужского пола – редкие тогда. Но ухажеров у ней не было. Она была немка. Такие дела…
О великой Сталинградской битве много говорили тогда, ее эпизоды без конца пересказывались. В госпитале я заливисто декламировал раненым бойкие строфы Маршака о сдаче армии Паулюса:
- Лежат, уложенные в штабель,
- Напоминая о былом,
- Десятки генеральских сабель
- С одним фельдмаршальским жезлом.
Они были напечатаны, кажется, в «Правде»…
Как-то вечером, придя поздно с работы, отец вдруг усадил нас с мамой и стал читать какой-то текст. Из газеты или журнала. О том, как в Сталинграде баржи с беженцами переправлялись через Волгу, а немцы бомбили. И когда баржу подорвали, одна мать сказала сыну семи лет:
– Ты прыгай, я попробую спасти ее! (Он был старше сестры.)
– Мама, можно я поцелую тебя? – сказал мальчик и прыгнул.
Плавать он, конечно, не умел. А потом муж не мог простить жене, что она не спасла сына. Вот все.
Зачем отец нам прочел это – не знаю. Он не был по приоде сентиментальным, но сам ужас нечеловеческого выбора, перед которым может быть поставлен человек, просто его потряс. Он повторил дважды, как мысли вслух: «Она сочла, что девочка беззащитней. Но они оба были беззащитны!» Сестре было пять лет. Может, невольно примерял к себе: он ведь тоже был отец двоих детей, и он думал о нас. Или заранее извинялся за выбор, который мог сделать.
Но мой рассказ о другом…
В начале зимы 1944-го, в жестокий мороз, в метельный вечер, к нам в дверь постучали. Мы жили тогда уже не в доме Ванды, а вшестером в сравнительно большой комнате в каменном доме, четырехэтажном. Отец получил на строительстве это жилье.
Я открыл. На пороге стоял высокий мужчина с ребенком на руках: мальчик прислонился к его плечу. Ребенок был весь засыпан снегом – ну точно как мой двоюродный братишка в Камышлове осенью 41-го. Только был постарше, этому было года три примерно. Мама пригласила их войти и раздеться, стала готовить чай. Конечно, тот фруктовый, который тогда пили. Мужчина раздел и разул мальчика, тот присел на краешек старого дивана и почти мгновенно заснул.
С этой семьей мы были знакомы немного. Но историю этой семьи кто только в городе не слышал! Отец был инженер, только много моложе моего. Ему было лет 26–27… Почему он был не в армии, сказать не могу – по болезни или имел «бронь»… Они были из Сталинграда. Приехали втроем года два назад: муж, жена и малыш. Ему было тогда около полугода. Жена была очень красивая женщина того типа, который принято называть «роскошной женщиной». Может, она и была таковой. Только немного полновата, как мне казалось даже тогда – и теперь кажется. (Ее тоже многие знали как хирурга местной поликлиники. Когда у меня начался фурункулез – она меня дважды оперировала.) По приезде они втроем получили комнатку в небольшой квартире, где за стенкой, в другой комнате, поселился начальник всего строительства. Человек лет сорока с бритым черепом и комиссарского виду, как и полагалось начальнику. Я его тоже видел не раз. Так вот, чуть не через месяц после приезда жена переселилась из одной комнаты в другую – в той же квартире. Бросив не только мужа, но и ребенка. С тех пор отец воспитывал ребенка сам. Как ему это удавалось или кто помогал ему – бог весть! Он ведь работал, как тогда работали все мужчины, кто не в армии: то есть беспощадно. Так прошли два года. Мы не были особенно близки, но почему-то он зашел проститься именно к нам (отца дома не было). Он сказал, что они уезжают с сыном и идут на трамвай. Кажется, он просил маму передать кому-то письмо…
– Куда же вы едете? – спросила мама.
– В Сталинград!
– Но там же, говорят, все разрушено!
– Ничего, как-нибудь! – Он улыбнулся мягко.
В его лице, в общем-то достаточно видного мужчины, был один недостаток: оно было слишком мягким. Отчего, наверно, некоторым женщинам могло казаться беспомощным. Мужчины с такими лицами, как правило, не пользуются успехом.
Мама стала уговаривать, чтоб они остались – хотя бы до утра:
– Я вам постелю. Я возьму у соседей матрас…
– Нет-нет! – Он поблагодарил.
– Ну куда ж вы! В такую метель!
– А нас здесь никто не ждет! – сказал он с той же мягкой улыбкой, добавив к тому, что хочет попасть на поезд.
Они и ушли в свое «никто не ждет». А мы еще долго говорили о них. И мама все волновалась, как они будут добираться. И, по обычной своей привычке искать что-то утешительное в самых ненадежных обстоятельствах, сказала мне:
– Видишь, война все-таки идет к концу. Люди возвращаются в Сталинград!
А через месяц-полтора после их отъезда случилось несчастье, которое тоже мгновенно было разнесено по всему городу. Погиб начальник строительства. Тот самый. Он шел, задумавшись, через подъездные пути, и на него наехала сбившаяся с тормозов платформа.
И к его жене-хирургу прибежали бабы:
– Беги! Там твоего убило!
Вот и все вроде. Мы ничего больше не слышали о ней.
Мужа с сыном мы тоже потеряли из виду. В войну связи быстро устанавливаются, но так же быстро разрушаются. Например, маме не пришло бы в голову сказать: «Вы хоть напишите по приезде!» Но я их часто вспоминал: отца и сына, хотел, чтоб они уцелели в этом дальнем городе. А ставши взрослым и вспоминая их, размышлял о том, когда же люди начнут ценить доброту… Мечтал, чтоб мальчик выжил… дети тогда часто умирали. Если все было в порядке, мальчику теперь должно быть около семидесяти.
Мы возвращаемся домой, в Ленинград. Все получилось неожиданно, но такие вещи всегда происходят неожиданно. Тетка Мария, та самая, военный врач, прислала нам вызовы почти вскоре после окончательного снятия блокады. (Тогда в город можно было попасть только по спецвызову, подписанному Попковым, председателем горисполкома.) Она провела в городе всю блокаду и, верно, соскучилась по своим. Во всяком случае, в письмах она настаивала, что пора. Так вышло, что, когда мы собрались ехать, начальник моего отца, известный инженер, получил назначение в Ленинград, резко повышавшее его статус, и ему предоставили вагон-теплушку для переезда его большой семьи. Он этот вагон кое-как оборудовал полатями в несколько ярусов и даже туалетом и взял также нас: мать, сестру, мамину младшую сестру с мальчиком, и меня, и еще одну свою приятельницу. Отец оставался достраивать свой объект…
Тогда в Ленинград можно было попасть только по спецвызову, подписанному Попковым, председателем горисполкома. Мы выехали в начале мая и ехали больше месяца.
Мы выехали в начале мая и ехали больше месяца. Весна выдалась ранняя и бурная – даже в Сибири. А когда мы вступили в пределы средней полосы России, было просто лето.
Дорога туда была такой же, в принципе, как дорога оттуда: столь же часто встречались поезда-госпиталя с ранеными бойцами… Возможно, их и стало больше: армия теперь наступала, а в наступлении всегда больше потерь. Так же ехали на фронт и стояли в открытых теплушках завтрашние бойцы. Столь же много было неустроенных людей, ищущих что-то, кого-то, просто кипяток на станции. Только общее настроение было, конечно, другим. То же «великое кочевье» – только на него падал иной свет. Было больше надежды в людях, больше шумного и на повышенных тонах обмена военными новостями. Но все же что-то изменилось и к худшему: нельзя было не заметить – наверное, в людях проявилась усталость, а может, что-то еще, что после скажется…
В войну многие женщины спали с лица, стали выглядеть усталыми, замотанными, старше своих лет, иногда – много старше. Это было естественно. Но родилось, порой почти непонятное, неприятие красоты. Иногда просто ненависть. Красота винилась во всех грехах, и красивая женщина сразу подозревалась в порче.
Чуть не на всех длинных стоянках можно было набрести на какой-нибудь конфликт. Выяснялись отношения:
– Я-то был на фронте. А ты где?
– Мой муж воевал! А твой что? Оборонял Ташкент?..
Вся страна давала убежище эвакуированным, и Узбекистан был на одном из первых мест в этом смысле. («Дом далёкь! Узбьекистан!») А сыны его также сражались на всех фронтах и умирали рядом со всеми. Но почему-то именно слово «Ташкент» стало ругательным. На годы. Женщины постоянно шпыняли друг друга, стараясь уколоть по линии женской чести и поведения во время войны:
– Я мужа ждала, а ты кто? Сучка офицерская!..
С женщинами было особенно трудно: кто только не брался обсуждать их судьбу, их поведение, их любовь… Но они сами, надо отдать должное, тоже старались.
В войну многие женщины спали с лица, стали выглядеть усталыми, замотанными, старше своих лет, иногда – много старше. Это было естественно. Но родилось, порой почти непонятное, неприятие красоты. Иногда просто ненависть. Красота винилась во всех грехах, и красивая женщина сразу подозревалась в порче (об этом, кстати, было у Симонова: «Если родилась красивой…»). Воистину нет объяснения человеку – пристрастиям и отторжениям его! Господь ему судья! Мне было уже почти 13, я многое чувствовал и не мог не сравнивать невольно эту злобу и жесткость, даже жестокость – с той готовностью помочь друг другу, с тем взаимным теплом и заботой, что так часто проявлялись на дорогах в тяжкие дни отступлений 41-го…
Ехали мы долго, я сказал, – но настал день, когда на каком-то разъезде или у разрушенной станции на остановке вошли пограничники в фуражках с зеленым околышем: «Ваши документы!» И после проверки: «Можете ехать!»
Вскоре поезд тяжело и грузно взошел на мост и словно повис над ним. Внизу была Нева в верховье… Мост был военный, построен военными строителями. Он был одноколейный, очень высокий и очень узкий. И вообще без перил. И поезд медленно-медленно полз по нему. Так что примерно на полчаса или сорок минут мы будто зависли над бездною. Мы вползали в город, как вползают в сон…
Я многое чувствовал и не мог не сравнивать невольно эту злобу и жесткость, даже жестокость – с той готовностью помочь друг другу, с тем взаимным теплом и заботой, что так часто проявлялись на дорогах в тяжкие дни отступлений 41-го…
Мы с мамой и сестрой покинули наш вагон где-то около двенадцати дня 4 июня 1944 года на станции Обухово, рядом с кладбищем Памяти жертв Девятого января – где теперь покоятся мама и ее сестры. Часть нашего «экипажа» осталась в вагоне – кстати, младшая тетка с сынишкой, – и вагон еще маневрировал дня три, покуда мы смогли забрать их и взять вещи. А мы двинулись в город. Зрелище поначалу было страшным. Сплошные пустыри и воткнутые в землю таблички с названиями улиц. 1-я улица Александровской фермы, 2-я улица Александровской фермы…
И ни одного дома! Кое-где на пустырях были огороды. Можно было подумать, что весь город таков. (Наверное, это были улицы сплошь деревянных домов, и в войну их просто спалили.) Лишь минут через сорок начали попадаться отдельные жилые дома. Тоже частью разрушенные. Где-то часа через три или четыре пешего хода мы вышли на Советский проспект (ныне Суворовский) в районе Второй Советской. Город, конечно, был сильно разбит, но это был город. Много развалин – но много и целых домов. Некоторые окна были распахнуты настежь – июнь. От кого-то мы узнали, что в этот день в городе впервые пустили троллейбус по одной линии. Но мы его еще не видели. На большей части окон вместо стекол были фанерные щиты. А стекол, оклеенных бумагой по диагоналям, как показывают в кино, оставалось совсем мало. Наверное, это оказалось ненадежно. Мы вошли во двор на 4-й Советской, где жила тетя Мария, поднялись на 4-й этаж. И так как ее, естественно, дома еще не было – время рабочее, – мы стали ждать, притулившись к подоконнику одним маршем ниже. Удивительно, за два часа или более нашего ожидания никто не вышел из парадной, никто не вошел, никто не появился даже на лестнице: народу в городе еще было не так много. Наконец, раздался стук двери внизу, и кто-то стал медленно, совсем медленно подниматься. Шаги были тяжелые. В просвете между перилами я увидел седую голову, кажется женскую. Я отвернулся: не она! Я говорил уже, что тетка в семье считалась красавицей, да она такой и была: пепельные волосы, огромные серые глаза, пышная фигура, что славилось в те времена. Меж тем человек поднялся по лестнице и остановился перед нами: это была худощавая седая старуха. И это была моя тетя Мария, Мура, как ее звали в семье. Она провела в городе вместе с мужем все 900 дней блокады. Нет, после она поправилась, стала снова статной. Только осталась совсем седой. В отличие от других, она никогда не красилась. Возможно, от гордыни… Она, по-моему, до конца дней не привыкла к тому, что ее красота прошла.
Через день я побежал туда, куда мечтал попасть все эти годы. Дворец пионеров на Фонтанке. Я вошел в здание с колоннами, то самое, меня никто не спросил, кто я и куда, да, кажется, и спрашивать было некому. Я вошел в коридор на втором этаже – совершенно пустой. Передо мной были только двери, двери и таблички с разными надписями. Здание выглядело пустым, но было ощущение, что пустота кажущаяся… Где-то какой-то гуд – не голоса, гудение… Я толкнул дверь с табличкой, на которой было написано: «Студия художественного слова», и оказался в комнате, полной ребят.
– Ты кто? Хочешь заниматься с нами? – спросила меня грациозная, подтянутая и седая женщина за столом.
– Хочу! – сказал я.
Седая и черноглазая на цыганский манер женщина оказалась профессором Марией Васильевной Кастальской. Ученицей Станиславского. Ия ей многим обязан – при всех своих расхождениях с системой Станиславского. Она меня, в частности, подвигла к тому, чтоб я умел читать вслух пьесы. Это мне очень помогло в жизни как драматургу. В ее чуточку нарочитом, слишком горячем, слишком заинтересованном взгляде на ученика, когда она слушала, как он читает текст, было что-то от всех портретов Станиславского. Но она однажды сказала нам об актрисе, игравшей трагическую роль:
– Не нужно кричать, не нужно руки заламывать. Достаточно просто расстегнуть воротничок… – И это была школа!
В тот первый день, толкая дверь за дверью и входя без спросу в аудитории, я записался разом в пять кружков. В том числе в литературно-творческий. Последним был шахматный. Преподавателя я так и не увидел, меня окружили ребята примерно моего возраста.
– Ты играешь в шахматы? – спросили меня.
– Ну да, – сказал я, – только плохо!
– Сейчас мы дадим тебе мальчика! Он будет тебя готовить! – и позвали кого-то.
Я попытался неуклюже возразить, что мне нужен учитель, а не мальчик.
– Не бойся! Этот мальчик уже сыграл вничью с гроссмейстером Левенфишем. И чуть не выиграл у такого-то… (назвали известную шахматную фамилию). Но… там сложилась, понимаешь, такая ситуация на доске… – и начали длинно и заинтересованно объяснять.
Тут мне вмиг стало хорошо, совсем хорошо. Как не бывает. Комфортно. Мне больше ничего не было нужно. Ко мне подвели того самого мальчика… Он был моего возраста. Ну старше – на полгода, не больше. Он протянул мне руку:
– Витя Корчной!
Я так и не научился играть толком в шахматы. Научился, но чему-то другому – какая разница?
А он стал одним из крупнейших шахматистов этого века. «Гроссмейстер Корчной». Шахматы – ведь не просто игра, но борение духа. Мы года два дружили, а потом как-то разминулись с ним. Не разошлись, а именно разминулись. Но я всегда следил издали за его успехами и неудачами. И болел за его непростую шахматную судьбу.
С кружком литературно-творческим мне, однако, не повезло. Меня выгнали вскоре. Во-первых, я был самый младший в кружке, все прочие кружковцы были старше года на три. А в отрочестве это значит много. Я был рядом с юношами или почти юношами, а мне было только 13, и меня не принимали всерьез. Мои сотоварищи кое-что уже понимали о себе. Но я тоже, как всякий пишущий, что-то о себе понимал. Ко мне относились без особого интереса, а мне было просто скучно. К тому же я был смешлив от природы. Тут наш руководитель, писатель Сергей Исаакович Хмельницкий, задумал провести вечер кружка, позвать критиков. И к вечеру написал стихотворное вступление, очень высокопарное – длинное и вовсе бесталанное. И поручил мне как участнику другого кружка – художественного слова (о чем все знали) – его на вечере прочесть. Хотя не выпустил меня (единственного) читать собственные стихи. И когда я стал читать на репетиции этот текст, меня стал разбирать смех. Ей-богу, он был справедливым! И каждый раз, когда я принимался читать, я начинал хохотать. Нестерпимо. Со мной бывает такое – и спустя 70 лет бывает. Меня выгнали в итоге. Наш учитель был типичный советский писатель и хотел на вечере показать кружок с лучшей, чисто советской, стороны. Что уж тут поделать! Кроме того, время было такое, что это требовалось показывать. Но я в 13 лет этого не понимал.
Пройдет четыре года, и в 48-м я окажусь одним из четырех школьников, кого направят на Всероссийский съезд поэтов, который проходил в Ленинграде: Игорь Масленников – ныне кинорежиссер, Владимир Британишский, Лев Куклин и я. Но это произойдет благодаря уже другому учителю молодых: Глебу Сергеевичу Семенову. Он будет мэтром и началом начал для пишущих всего нашего поколения в Ленинграде.
А Дворец пионеров станет на целый год моей alma mater. Целый год я буду жить только им и тем, что происходит в нем. И это будет последний год войны. Потом мой отец решит, что мои школьные дела слишком опасно накренились, и заберет меня оттуда. И я буду только временами появляться во Дворце в разных студиях и отвыкну от него. Начало было слишком прекрасным, чтоб оказаться долгим.
Вообще, Дворец пионеров был одним из немногих удавшихся экспериментов большевиков. Может, самым ярким и самым удавшимся. Фасадом их идей в той части, где эти идеи действительно существовали, и до той поры, покуда они сами не обрушили с треском – эти идеи. Не знаю, описан ли где-нибудь как следует подвиг Ленинградского дворца пионеров – его сотрудников, воспитателей, учителей во время войны? Писали об этом или уже перестали писать, но Дворец фактически работал в Ленинграде с кратким перерывом всю блокаду и был, естественно, одним из главных центров Сопротивления города. Одна лишь танцевальная группа А. Обранта чего стоила! Она выступала в войну в частях, оборонявших Ленинград, и на кораблях Балтийского флота. Дворец задуман был, кажется, еще Кировым, открыт в середине 30-х, и во главе его были люди, которые знали, к чему они стремятся. Директором был замечательный педагог Натан Михайлович Штейнварг, его, конечно, сняли в 49-м, как говорил Райкин, «в рентгене у него было что-то не то».
Как-то, много лет спустя, уже совсем взрослым, на улице я встретил Марию Львовну, завуча Художественного отдела дворца. Мы поздоровались, она узнала меня. Я назвал свою фамилию и услышал в ответ:
– Извините! Фамилию не помню, а мальчика помню!..
Осенью 44-го, в сырость, в холод, когда фонари на улицах светили бог знает как тускло, я вошел в сильно пострадавшее от бомбежки здание Дворца Белосельских-Белозерских, где в некоторых уцелевших комнатах ютились учреждения, в том числе райком комсомола, – и попросил принять меня в комсомол.
Может, это звучит сегодня несовременно. Может быть. Но как сказал Мандельштам в Воронеже: «Ни от кого не отрекаюсь – ни от живых, ни от мертвых!»
А свой двор я застал совсем пустым. Нет, через какое-то время воротились несколько ребят из эвакуации. Но это – были ребята моего поколения. Из старших не вернулся почти никто. Помните две команды? И волейбольная сетка исчезла. Через год после войны или поздней появился Вова Р., очень высокий интеллигентный парень. Он воевал и уцелел. Родители его умерли здесь. И очень долго он оставался единственным, кто вернулся с фронта. Кажется, это угнетало и его самого. Ему было тяжело. Он шел через двор, словно жался к стенке… Словно стесняясь самого себя. Он-то знал, что из многих окон невольно, за занавеской, глядят ему вслед и вспоминают своих. Особенно это стало заметно, когда он женился на девушке, которая ждала его всю войну. Она была, наоборот, – маленькая, пухлая и очень скромная. Она была похожа на него. Они проходили через двор – всегда молча, это трудно понять: словно крадучись. Будто она тоже стеснялась собственного счастья.
Через какое-то время воротились несколько ребят из эвакуации. Но это – были ребята моего поколения. Из старших не вернулся почти никто.
Еще поздней вернулся Миша Р. с нашей лестницы – квартира напротив. За его отцом дважды приходили в 37-м году (он был в 20-х нэпманом). Миша был человек совсем другого типа: шумный, летчик. Он рассказывал, что служил вместе с сыном Сталина – Василием. Тоже летчиком. И наперекор всяким слухам отзывался о нем с симпатией.
Ребятам нашего двора из старшего поколения я посвятил через четверть века диптих одноактных пьес «Поколение 41». («Мальчик у телефона» и «Миф о десанте»). Это было уже в 1968-м. Пьесу в Ленинградском ТЮЗе, в которую входили эти новеллы, быстро сняли с постановки: «Мальчик у телефона» был про 37-й год. А танки в августе 68-го уже вошли в Чехословакию. Пьеса «Миф о десанте» была о судьбе десанта из молодых моряков-добровольцев Кронштадтской базы, который высажен был в порядке отвлекающего удара в Петергофе в октябре 41-го и погиб. В пьесе в раковине замершего фонтана, в котором отключена вода, под безрукой статуей Венеры умирают от жажды мальчишки, не знавшие любви. «У меня любви не было. Ребята рассказывали. Интересно». И последний танец Венеры с уходящим на смерть десантом. Фавн играет на свирели «Синий платочек»…
С «Десантом» оказалось не легче. Его поставили отдельно в Мурманске, в Театре Северного флота, в паре с инсценировкой рассказа «Соль» Бабеля. И о спектакле был целый подвал в «Комсомольской правде»: «Как можно писать о героике Отечественной войны в обветшалых мифологических образах?» – и советовали Мурманскому Обкому заняться своим театром. Впрочем, тогда же и почти такое же письмо я получил от известного в тот момент драматурга, считавшегося «прогрессивным», которому по глупости подарил распечатку пьесы. Только он к Обкому не обращался. Все остальное было то же самое. Но «Десант» был уже снят театром с постановки ранее появления статьи вместе с другой моей пьесой «Матросы без моря» – о матросах революции. (Эта пьеса потом была запрещена 20 лет.) На заседании политуправления в театре нам с режиссером Мишей Царевым крепко досталось. Управленцы старались, как могли: «Что это у нас за драматургия пошла? Какие-то сны, какие-то фавны?» Ругая нас, они вдруг начинали поносить Хрущева – давно снятого к тому времени. Больше всех старался, как сейчас помню, такой полковник Колкер – возможно, пытался оправдать фамилию. Не слишком удобную в то время.
Один из наших ярых критиков бросил нам в лицо, чуть не задохнувшись собственной смелостью: «Вы думаете, нам обязательно нужна идейная пьеса? Вовсе нет! Пусть будет безыдейная – просто развлекательная. Матрос поразвлечется и отправится выполнять свой долг. Но если идея… она должна быть железобетонная!» – и с силой сжал руку в увесистый кулак.
Пьеса «Матросы без моря» была впервые поставлена уже только в «перестройку». На сцене другого «морского» театра – Черноморского флота.
«Десант» писался мною в Москве, в снятой комнате, в очень тяжелую для меня пору, и, если честно – просто голодную. Но все равно… когда рука вписала сама собой (такие вещи рука вписывает сама, это точно!): «Фавн заиграл на свирели „Синий платочек“» и еще последний диалог: «„Удержи меня на этой земле, любовь!“ – „Не могу! У меня нет рук!“» – вся моя, не слишком простая, а в чем-то нескладная литературная судьба показалась мне неслучайной и ненапрасной.
«Десант» ставили с тех пор не один раз. В 2005-м молодые ребята, которые хотели создать новый музыкальный театр в Петербурге, заказали мюзикл композитору М. Аптекману. Его поставили в День Победы в Театре эстрады. И я снова был среди своих зрителей двух возрастов: совсем юных и совсем седых. И среди ребят нашего двора из двух волейбольных команд…
Курить я начал в тринадцать. Когда меня спрашивали, почему так рано, я рассказывал иногда про нашу экскурсию в зоопарк с одним из кружков Дворца пионеров – где-то в начале осени 1944-го. Мы смотрели на зверей, обошли все самое интересное, а потом нам сказали, что нас побалуют. И повели к ларьку. Это был один из первых ларьков газированной воды в городе. Только газу пока не было… И нас угостили простой водой, подкрашенной сладким сиропом. И тот, кто не знает, как вкусно пить простую воду со сладким сиропом и даже без газу, – может посмеяться над нами.
Папиросы продавались на каждом шагу. Ими торговали инвалиды. Они сидели на корточках или просто на земле у всех магазинов, где продавалось курево. Обычным людям, военным в том числе, курево отпускалось по коммерческой цене, а инвалидам – по государственной, куда более низкой. Были среди нас такие – кто не закурил? Были, конечно. Но их немного.
Зато папиросы продавались на каждом шагу. Ими торговали инвалиды. Они сидели на корточках или просто на земле у всех магазинов, где продавалось курево. Секрет был в том, что обычным людям, военным в том числе, это курево отпускалось по коммерческой цене, а инвалидам – по государственной, куда более низкой. И они могли торговать этими папиросами. Сигарет тогда не было. Боюсь, мы вообще не знали, что это такое. Папиросы продавались не пачками – а россыпью. И россыпи эти лежали в грязных кепках инвалидов. И это было единственное, что могло манить нас тогда.
Были среди нас такие, кто не закурил? Были, конечно. Но их немного.
По Невскому еще шли трамваи. Вообще-то они еще долго ходили. На Аничковом мосту трамвай замедлял ход… Тут мы вскакивали на него большой компанией. К улице Маяковского, у кинотеатра «Художественный», трамвай разгонялся. Тут мы и соскакивали с него один за другим, презирая клаксоны машин, которым иногда мы прыгали почти под колеса. Только движение, разумеется, было небольшим, не то что в 60-х, уж не говоря – сейчас. Как никто из нас не сломал себе голову тогда – не знаю, обошлось. Оказавшись на тротуаре, мы торжественно закуривали. Однажды меня на этом поймал мой дядя – муж тети Муры. «Молодец, Борис! Молодец» – сказал он с издевкой. Мне крепко досталось. Но все равно курил я долго потом, больше сорока лет.
И инвалиды войны у магазинов с россыпью папирос в кепках остались в нашей памяти навсегда. Инвалидов было много. Они шныряли в толпе, ловко маневрируя своими скромными дорожными средствами – маленькими и плоскими тележками на колесиках. Очень часто на этой тележке помещался только торс фактически до паховых впадин – остальной части тела не было. Иногда это средство управлялось всего одной рукой. И как блестяще управлялось этой единственной рукой, с каким шиком! Помню совсем молодого матросика в бескозырке. Его можно было всегда почти встретить на углу Пролеткультовской – теперь Малая Садовая. У него были огромные голубые глаза и лицо Сергея Есенина, невероятно похож… бескозырка была заломлена лихо и с вызовом. Потом, через год где-то, я увидел его там же с лицом опухшим, испитым, словно одеревеневшим. Поэтических ассоциаций уже не было.
Инвалиды эти разом исчезли с городских улиц в конце 46-го или в начале 47-го. Их выселили всех. Говорят, отправили в какие-то интернаты – на Валдай, на Валаам, еще куда-то. Об этом мало написано. Во всяком случае, мне не попадалось. Я встретил об этом только у великолепного писателя и художника Эдуарда Кочергина… Город не знал их судьбы. Просто понял, что они исчезли с улиц, да и то не сразу, и не все заметили. Наверное, нельзя было, чтоб они как-то разрушали своими культями, своими тележками на колесиках – благообразный фасад социализма.
Был такой фильм польского режиссера Ежи Кавалеровича: «Настоящий конец большой войны». Он прошел у нас под другим названием: «Этого забывать нельзя». В прокате любили менять названия зарубежных фильмов. Так, чтоб было попроще и победнее смыслом.
Инвалидов было много. Они шныряли в толпе, ловко маневрируя своими скромными дорожными средствами – маленькими и плоскими тележками на колесиках. Очень часто на этой тележке помещался только торс фактически до паховых впадин – остальной части тела не было.
В 46-м вышло «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Я стоял перед газетой «Правда» с этим Постановлением и ничего не понимал. Зачем это сейчас? И что это значит? Зощенко я знал мало как писателя тогда, но Ахматову читал, особенно ее стихи в дни войны. Моя мама вообще-то знала мало стихов и редко их читала, но Ахматову она часто читала наизусть. Журнал «Ленинград» был закрыт, мы слышали, что в город прислан из ЦК от самого Сталина некто Еголин – руководить единственным теперь ленинградским журналом. Фамилия ничего не говорила. Спустя много лет, уже в 60-х, услышу некую байку писательских кругов… В те дни зашла случайно в редакцию «Звезды» Анна Семеновна Кулишер, известная переводчица французской прозы. Это легенда, которая существует до сих пор и несколько напоминает легенды о Раневской. Анна Семеновна славилась среди прочего тем, что последней узнавала новости, о которых успели уже поговорить решительно все. И, зайдя в редакцию и ничего не зная, она по привычке направилась к столику заведующей редакцией, чтоб позвонить по телефону дочери.
– Что вы! – сказали ей. – Нельзя, Еголину может понадобиться телефон! – Телефон у завредакцией был спаренный с телефоном главного редактора.
– Какой Еголин? – и пытается все равно взять трубку.
– Анна Семеновна! Нельзя! Еголин!..
Но та не понимает и буквально вырывает трубку. И кричит в телефон:
– Представляешь, черт-те что творится, здесь какие-то новые порядки! Какой-то Еголин!.. Мне не дают позвонить – узнать, что Уфирька ел, как он покакал…
Уфирька был любимый кот Анны Семеновны.
Рассказывают, сама Анна Андреевна Ахматова пришла в Литфонд в день, когда вышло это постановление, ничего о нем не зная, и начала вести обычные светские разговоры. А на нее смотрели как на привидение…
В 48-м началась история с группой «театральных критиков-антипатрио-тов». Ругали пьесы хорошие, или сносные во всяком случае. Возносили просто бездарные. Винили критиков, которые этими последними не восхищались. И трудно было читать официальные выступления некоторых известных писателей, которые всю эту чушь одобряли.
Чуть не каждый номер «Литературной газеты» приходил со статьей, содержавшей пересмотр отношения к тому или другому из видных советских писателей, уже ушедших из жизни. В одном номере – поругание Ю. Н. Тынянова, в другом – поэта Эдуарда Багрицкого, в третьем – или это был журнал? – чудовищная статья Важдаева с ниспровержением Александра Грина. Когда наша учительница, между прочим очень хороший преподаватель литературы, методист Герценовского института, – присоединилась на уроке к статье, поносившей Тынянова, я хлопнул партой и вышел из класса. Потом на меня кричали в учительской. И я получил первую в жизни тройку по сочинению: «за космополитизм». Я дважды процитировал в тексте сочинения зарубежных писателей – Б. Шоу и Р. Роллана.
В том же году начался разгром университетской науки на филологическом факультете Ленинградского университета. Громили школу покойного академика А. Веселовского, одного из самых крупных дореволюционных исследователей литературы. А попутно почти все другие школы, сложившиеся в науке после Веселовского. В том числе и школы, выросшие при советской власти и пытавшиеся соединить филологию с социалистическим мышлением. У нас шел десятый класс, и мы, конечно, были в курсе университетских проработок – те, разумеется, кто интересовался литературой. Наша преподавательница даже просила нас посещать эти собрания. Но я отказался. Зато наш первый ученик аккуратно туда ходил и в классе с аппетитом делился впечатлениями.
На трибуны поднимались аспиранты и бывшие аспиранты, и даже студенты и с пафосом костерили своих вчерашних или сегодняшних профессоров. Обличали. Особенно старались аспиранты с кафедры советской литературы. Правда, и другие стремились идти в фарватере. Старых заслуженных филологов клеймили как путаников и двурушников, распространявших сплошь и рядом в литературе вредные теории и взгляды. Седые почтенные люди, много сделавшие в литературе и для литературы, поднимались в ответ на трибуны и каялись униженно. Признавали ошибки. Клялись больше не повторять. Просили дать им время для исправления. В итоге одних изгоняли из университета, других оставляли под присмотром и с сокрушенной репутацией. Надо же было после этого входить в аудиторию к студентам, и что-то говорить, и иметь хоть какое-то лицо при этом! Я лично был свидетелем того, как один профессор, которого побили, но оставили в университете (он был отцом моего товарища) отправлялся каждый вечер навестить своего друга – профессора, которого очернили и изгнали: тот лежал с инфарктом. Это был Б. М. Эйхенбаум, кстати крупнейший тогда специалист по Лермонтову. А сам профессор был видный исследователь творчества Достоевского. (Сам Достоевский в то время тоже числился в опале.) Спустя какое-то время, после хрущевской «оттепели» или в самую «оттепель», – некоторые участники и нападающие тех аутодафе выйдут каяться тоже. Это будет отрадно само по себе, но поздно, к сожалению. Я думаю, филологический факультет Ленинградского университета от того погрома не мог оправиться еще несколько десятилетий. Может быть – и до сих пор не оправился!
Это все был тоже «настоящий конец войны».
Правда, в том же 48-м было последнее – вперед на многие годы – отрадное событие в моей едва начинавшейся литературной жизни.
Всероссийский съезд поэтов, проходивший в Ленинграде. Его старшими участниками были многие знаменитые к тому времени поэты войны. Семен Гудзенко например:
- Мне кажется, что я – магнит,
- Что я притягиваю мины.
- Удар! – и лейтенант хрипит,
- И смерть опять проходит мимо!
У него было лермонтовское ощущение батальной поэзии. Я помню его в просвете двери, перед входом в аудиторию, где читают стихи, Он стоит, высокий, ладный, чуть прислонившись к притолоке головой…
- Мы не от старости умрем —
- От старых ран умрем.
- Так разливай по кружкам ром —
- Трофейный, рыжий ром…
Он и умрет не от старости – от старой раны в голову. Всего через несколько лет, совсем молодым.
По залам прохаживался Сергей Орлов, автор одной из самых известных строк поэзии войны:
- Его зарыли в шар земной,
- А был он лишь солдат…
Странно, я так и не увидел его разговаривающим – только слушающим и слышащим. У него было удивительное лицо: вовсе обгорелое, без бровей, без ресниц: он горел в танке. Он не сидел в зале, а именно прохаживался по залам особняка Союза писателей на Воинова, где в каждом зале читали стихи, а он прислушивался, ловил что-то нужное только ему и уходил…
Сам этот особняк сгорит в конце перестройки, а когда его восстановят, он уже не будет больше Домом писателя. Хотя… его следовало сохранить в этом качестве. Он был живой историей. В чем-то великой, в чем-то очень страшной. Здесь много чего происходило… Здесь топтали Добычина и жарко аплодировали разбойным докладам А. Жданова. Здесь жены отрекались от мужей. Но здесь и дважды распятый Михаил Зощенко бросил в лицо Друзину, может, самую важную фразу из всего, что наговорили здесь за все времена существования этого Союза:
«Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации!»
Поэты на съезде, конечно, перессорились меж собой – московские с ленинградскими. На то они – и поэты. Нас, «маленьких», это не касалось. Зато мы успели послушать последнюю лекцию Григория Александровича Гуковского, автора книг о Пушкине, о Гоголе… блестящего литературоведа, хотя, во многом, и типично советского. Его арестуют буквально через две-три недели, и он погибнет в застенке.
1948 год
В 49-м после громкого процесса были расстреляны почти все руководители блокадного Ленинграда во главе с Алексеем Кузнецовым, в ту пору секретарем ЦК, а в войну – первым секретарем горкома партии Ленинграда. Кузнецов, Попков, братья Вознесенские… Их обвинили в том, что они собирались то ли отделить Ленинград от России, то ли сделать его снова столицей России, а Москву оставить лишь столицей Союза… Это называлось «Ленинградское дело». О нем сейчас почти забыли.
- Мы под Колпиным скопом стоим,
- Артиллерия бьет по своим.
- Это наша разведка, наверно,
- Орьентир указала неверно…
Поэт А. Межиров столько раз переделывал эти стихи, чтоб они попали в печать, что трудно найти сборник, в котором они были бы в истинном виде…
Я помню на набережной Фонтанки заколоченные двери ликвидированного тогда же Музея обороны Ленинграда.
Летом 50 года, в студенческом летнем военном лагере при воинской части, мы ехали на понтоне вдоль широкой и вольной реки на Северо-Западе. Мы плыли тремя понтонами. Нас было человек двадцать. Городские ребята, студенты – только в гимнастерках и в мокрых пилотках. Было жарко. Справа на пути уходили в воду мостки, с которых обычно деревенские женщины стирают белье. Но тут было нечто необыкновенное: целый женский колхоз высыпал на берег. Одни женщины, и не было мужчин. Случайно это было, пришли искупаться? Мы ехали, а они смотрели на нас. Их было много – разного возраста. Среднего. Совсем молодые. Целая толпа. Не в купальниках, а в белых лифчиках и в тех чудовищных цветных панталонах с резинкой на бедре почти над коленом, какие наши матери проносили всю войну и еще долго после носили. Эти панталоны бездарно портили женскую фигуру. Про этот женский колхоз из переселенцев мы знали: что он неподалеку. И что в нем почти одни только женщины. Оттуда в часть приезжали бабушки и звали ребят приехать на вечерок, когда отпускают из части. «Надо побыть с женщинами, – говорили они. И добавляли просто и обыденно: – Мальчики, нам дети нужны!» Умеет же русский человек сказать в лоб, вот так, самое важное – и без стеснения.
Поэты на съезде, конечно, перессорились меж собой.
Нас, «маленьких», это не касалось. Зато мы успели послушать последнюю лекцию Григория Александровича Гуковского, автора книг о Пушкине, о Гоголе… блестящего литературоведа, хотя, во многом, и типично советского. Его арестуют буквально через две-три недели, и он погибнет в застенке.
Это тоже был «настоящий конец большой войны».
Я редко смотрю телевизор или совсем не смотрю. Только в День Победы и близко к нему. Но года два назад показали пленку, которая вроде долго была в забвении или просто потеряна.
День Победы – 9 мая 1945-го в Ленинграде. Толпа идет по Невскому.
Я вижу эту толпу и ищу в ней себя. Я тоже там – мне 14 лет. Мы все идем к главной площади города. Не помню: звалась ли она тогда уже Дворцовой? Или была еще Урицкого?
«Чтобы она была такая – // Взглянуть и глаз не отвести!» – писал Сергей Орлов о грядущей победе. Ну вот она – глядите!
И надо постараться не слышать – и сейчас не видеть в воспоминании – как на углу Невского и Пролеткульта кто-то взывает: «Люди советские, помогите бандита задержать!» – и у него кровь течет с лица. А мимо идут люди советские, победившие Гитлера и самую страшную военную машину фашизма, – и стараются не смотреть. Бандитов в городе много – это тоже последствие войны. Мир трудней войны – всегда так было, всегда так будет! В войну есть ясность более или менее – кто друг, кто враг. В войну понятней, за что надо жертвовать жизнью.
И все равно… «Глаз не отвести!» Это День Победы в Ленинграде.
Я пытался на этих страницах рассказать то, о чем никогда не говорил. И назвать по имени какие-то вещи, которые не так просто назвать.
Томит неназванное…
В тылу тоже был фронт
Мазуров Алексей Гаврилович
С 1943 по 1945 г. юный труженик тыла, сапер, работал в колхозе им. С. М. Буденного в Бесединском районе Курской области.
Плечом к плечу победу ковали фронтовики и труженики тыла. В период войны существовал жестокий закон для всех – все население от 12 до 60 лет обязательно должно работать для нужд фронта. В тылу тоже был фронт, выживали как могли, пухли от голода и недоедания. Но отработали множество трудодней на рытье окопов, установке оборонительных сооружений. Сбор смертоносного «урожая» с курских черноземов поручался 15– 16-летним подросткам, в том числе и мне: подстегивала великая нужда засеять хлебом поля освобожденных от фашистов территорий, начиненных смертью, очистить улицы города от взрывоопасных предметов.
После войны по комсомольской путевке работал на различных стройках: необходимо было поднимать народное хозяйство, строить дома, заводы.
Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За Победу над Германией», «300 лет флоту» и многими другими.
Все мои военные воспоминания связаны с мамой
Баранова (Меркулова) Алла Сергеевна, 15.05.1939 г. р
Я, Баранова (Меркулова) Алла Сергеевна, родилась 15 мая 1939 года.
Стройную картину моего «военного» детства восстановить невозможно, остались только отрывочные воспоминания: к началу войны мне было два года. Мои первые воспоминания связаны с началом бомбардировок немцами нашего города. Помню, как по радио раздавались звуки сирены и метронома, а затем слова: «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога…» Мы с мамой в это время жили вдвоём, так как папа, Меркулов Сергей Григорьевич (1900 г. р.) и братья Меркулов Евгений Сергеевич (1922 г. р.) и Меркулов Юрий Сергеевич (1925 г. р.) отсутствовали – тогда я не понимала почему. Как я узнала потом, отец и старший брат были на фронте, а младший брат в 16 лет был зачислен курсантом в ГУЗА (Горьковское училище зенитной артиллерии).
Услышав сигнал воздушной тревоги, мы с мамой выходили на крыльцо нашего дома (спали мы одетыми, в шубах и обуви, чтобы не задерживаться после сигнала тревоги). Соседка сверху, пожилая женщина, выходила, надев на себя две шубы и три муфты, – спасала самое дорогое. У остальных хватало чувства юмора в таких обстоятельствах обсуждать этот факт.
Услышав сигнал воздушной тревоги, мы с мамой выходили на крыльцо нашего дома (спали мы одетыми, в шубах и обуви, чтобы не задерживаться после сигнала тревоги). Все дома на нашей улице в самом центре города были тогда деревянными. На крыльце собирались обитатели нашего подъезда, видимо, им казалось, что так безопаснее. Соседка сверху, пожилая женщина, выходила, надев на себя две шубы и три муфты, – спасала самое дорогое. У остальных хватало чувства юмора в таких обстоятельствах обсуждать этот факт.
Тон задавала мама (Меркулова Анна Ивановна, 1898 г. р.). Стараясь смягчить тревожную обстановку, она говорила:
Ночью я просыпалась и чувствовала, что мама плачет.
Я ладошками проводила по её лицу, а мама делала вид, что спит.
«Посмотрите, как красиво!» В ночном небе висели осветительные бомбы. Раздавались глухие звуки разрывов: бомбили автозавод, но и в центре города иногда падали бомбы. Я, самая маленькая обитательница нашего дома, в ужасе забивалась в угол коридора и стояла там до отбоя. Запах пыли в этом углу я помню до сих пор.
Это было начало войны, а затем потянулись годы тревоги и ожидания. Ночью я просыпалась и чувствовала, что мама плачет. Я ладошками проводила по её лицу, а мама делала вид, что спит. Конечно, страх за своих самых близких и дорогих людей не давал ей спать.
Брата Юрия по окончании учёбы в училище направили на Автозавод, защищать его от бомбардировок. И однажды пришло извещение о том, что Юра пропал без вести. Мама стала ездить в воинскую часть, чтобы хоть что-то разузнать про судьбу сына. Ездить приходилось со мной, поскольку оставить меняя было не с кем. В то время добраться до Автозавода из центра города можно было только на трамвае, с пересадками дорога занимала три часа в один конец. В части сначала не могли дать никаких сведений.
Измученная и расстроенная, мама возвращалась домой. И однажды она забыла меня в части. Как она рассказывала потом, проехав больше половины пути – до Московского вокзала, где делали пересадку, она вспомнила, что в руке у неё что-то было. В ужасе она бросилась назад и нашла меня в части – вместе с солдатами я уплетала кашу. Позднее выяснилось, что брат жив: вместе с орудием его снесло взрывной волной с крыши цеха, на которой он отражал налёт немецких бомбардировщиков, когда на соседний цех упала бомба. Без сознания он был доставлен в госпиталь в Дзержинск – город в Горьковской области. Он был контужен, но его подлечили и направили на фронт.
Часто соседи по двору собирались и обсуждали события на фронте, рассказывали друг другу, кто вернулся, кто ранен. Однажды и я вмешалась в этот разговор: «А я какого раненого видела – руками машет, а сам без головы!» В действительности человек шел в зимнем пальто с поднятым воротником, и голову не было видно. Эта картина отчётливо вспоминается мне и сейчас.
Потребление электричества было строго ограничено, по квартирам ходили контролёры, выявляющие нарушения. Однажды к нам пришла женщина-контролёр, которую мама увидела в окно. Быстро выключив плитку и сунув её под кровать, мама пошла открывать дверь, а меня, уже одетую, вела гулять. Я, встретясь с контролёром на лестнице, приветливо ей сказала: «Проходите-проходите, мы уже плитку спрятали под кровать».
Потребление электричества было строго ограничено, по квартирам ходили контролёры, выявляющие нарушения. Однажды к нам пришла женщина-контролёр, которую мама увидела в окно. Быстро выключив плитку и сунув её под кровать, мама пошла открывать дверь, а меня, уже одетую, вела гулять. Я, встретясь с контролёром на лестнице, приветливо ей сказала: «Проходите-проходите, мы уже плитку спрятали под кровать». Женщина долго смеялась и ушла, так и не выписав нам штраф. В другой раз, войдя в дом, эта же контролёр первым делом сунула руку под кровать. И обожглась. Очень рассердилась и оштрафовала нас уже в двойном размере.
Мама работала, а я жила у дедушки с бабушкой, которые меня очень любили, никогда не сердились. Только один-единственный раз дедушка рассердился на меня: он повёл меня к маме на работу, повидаться, а я никак не хотела уходить, громко плакала, цеплялась за маму. Всё-таки меня увели, и я первый и последний раз видела дедушку сердитым. Помню, что бабушка держала кур, и я удивлялась, почему они не бегут ко мне, когда я кричала «Цып-цып-цып», а к бабушке мчались по первому зову. Утром мне на завтрак варили яичко в самоваре. Вообще, мне не пришлось испытать чувство голода, хотя лакомством для меня было: блюдечко с растительным маслом, посыпанным солью, в которое нужно было макать чёрный хлеб. Еще мама делала «мурцовку» – по ее выражению. Это тюря из черного хлеба с водой, в которую добавлен лук и растительное масло, а иногда и размятая вареная картошка. В отличие от других семей в нашем дворе мы считались «богатыми» – у нас было красивое жилье, я была всегда нарядная – мама ведь получала деньги по трем аттестатам – за воюющих мужа и двоих сыновей.
Друг моего брата Юры, Герой Советского Союза Иван Егоров, его сокурсник по ГУЗА, устроил меня в детский сад – директор детского сада не смогла отказать герою-богатырю. В 1945 году Иван был участником Парада Победы на Красной площади.
С мамой связаны все мои военные воспоминания. Она была ярким, остроумным человеком, большая выдумщица: какие истории, какие сказки она сочиняла! Много детей из нашего двора и даже из соседних домов собирались каждый вечер у маминой подруги (у нее самой было трое детей, а муж погиб на фронте), чтобы слушать сказки с продолжением. Помню сказку «Двенадцать препятствий» маминого сочинения, и это была такая захватывающая и страшная сказка, что ребята, сидевшие с краю, старались потеснее прижаться к остальным.
Однажды мама задумала общественно полезное мероприятие – очистить двор от мусора и привести его в божеский вид. Она организовала всех детей нашего двора, пообещав в награду нечто фантастическое – всем купить билеты в ТЮЗ. Двор был вычищен, я со своей подружкой носила в детском игрушечном ведерке обломки кирпичей. Мама сдержала обещание: всем двором мы ходили на спектакль «Финист – Ясный сокол». До сих пор мои дворовые друзья вспоминают и сказки, и театр.
С мамой на новогодней ёлке
Была в нашем доме и новогодняя елка, на которую были приглашены все мои дворовые друзья и соседские ребята. Мама договорилась в детском саду, чтобы дали новогодние костюмы бусинок, снежинок, клоунов. Моя троюродная сестра Роза была Дедом Морозом – в костюме, с красным носом, с подарками. Сохранились фотографии, на которых Дед Мороз, ребята в костюмах, заведующая детским садом Валентина Яковлевна, воспитательница Нина Александровна, мама и я в костюме клоуна.
Было весело, а самое главное, было угощение.
Сохранились яркие воспоминания о сообщениях по радио об освобождении территорий, ранее захваченных немцами: «В ознаменование побед произвести салют двадцатью артиллерийскими залпами». Такие салюты в нашем городе происходили на площади Минина – центральной площади города, в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Мы ходили смотреть эти салюты, совсем не похожие на нынешние: они не были такими красочными, поскольку залпы производились из боевых орудий, но, в сочетании с разрывающими ночное небо прожекторами, казались фантастическими. Толпы ликующего народа собирались на площади. Однажды во время такого салюта произошло курьёзное событие: обломки снарядов падали на землю, и один из них вдруг, шипя, подполз к нашим ногам и полез вверх по штанине моей подруги, оставляя прожженную дорожку.
Рядом с нашим домом был стадион «Водник», там мы гуляли, играли, а позднее катались на коньках. Мама отправляла меня «в школу»: я брала книжку «Русские народные сказки» и шла на стадион, там я проводила полдня и возвращалась домой. Однажды я услышала, как за мной по тропинке между сугробами кто-то идет. Я не оглядывалась, и человек дошел со мной до дома, а человек этот был мой папа. Он вернулся с войны.
1945 год
Все вернулись живыми и здоровыми. Отец, бывший по образованию гидрологом, до самой пенсии работал в Гидрометцентре. Старший брат Евгений окончил Московский юридический институт, но юристом работал мало – трудился на производстве. В конце войны мой отец и старший брат, воевавшие в разных полках, встретились в Германии, о чём было напечатано в какой-то армейской газете. Вырезка до сих пор хранится в нашей семье. Брат Юрий – кадровый военный. В конце войны он был оставлен в армии, направлен на Дальний Восток, окончил Харьковскую радио-артиллерийскую академию, служил во всех «крайних» точках Советского Союза: на севере – остров Рыбачий, на юге – Ташкент, на Кубе, вышел в отставку в звании полковника. Он был очень яркий, талантливый, неординарный человек.
Я, закончив школу, поступила в Горьковский универститет на физико-математический факультет. По окончании аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию, работала в Горьковском физико-техническом институте, а затем 37 лет – доцентом кафедры теоретической механики Горьковского инженерно-строительного института (сейчас Нижегородский архитектурно-строительный университет).
Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой
Мурашкина Маргарита Дмитриевна, 1933 г. р
Родилась 4 ноября 1933 года в деревне Парамоново Дмитровского района Московской области.
Когда закончила первый класс, началось самое страшное – Великая Отечественная война. Школа тогда находилась в Головинском лесу у пруда (в «Головинском» доме). При школе работал буфет, там были очень вкусные козинаки. Мы заклеили полосками черного сатина стекла окон, чтобы сохранить их во время бомбежки.
Когда пришли на сборный пункт, отец отдал мне и сестре Любе свои часы.
Нашего папу Д. И. Мурашкина (портного по профессии), отца восьмерых детей и дедушку четырех внуков, призвали на фронт. И мы всей семьей пошли его провожать. До Сталь-Моста за фабрикой дошли пешком. Когда пришли на сборный пункт, отец отдал мне и сестре Любе свои часы.
Всё хозяйство нарушили, немец далеко, но мама осталась с такой оравой.
Опять пришлось взять во двор корову (сельским без хозяйства нельзя).
Над поселком пролетел самолет, строча из пулемета. Брат смотрел из бинокля и увидел фашистский знак. Мне он тоже дал бинокль, и я увидела фашистский самолет.
На Почтовой улице домов не было: были овощехранилища и огромное поле, которое бомбили. Фашисты бомбили, потому что думали, что есть скрытые объекты под землей. Бомбили всё: церковь, больницу, вокзал. На железнодорожном пути стояли вагоны, загруженные бинтами, которые шли с Икши. Вагоны тоже подверглись бомбежке и загорелись. Мы с сестрами побежали тушить. Вынимали упаковки с бинтами, били их об землю, сбивая пламя. Тушили кто как мог. На станции «Турист» зенитки и пулеметчики сбивали фашистские самолеты.
И все это на наших глазах. Мы, трое девчонок, разбежались (в разных новых кофточках: зеленая, салатовая, синяя, – которые надела нам мама, чтобы мы не потерялись). Мама увидела, где мы, и ахнула. Тогда мы твердо решили убежать в партизаны.
Потом начальник станции Воронин погрузил нашу маму Вассу Федоровну и нас – всех её детей – в теплушки, и мы поехали до Икши к маминому брату, а затем в Москву. Мама тогда сказала, что Москву немцам не отдадут.
Сестра Валя, которая старше меня на год, вспоминала, что огромное наше орудие стояло на перекрестке Вокзальной улицы, где сейчас стоит универсам «Пятерочка». В доме на Вокзальной улице стоял пулемет. В нашем доме № 8 на Вокзальной расположился штаб. Дом помыли. Вскоре на улицу Вокзальную перегнали танк. Миша Гдаль был старший в группе, Кураш – заряжал. Потом танк погрузили на широкую платформу и отвезли на передовую. Я помню, что они пели песни по-украински и варили кашу из гречневых концентратов. Восстановили завалинку в подполе. Крыша нашего дома была как решето после бомбежки. Разобрали дом на Почтовой, где погибла бабушка.
После бомбежек немцы оставили тяжелый след. Взрывчатку прятали в мыле, и не только в нем. Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой. Одна такая находка закончилась трагедией для одноклассника Смирнова Николая, который остался без пальца. Его двоюродный брат
После бомбежек немцы оставили тяжелый след. Взрывчатку прятали в мыле, и не только в нем. Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой.
Евгений тоже нашел в Парамонове взрывчатку и остался без пальца. Наша соседка Горчакова Вера с сестрой Татьяной нашли карандаши, стали их ковырять, и получился взрыв. Вера погибла, разорвало всю. У Татьяны все лицо побило порохом. Их мама в это время была в военкомате, вернувшись, увидела трагедию.
Мы, дети, были заняты учебой в школе, помогали техничке, а вечером шли в кино. Школа № 1 тогда находилась там, где сейчас администрация поселка Деденево. Кинозал находился в трапезной монастыря. В столовой перед ранеными мы, дети, читали стихи, кто какие мог. Раненых было очень много: танкисты, летчики, много тяжелых.
Самое главное для нас было – получить хлеб в 40-градусные морозы. Приходилось стоять в очереди, думать, где прикрепить карточки. Сначала в поселке была своя пекарня. Карточки стало можно прикрепить и в Дмитрове, но после восстановления железнодорожного моста, который был разрушен после бомбежки. У нас в поселке стоял мостопоезд – несколько вагонов, и рабочие мостотряда восстанавливали мост.
Около поселкового совета собрали всех собак. Их было не менее 500 штук. Поссовет тогда находился на улице Советской рядом с нашей библиотекой. Собаки сильно лаяли. Им надели сумки с красными крестами и всех наших меньших братьев отправили на фронт.
В Деденеве, в санатории инвалидов ВОВ лечился Герой Советского Союза летчик Маресьев. Ему был поставлен памятник. Он размещался на территории санатория за зеленым домом. Памятник впоследствии убрали с территории. Работая в Москве, я как-то ехала в электричке, и был телеопрос. Пришлось мне дать интервью о Маресьеве. Потом это показали по телевидению.
Часто вспоминаю школьные годы, возвращение молодых ребят с фронта, кто без рук, без ног, – в санатории инвалидов. Мы готовились выступать перед ними. Кто читал стихи и т. д. Отправляли на фронт кисеты и т. д. Приезжал Маресьев – летчик Герой Советского Союза. На то время у него была дача в Некрасовской. Поздней вышла книга «Повесть о настоящем человеке», посвященная Маресьеву.
Братья мамы носили фамилию Борисовы и проживали в Икше. Павел Федорович и Василий Федорович, 1900 г. р., были на фронте. Павел скончался в госпитале Томска от ран. Василий на Икше работал после войны продавцом. А его сын Александр Васильевич, 1926 г. р., работал в летной эскадрилье во времена ВОВ, потом работал в Шереметьево, в аэропорту. Арсений – брат отца (1928 г. р.), воевал в войсках авиационным механиком. Прошел всю войну.
После войны я закончила школу рабочей молодежи, затем Московский авиационный техникум по специальности «Обработка металлов резанием», получила квалификацию техник-технолог. Всю жизнь работала, сейчас – ветеран труда, много лет занималась спортом, особенно любила лыжи. Сейчас проживаю в г. п. Деденево, являюсь почетным членом краеведческого клуба «Родник» Деденевской поселковой библиотеки.
Дети не притронулись к подарку от немцев