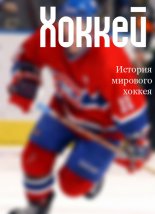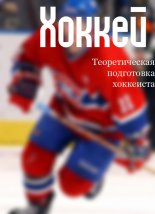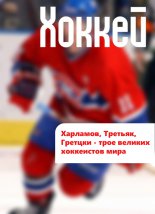Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
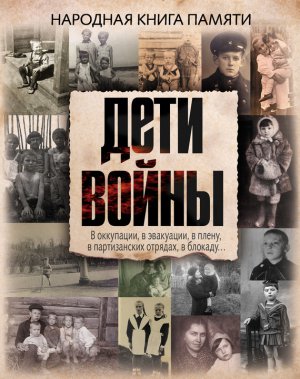
Нас поднимали в 5 часов утра, рабочий день длился 12 часов. Работали в две смены на станках. От изнурительного труда, от голода мы теряли сознание. Деревянные башмаки натирали распухшие ноги. Мучительно хотелось есть. До сих пор помню вкус лагерного супа из брюквы.
После страшной бомбежки союзников была взорвана плотина. 20-метровый столб воды хлынул на бараки, где жили малолетние узники. Бараки запирались на ключ, и тысячи людей оказались заживо погребенными. Только в одном бараке полицейский открыл дверь и крикнул: «Русские, идет вода».
Три года нас днем и ночью преследовали мысли о еде. Три года нас презрительно называли «Русская свинья». Три года – это тысяча дней рабского труда. Среди них есть один день, который и поныне заставляет просыпаться в холодном поту. Это случилось 17 мая.
После страшной бомбежки союзников была взорвана плотина. 20-метровый столб воды хлынул на бараки, где жили малолетние узники. Бараки запирались на ключ, и тысячи людей оказались заживо погребенными. Только в одном бараке полицейский открыл дверь и крикнул: «Русские, идет вода».
Мы, раздетые, разутые, рванулись через лаз в колючей проволоке, через ров, речку, к горе. Мы цеплялись за каждый кустик, каждую травинку и ползли в гору, которую потом назвали «Спасительницей». Вода неслась стремительно, от многотысячного лагеря в ту страшную ночь осталось не больше 50 человек. В этой катастрофе я потеряла сестру и подруг по неволе.
А потом нас, чудом оставшихся в живых, голодных, каждый день гоняли на расчистку равнин. И там, под бревнами и завалами, мы находили тех, с кем еще вчера были вместе…
Я была в четырех концлагерях, все выстрадала, пережила и дождалась долгожданного освобождения. Мы вернулись на родину, к мирной жизни.
Родина встретила разрушенными городами, селами, похоронками. Только в нашей семье погибло двадцать человек. Дорогой ценой заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне.
После концлагеря всю жизнь боюсь собак
Олифиренко Лилия Владимировна, 1938 г. р
Я родилась 27 ноября 1938 года. Когда началась Великая Отечественная война, мне было три с половиной года. Отец Владимир Васильевич воевал на Карельском фронте, а мы с мамой и маленькой сестренкой поехали в отпуск к бабушке. Жила она в 17 километрах от Витебска. Так мы попали в самый центр партизанского движения.
Что помню: как горел наш дом во время боя между партизанами и фашистами. Когда садилось солнце: зарево заката всегда напоминало мне о пожаре – большое, красное. Меня долго не могли раздеть на ночь: я боялась, что опять нужно бежать от пожара. Затем жили в сарае с коровой – румыны ее сохранили для себя, молоко забирали под конвоем, никогда детям его не оставляли. Правда, бабушка несколько раз недодаивала корову, а потом румыны это заметили и били бабушку. Сохранилось в памяти зарево над городом при бомбежке, как мы прятались от трассирующих пуль и снарядов в ров вблизи речки Хроповлянки. Меня подхватывали за руки сестра и мама, только ноги болтались в воздухе. Помню зеленый самолет с красной звездой, летящий вдоль улицы и стреляющий по немцам.
Меня долго не могли раздеть на ночь: я боялась, что опять нужно бежать от пожара.
В 1942 году меня с мамой поместили в гетто на 12 дней, так как мама отказывалась выходить на работу. Хорошо, что нас не выдали, ведь папа и два брата мамы были офицерами и воевали на фронте, иначе меня с мамой бы расстреляли. Один брат, Геннадий Филимонович Виноградов, погиб в 1942 году. Судьба Петра Филимоновича Виноградова неизвестна до сих пор, от него было последнее письмо в 1945 году, что воюет со злейшими врагами. Нас из гетто освободили по просьбе помещицы, приехавшей из Польши в свое бывшее имение, где работала бабушка под охраной румын. С апреля по август 1943 года я находилась в концлагере с мамой и сестрой, на территории бывшего «5-го железнодорожного полка», где находились военнопленные и население после карательной операции по поиску партизан.
Перенесла ужасы концлагеря: голод, холод, побои, падение со второго яруса нар, ожоги рук, заражение сыпным тифом, страх. Мы уже понимали, что за неповиновение – расстрел. Заставляли работать даже детей, моя сестренка 11-ти лет вместе со взрослыми копала ямы, куда потом сбрасывали трупы, расчищала железнодорожные пути, рубила лес, зашивала рваную одежду – шинели, одеяла немецкие и русские, стирала их. Нам делали какие-то уколы и били нас, если мы плакали. До сих пор не могу погладить даже щенка овчарки – страх. Боюсь до сих пор крыс (в детстве – до обмороков), так как крыса укусила меня за щеку, оставив след. Мы, малыши, подходили к колючей проволоке и просили у охранников еды: немцы еще что-то давали, а румыны – никогда и направляли на нас оружие.
Мы, малыши, подходили к колючей проволоке и просили у охранников еды: немцы еще что-то давали, а румыны – никогда и направляли на нас оружие.
Как наша мама смогла сохранить мне и сестренке жизнь в эти годы?
После ВОВ жили в Белоруссии, там я закончила среднюю школу, ФДЧ – была бригадиром швейного цеха фабрики им. Ким. Вышла замуж. Мой муж тоже был военным. Работала в Карелии, на Кольском полуострове по месту службы мужа. Закончила в 1973 году Крымский мединститут. В Крыму проживаю с 1965 года. У меня дочь, внучка и зять.
Но о пережитом во время войны не забыть никогда.
Немец-истопник вывел нас в лес
Федотова (Крушевская) Нина Ивановна, 1943 г. р
Я родилась в 1943 году в Германии, в городе Аусбург. До войны семья моей мамы – Анели Крушевской – жила в селе Рытово Житомирской области. Комсомольская бригада, в которой мама работала, находилась далеко в лесу, на торфоразработках, ребята даже не знали о начале войны. Так всю бригаду и отправили на принудительные работы в Германию. На вокзале в Чудово она случайно увидела знакомых и сообщила об этом семье.
Мама вспоминала, что до Берлина они ехали семь суток, кормили плохо. В Берлине была сортировка, в Мюнхене – тоже, а до Аусбурга колонну гнали пешком с охраной и собаками. В Аусбурге – снова сортировка. Мама попала на авиационный завод, где работали 5–6 тысяч человек. Ей было 22 года, а военнопленному украинцу Владимиру Осташевскому – 26. Была любовь, они встречались тайно за бараками. В 1943 году родилась я. В моем свидетельстве о рождении на немецком языке в графе «отец» стоит только номер 517…
Детей в лагере содержали в детском блоке, воспитательницами были немки. Матерей пускали раз в неделю на десять минут. У детей постоянно брали кровь, меня спасла моя третья группа.
Война шла к концу, и ночью пленные видели, как вокруг лагеря немцы спешно устанавливали бочки с бензином. Мама вспоминала, что в два часа ночи в женский блок забежал старенький немец-истопник и стал кричать, чтобы женщины срочно забирали детей. Через лаз в заборе он вывел всех в лес. Минут через 30 на завод началась массированная бомбардировка. Лес был ухоженным, спрятаться негде.
Детей в лагере содержали в детском блоке, воспитательницами были немки. Матерей пускали раз в неделю на десять минут. У детей постоянно брали кровь, меня спасла моя третья группа.
По лесу мечутся женщины в полосатых робах с детьми на руках. Одной оторвало ногу, другой руку, третьей повредило лицо. Мама бежала и падала, прикрывая меня своим телом. Уже около 5 часов утра бомбежка закончилась. Женщины сбились в кучку. Куда идти? Снова в свой лагерь. А там ходят мужчины в пятнистой форме. Американцы стали бросать женщинам с детьми шоколад и все съедобное, что у них было.
Лагерь ликовал. Самого лютого немца бывшие заключенные буквально растерзали.
Через неделю самых крепких мужчин направили на вокзал. Мама бежала за колонной и плакала: «Володя, куда вас ведут?» Он крикнул только: «Береги дочку». В лагерь на восьмой день вошли советские войска.
После шести месяцев изнурительных проверок мы вернулись домой. Во время войны в деревне сожгли 180 жителей. Встретили нас в деревне враждебно. Меня звали немкой, ребята бросали камни, палки, однажды за пазуху запихали змей. Ютились мы сначала у знакомых, потом в разрушенном доме. Мы бедствовали, голодали. Спас переезд в Крым. В селе Цветочном Белогорского района я пошла в первый класс. За партой часто теряла сознание, была желтой как воск. Меня жалела и помогала учительница Ольга Домбрэ, ленинградка.
Я вступила в комсомол, была активисткой, патриоткой.
В Симферополе закончила строительное училище. Там встретила своего будущего мужа Ивана Ильича Федотова. Вышла замуж в 18 лет. У нас двое замечательных детей Александр и Оксана, трое взрослых внуков, а с Иваном Ильичом мы отпраздновали золотую свадьбу.
Нас били за малейшую провинность
Лобанова Вера Венедиктовна, 1926 г. р
«Вороний мост» – «Raven Brucke» – именно так назывался центральный, и самый большой женский концлагерь фашистской Германии, узницей которого я была.
Я родилась в 1926 году в поселке Саки. 22 июня 1941 года я была в пионерском лагере в Бельбеке. После «костра» старшие девочки пошли встречать рассвет, но встретили войну.
30 октября в Саки ворвались фашисты, мы оказались в оккупации. Начались репрессии: повесили Тертышного, расстреляли евреев, комсомольцев химзавода и врачей местной больницы. Началась вербовка на работу в Германию. Первый эшелон ушел 25 июля 1942 года.
22 июня 1941 года я была в пионерском лагере в Бельбеке. После «костра» старшие девочки пошли встречать рассвет, но встретили войну.
Юноши и девушки стали получать повестки и прятаться по деревням – ехать добровольно никто не хотел. Тогда начались облавы. 10 августа я попала в телячий вагон и 1 сентября 1942 года оказалась в Австрии; попала в небольшой городок Краубат Нижней Австрии
к хозяину Георгу Гопфу. У него была небольшая гостиница. Там я познакомилась с Иосифом Чарным, который организовывал отряды из бежавших военнопленных и остарбайтеров. Однажды хозяйка отправила меня с обедом туда, где отец с сыном пилили деревья; я их быстро нашла по звуку пилы и увидела с ними наших военнопленных. Хозяин сказал солдату, что я русская, Вера, тогда солдат попросил меня достать гражданскую одежду и спрятать возле камня, на котором обедал хозяин. Я это сделала.
Назавтра принесли красные треугольники с буквами той страны, откуда родом, и номера на белой полоске (она была пять на пятнадцать сантиметров). Мой номер был 19760. Теперь у нас не было ни имени, ни фамилии, мы «гефтлинги».
В декабре меня арестовали, избили и посадили в подвал, но скоро выпустили под подписку хозяина. Им нужна была работница, так как старший сын воевал под Сталинградом, а невестка училась в другой стране. Их ребенку было всего несколько месяцев. Так я прожила под домашним арестом некоторое время, но в Страстную пятницу (13 марта) меня арестовали, надели наручники и повезли поездом в Грац, посадили в Шлоссбергскую крепость. Там я пробыла до 2 мая 1943 года. Оттуда – в Вену, затем в Брно, Дрезден, Берлин и в Равенсбрюк. Там нас раздели догола, сняли все украшения, вынули золотые зубы, остригли наголо, отправили в душ, оттуда – на осмотр коменданта. Голыми построили в шеренгу по одному, и началась экзекуция. Вопрос: «Откуда и за что попала в концлагерь?» – и удар плеткой, рядом стояла переводчица и записывала имя и фамилию. Некоторые называли не свои и получали тоже удар плеткой.
Потом выдали белье, платья синего цвета, фартук, косынку и маленькое полотенце, как носовой платок, и повели в 17-й блок с двухэтажными кроватями. Назавтра принесли красные треугольники с буквами той страны, откуда родом, и номера на белой полоске (она была пять на пятнадцать сантиметров). Мой номер был 19760. Теперь у нас не было ни имени, ни фамилии, мы «гефтлинги» [17].
Через неделю нас перевели в 26-й блок и послали на работу.
Я была на строительстве главной улицы Гауптштрассе. Военнопленные русские подавали нам вагонетки с песком наверх, а мы их подхватывали и везли на строительство, высыпали песок, возвращали вагонетки в карьер – так до обеда. Баланду проглотили – и опять до темна. Так каждый день: подъем, аппель (проверка) и работа. Мне пришлось и каток таскать на этой же дороге, огромными молотками рубить камни в карьере.
Страшными были собаки.
У меня на правом предплечье отметка, у моей подруги Нины были раны на животе. А скольких загрызали до смерти собаки и забивали до смерти розгами…
Работа – это не самое страшное, страшное – это дисциплина: за малейшую провинность плетки, бункер, где стоишь по колено в воде и не можешь даже на край ванны присесть, надсмотрщик уже кричит: «Ауфштейн!»[18]. В бункере моя сокамерница Галина Мироненко не выдержала эту казнь. За малейшую провинность зимой разденут до рубашки и обольют холодной водой. Стоишь, пока не упадешь.
Страшными были собаки. У меня на правом предплечье отметка, у моей подруги Нины были раны на животе. А скольких загрызали до смерти собаки и забивали до смерти розгами…
27 апреля нас вывели из лагеря, построили по пятеркам и повели на север. На вторые сутки я убежала в лес, там и встретила наши советские войска 2-го Белорусского фронта, в/ч 28822, с которой и приехала в Белоруссию, а потом домой на перекладных 30 октября 1945 года.
В Австрии я встретила русских подпольщиков
Зубовская (Подгаецкая) Людмила Семеновна, 1927 г.р
Малолетняя узница трудового лагеря в г. Айзеренц (Австрия), Равенсбрюк (Германия), Нойенгамме (Гамбург). Участница войны, инвалид III группы.
10 июня 1942 года нас погнали на вокзал. Здесь в толпе я увидела свою двоюродную сестру Люду Беляеву. Нас погрузили в один вагон-«телятник» и повезли. Ехали долго, голодно.
Привезли нас в Австрию, в небольшой городок Айзеренц. Лагерь был огорожен колючей проволокой, по которой пропущен ток. Сестра работала на кухне, иногда ей удавалось спрятать и принести кусочек хлеба, а меня отправили на работу в шахту. Мы отделяли руду от породы. Однажды я работала во второй смене, конвейер остановился. Я устала и уснула. Надзиратель с бранью вытащил за волосы и стал бить, а я нечаянно ударила его деревянным ботинком. Меня сразу в вагонетке спустили в лагерь, посадили в бункер. Там и просидела сутки, а на второй день стало известно, что меня повесят перед всем лагерем. Мне помогли бежать чехи, дали деньги, одежду, и я поехала в Грауа, где был русский лагерь.
В одном бараке оказались люди из Крыма. Меня прятали под тюфяками, делились едой. Вместе с колонной я ходила в город, но так долго продолжаться не могло, и я ушла из лагеря. Я оказалась одна в городе, а потом в столовой, куда мне в лагере дали талоны на питание, познакомилась с ребятами. Они спросили: «Кто ты – полячка?» Я заплакала и все рассказала. Они привели меня к бауэру, фрау дала кувшин с молоком. Ребята, как я поняла, были сбежавшие военнопленные, а бауэр – коммунистом. У ребят были оформлены документы, была немецкая форма. Они добывали, хранили и перепрятывали оружие, о своих действиях они не говорили, фамилий не называли. Когда выходили в немецкой форме на задание, я шла рядом как их девушка.
Однажды я работала во второй смене, конвейер остановился. Я устала и уснула. Надзиратель с бранью вытащил за волосы и стал бить, а я нечаянно ударила его деревянным ботинком. Меня сразу в вагонетке спустили в лагерь, посадили в бункер. Там и просидела сутки, а на второй день стало известно, что меня повесят перед всем лагерем.
Виктору, Паше, мне, Косте и Васе даже удалось сфотографироваться на память. Фото я через хозяина Кляйнца отправила сестре Людмиле Беляевой (она осталась жива и вернулась после войны графию, но передала ее мне другая узница, Валя. Так у меня осталась память об этих отважных ребятах. Я только случайно услышала, что Костя был из Севастополя…
Через некоторое время группу разоблачили. Меня ребята заранее отвели к хозяину столовой Кляйнцу, где я стала работать. Вскоре меня тоже увезли в гестапо. Меня били, очень сильно били и допрашивали о моих знакомых. Следователь палкой с наконечником бил по пальцам – до сих пор они кривые. Втащили избитого Пашу, спросили: «Это она?» Он только еле-еле повел головой. Очная ставка ничего не дала. Эсэсовец долго и зло смотрел на меня. Я подумала, что это конец. Зазвонил телефон, и он резко сказал: «Этап». Что случилось с Виктором, Костей и Васей, я не знаю.
Нас, человек 10–15, погрузили в вагон с военнопленными и отправили в концлагерь Равенсбрюк.
Вот тут-то я впервые испугалась. Первое, что меня поразило: люди – ходячие трупы, одна кожа и кости. Второе – чистота. Немцы очень боялись тифа. Мне присвоили номер 34701, одели в полосатое платье и тужурку. Часами стояли в аппеле, на ногах намерзали льдинки.
Я тайком приносила в барак полоски, которые вырезала, сплела портмоне, которое хранится у дочери как наша семейная реликвия.
Над нами постоянно издевались, была бесконечная работа, голод: суп из брюквы. Так я пробыла в Равенсбрюке около года. В конце 1944 года меня перевели в филиал концлагеря «Нойенгамме», где я работала в цехе по выпуску противогазов.
У меня было лекало, накладывала на кусок кожи и вырезала полоски шириной в палец, затем передавала на следующий стол. Работали целый день. Издевательства, побои. Однажды надзирательнице что-то не понравилось, и она так ударила меня по голове, что шрам остался на всю жизнь.
Я тайком приносила в барак полоски, которые вырезала, сплела портмоне, которое хранится у дочери как наша семейная реликвия.
Нас освободили англичане в первых числах мая 1945 года, отправили в русскую зону в г. Нойенбрандербург. Здесь мы проходили фильтрацию. Когда я заполняла анкету, вдруг услышала голос майора: «Люда, это ты?»
Он, оказывается, знал моих ребят-подпольщиков, знал и обо мне. Мы обнялись, и я заплакала. Майор посодействовал моему скорейшему возвращению на Родину.
Когда я приехала в Симферополь, папа вернулся с фронта, болел, старшего брата ранили на Сапун-горе, еще братик маленький. Надо было работать. Я пошла поступать учеником счетовода в Госбанк, а при заполнении анкеты мне сказали: «Нет». Обратилась в КГБ, рассказала все. Через неделю мне сказали: «Ничего не бойтесь, все будет хорошо».
Я поступила в Госбанк учеником, закончила курсы и стала квалифицированным специалистом. Работала на разных местах, последние 18 лет кассиром троллейбусного парка.
Моим мужем стал старшина Павел Иванович Зубовской, участник Великой Отечественной войны, защитник Малой земли, участник знаменитого керченского десанта. Он освобождал Крым, Варшаву, закончил войну в Берлине.
Дорогой смерти
Корниенко (Горбенко) Клавдия Николаевна, 1925 г. р
Когда началась война, наша семья жила в Днепродзержинске Днепропетровской области. Отец работал мастером на военно-ремонтном заводе, мама медсестрой в горбольнице. Город фашисты оккупировали в июле 1941 года и сразу стали расстреливать раненых прямо на больничных койках.
Мы, школьники, через своих знакомых прятали раненых на чердаках и в подвалах, помогали перейти к своим. Я стала связной подпольной группы. В городе появились виселицы, повешенных не снимали несколько дней, за нарушение комендантского часа расстреливали на месте.
Немецкую форму для проведения операций добывали партизаны, а мы, школьники, несли ее в село Романково, где горожане меняли одежду на еду. Было страшно, но мы уже знали, что дела у фашистов идут все хуже. Подпольщикам удалось освободить из тюрем узников-смертников.
Я возвращалась домой через станцию Баглей и попала под бомбежку. Меня ранило в ногу. Я потеряла сознание. Нас привезли в Днепродзержинск, в гестапо. Всех жестоко избили, мне выбили челюсть и отбили почки.
Из наших подпольщиков 27 человек расстреляли. Сейчас в центре Днепродзержинска установлена гранитная плита, где выбиты имена погибших.
Продолжались бои за Днепр. Накануне освобождения города начальник гестапо сказал молодежи нашей подпольной организации: «Я бы мог сейчас вас здесь расстрелять, но вы поедете в Великую Германию и будете много, очень много работать, пока не сдохнете».
Сначала мы попали в городок Игрень. Садист Кузенко проводил «инструкцию» – он отдавал команды: «Бегом, присесть, на четвереньках, встать, лечь…» Люди, измотанные в тюрьмах и гестапо, с трудом выполняли команды садиста, из ушей текла кровь. Тех, кто не мог встать, пристреливали.
В товарном поезде нас отправили в концлагерь Маутхаузен. Это было начало страшного пути в ад.
Над концлагерем стояла сплошная белая пелена каменной пыли. По высокой лестнице (ее назвали лестницей смерти) узники выносили большие каменные плиты к платформам товарного поезда. Часто охрана развлекалась тем, что сталкивала узников с лестницы вниз, а сверху сбрасывала плиты, чтобы попасть в живых людей, и хохотала. Это страшное зрелище было нам видно сквозь щели барака. Смотреть на это было невозможно, многим женщинам было плохо. Наш блоковый Ганс сказал, что скоро нас повезут в другой концлагерь, и он будет намного хуже.
На главных воротах лагеря была надпись на немецком языке: «Работа делает свободным».
Когда нас привезли, моросил дождь, было холодно. У брамы на камнях стояла группа женщин. Их черные халаты крест-накрест пересекала красная линия. Нам сказали, что это еврейки-смертницы. Женщины держали по кирпичу. Руки у них посинели и дрожали, а рядом рвались с поводка собаки. Это был день массовой казни евреев и цыган.
Замерзших и голодных, нас втолкнули в вестибюль крематория на санобработку. На левой руке машинкой выбили номер 65171. Надзирательница сказала: «Забудьте, как вас звали. Теперь у вас только номер. Выйти отсюда невозможно. Отсюда один выход – через трубу крематория».
Натолкали нас в барак намного больше, чем он мог вместить. Трехэтажные нары, на бок поворачивались по команде.
Надзирательница сказала:
«Забудьте, как вас звали. Теперь у вас только номер. Выйти отсюда невозможно. Отсюда один выход – через трубу крематория». Натолкали нас в барак намного больше, чем он мог вместить. Трехэтажные нары, на бок поворачивались по команде.
Мы усвоили главное лагерное правило: не попадаться на глаза капо-палачам, немцам, осужденным за убийство, бандитизм, проституцию. Они также носили полосатую форму, но новую, на правой руке, на желтой ткани была надпись: «KAPO». Они были помощниками комендантов лагеря, которые за убийство узника платили 60 марок. Сначала было привыкание к лагерным условиям: рыли ямы, перетаскивали камни, затем другая команда их закапывала. Работа тяжелая и бесполезная.
Через месяц перевали в рабочий лагерь «Б». Я попала в строительную бригаду – на строительство узкоколейки к другим филиалам Освенцима.
Силы уходили, одолевали болезни. Я попала в ревир (лагерную больницу), откуда больных отправляли в крематорий. Мне повезло: в ревире работала моя землячка, военнопленная Любовь Яковлева Алпатова. Пока я поправлялась, она меня прятала в комнате для медсестер и фактически спасла мне жизнь.
Нас привезли в Берген-Бельзен. Это был настоящий ад на земле. Крематорий не работал. Везде были горы трупов, политые жидкостью для сожжения. Воды нет, еды не дают. Оставшиеся в живых предупреждали: все отравлено. Лагерных номеров нам не давали. Это значило, что мы прибыли для уничтожения.
Но дорога в ад продолжалась: снова товарняки, снова нас везут неизвестно куда. После остановки мужчин высадили, а женщин отправили в Равенсбрюк. Четыре дня мы перетаскивали камни, переносили на носилках песок.
Затем снова команда: «Кто может ходить – выйти вперед». Вышли, собрав последние силы.
Мы попали в концлагерь, в команду «Дрезден», где был подземный завод, на котором производили самолеты «мессершмитт». Нас определили в наземный барак, где мы спали и работали на станках по обработке мелких деталей. Здесь мне присвоили лагерный номер 62711.
Скоро началась такая массированная бомбежка Дрездена, что работать стало невозможно. Весь лагерь спешно эвакуировали. Для меня это была вторая дорога смерти. Еды нам не давали, хотя каждый узник вез тележкус провизией для эсэсовцев и охраны. Вокруг грохот орудий, разрывы бомб, снова смерть идет рядом. Мы двигались через Пирну в крепость Кёнигштайн, где нас должны были загнать в штольни и отравить газом «Циклон-Б».
При подходе к крепости нас встретили советские солдаты. Надзирательнице и охране удалось сбежать. Нас забрали в передвижной госпиталь и помогли вернуться домой.
Взрослые накрывали нас, детей, своими телами
Гетова Эмма Павловна, 1939 г. р
Я родилась 18 января 1939 года в городе Славянске Донецкой области. Весной 1942 года нас с мамой и с семилетней сестрой Лилей угнали в Германию.
Нас везли в товарном вагоне, по дороге часто были сильные обстрелы, бомбежки. Люди кричали, плакали. Взрослые своими телами накрывали нас, детей. Я это хорошо помню.
Нас привезли в Берлин и загнали за колючую проволоку в бараки лагеря «Осткронц № 5». Взрослых гоняли на работу в Потсдам – с раннего утра и до позднего вечера мыть электрички. Поднимали в четыре утра криком «Ауфштейн, фир уп». Два раза в день кормили баландой.
Мы, дети, целый день находились в лагере, предоставленные сами себе. Спали на двухъярусных нарах. Перед сном мама на тряпочку вычесывала нам густым гребешком вшей. До сих пор при воспоминании мурашки по телу идут.
Днем мы часто подходили к полосатым столбам, где были вооруженные часовые, и просили хоть кусочек хлеба. Очень хотелось есть, но нам не давали. Из соседнего барака русский немец из Краматорска навязал нам с сестрой нянчить восьмимесячную дочь Олю, за что мы получали в неделю кусочек мыла и одну пачку печенья.
Очень хотелось есть, но нам не давали. Из соседнего барака русский немец из Краматорска навязал нам с сестрой нянчить восьмимесячную дочь Олю, за что мы получали в неделю кусочек мыла и одну пачку печенья.
Девочка была очень капризная, и мы очень уставали. Чтобы избавиться от нее, мы во время ее сна выстригли ей на темени волосы, после чего очень испугались и сбежали, спрятавшись на мусорнике. Там сестра взяла с меня клятву, что правду скажем маме только после войны, а тогда сочинили свою историю. Нас до ночи искали всем бараком. Наказания мы избежали, видимо, из-за своего возраста, но ребенка нам больше не доверяли.
В моем воспоминании очень запомнился день освобождения. Это был май 1945 года. Нас освободила Советская армия. Низко летали самолеты, крики радости и слезы – все перемешалось. Мужчины достали телегу и поехали к бауэру за продуктами. Потом жгли костры, и много было еды, которая нам и не снилась. А затем было возвращение домой, на родину, которая нас встретила враждебно, считая чуть ли не врагами народа.
Из того ада у мамы чудом осталась фотография, где она очень худая, с большим номером на груди. К сожалению, из-за гонения моя сестра спалила это фото. Прошло много лет, но пережитый кошмар часто вспоминается.
Вонь гнилой брюквы преследует меня до сих пор
Фомкин Валентин Васильевич, 1936 г. р
Бывший малолетний узник немецкого концлагеря. Родился 14 апреля 1936 года. Был вывезен из Крыма в июле 1942 года. Инвалид войны первой группы.
Летом 1942 года мы с мамой жили в Керчи Крымской АССР. Оттуда нас угнали в лагерь для восточных рабочих в городе Гельзенкирхен. Лагерь располагался на бывшей спортивной площадке на Дессауэр-штрассе, в так называемом Новом городе. Вокруг нашего лагеря располагались и другие лагеря, притом много лагерей, в которых содержались люди из разных европейских стран. Всего в Гельзенкирхене было 75 лагерей, в которых содержалось до 10 тысяч невольников из всех стран Европы, покоренных фашистским режимом.
Мама работала на сталелитейном заводе фирмы «Рургиталь», я же вначале оставался при лагере, где занят был на переборке гнилой вонючей брюквы в подземном овощехранилище. Вонь гнилой брюквы преследует меня до сих пор, так как нас этой же гнилью, сваренной в котле, кормили три раза в день. Кроме переборки гнилья, грузил на подводы различные отходы, мусор, носил воду в бидонах с таким же, как и я, мальчиком Сеней. Так было ежедневно до 1944 года. Осенью того года мама вымолила у нашего надзирателя-эсэсовца по имени Генрих, чтобы меня вместе с ней гоняли колонной на завод, потому что на заводе лучше кормили и не было там этого мерзавца Генриха, который за любое неповиновение бил штыковой лопатой по чему попадет.
Я был более исполнительным и точным, а вот моему напарнику Сене, который был старше меня на два года, попадало часто. Однажды Генрих ударил его по ноге лопатой так, что в результате Сеня остался без ноги – ее отрезали, чтобы он не умер.
Осенью того года мама вымолила у нашего надзирателя-эсэсовца по имени Генрих, чтобы меня вместе с ней гоняли колонной на завод, потому что на заводе лучше кормили и не было там этого мерзавца Генриха, который за любое неповиновение бил штыковой лопатой по чему попадет.
Умирали в лагере многие: от тяжелой работы, плохой еды и от побоев, если попадали в лапы Генриха Штрауса и других эсэсовцев. Так с осени 1944 года я стал ходить в колонне со взрослыми на завод.
Выдали деревянные колодки на ноги, так называемые «шуги», чтобы не сбежал и чтобы слышно было; робу со знаком OST и пришили к рукаву номер.
Работал в токарном цехе на уборке, убирал металлическую стружку от станков, укладывал в тачки и вывозил в склад металлолома. Было мне тогда чуть больше девяти лет. В цехе был мастер, он неплохо относился ко мне – ребенку. Мама работала в литейном цехе, в обеденный перерыв мы виделись. Надо сказать, что простые немцы-рабочие (не все, конечно) неплохо относились ко мне, даже иногда отрывали от своего обеда кусочек и давали мне. А были озверевшие немцы-рабочие, которым опасно было попадаться на глаза: они пытались ударить или плюнуть и обозвать «русиш швайн».
В середине октября мы приехали в Крым. В том 1945 году в Крыму очень рано выпал снег. Выгрузили нас на снег, наш дом в Керчи был разрушен. Так началась новая эра – борьба за выживание!
17 апреля 1945 года американские войска начали штурм Гельзенкирхена. Вечером этого дня в наш барак попал американский снаряд, было много убитых и раненых среди нас. Барак горел, и меня завалило горящими балками, я сильно обгорел, но выполз. Ночь промучился, терял сознание. Утром в лагерь въехали на джипах американские солдаты. Всех раненых, включая меня, вывезли в свой полевой госпиталь, лечили до июля 1945 года. Затем начали нас готовить к передаче советской военной администрации. Мама была со мной.
В августе нас передали нашим и повезли нас на сборный пункт в г. Магдебург. Вскорости нас погрузили в «телятники» с колючей проволокой (точно так же, как и немцы в 1942 году) и повезли на родину. Ехали два месяца, кормление для нас не было предусмотрено. В середине октября мы приехали в Крым. В том 1945 году в Крыму очень рано выпал снег. Выгрузили нас на снег, наш дом в Керчи был разрушен. Так началась новая эра – борьба за выживание!
Мое существование нигде не было зафиксировано
Кадацкая Евгения Михайловна, 1945 г. р
Я родилась в 1945 году в Германии, в городе Ванне-Айккель. Друзья из города Моерс помогли мне разыскать семью Пейтерс. В этой семье работали мои мама и папа во время войны. Они были угнаны в Германию на принудительные работы. Тогда я у них и родилась.
Мой папа родом из Новотроицкого района Херсонской области, из села Яновка. В семье, кроме папы, были еще две сестры, старшую звали Даша, а младшую Галя. И тетю Дашу, и тетю Галю должны были тоже увезти в Германию. Чтобы дочерей спасти от угона, моя бабушка накануне мобилизации своим дочерям на руках до самых локтей ножом сделала порезы, а затем в образовавшиеся ранки положила негашеную известь. За ночь эта известь так разъела ранки, что при осмотре в комендатуре девушек посчитали больными экземой и признали непригодными к работе. Раны постепенно зажили, мои тети были спасены от рабского труда в Германии, но шрамы от этих ран остались на всю жизнь. Одна из сестер жива до сих пор, живет в Херсоне и при встрече рассказывает мне об этих событиях.
Мой отец – Михаил – в семье был самый меньший. Его бабушка пожалела, не стала делать ранки, а решила просто спрятать в большой яме, где раньше держали животных. В этой яме папа просидел очень долго, но кто-то из соседей выдал старосте, где прячется отец. В селе опять была мобилизация, и папу забрали в Германию.
Сначала отец и еще несколько односельчан поместили в лагерь, который находился в городе Ванне-Айккель. Работали на лакокрасочной фабрике, на шахте. На работу и с работы шли под конвоем с собаками и сопровождающими автоматчиками. Жили в бараках за колючей проволокой, спали на деревянных нарах в два-три яруса. Все это было перенести очень трудно, но еще труднее было с питанием. Кормили два раза на день, и пищей назвать то, что давали, нельзя. Это было какое-то варево из брюквы и гнилой капусты. В свое время дома этим кормили скотину.
Папа рассказывал, что поначалу работники отказывались есть такую бурду, но кушать очень хотелось, и после таких обедов у многих была рвота, боль в желудках, кружилась голова. Наступало утро, и снова надо было работать, а если кто заболевал, не мог подняться с нар, то к вечеру он куда-то исчезал. Больше они этих товарищей не видели. Все понимали, что таких слабых, больных и немощных увозили из лагеря и расстреливали. Поэтому из последних сил приходилось идти на работу, чтобы выжить.
Папа мне рассказывал, как один из надзирателей почистил картошку, а кожуру выбросил рядом с оградой. Отец увидел и решил забрать эту кожуру. Пытаясь быть незамеченным, стал ползти к этой кучке картофельных очисток. Конечно же, часовой специально это сделал, чтобы потом позабавиться. Он дал возможность папе доползти до очисток, а затем стал из автомата обстреливать отца со всех сторон. Так желание съесть отходы чуть не стоило жизни моему папе.
Один из надзирателей почистил картошку, а кожуру выбросил рядом с оградой. Отец увидел и решил забрать эту кожуру. Пытаясь быть незамеченным, стал ползти к этой кучке картофельных очисток. Конечно же, часовой специально это сделал, чтобы потом позабавиться. Он дал возможность папе доползти до очисток, а затем стал из автомата обстреливать отца со всех сторон.
Недалеко от этого лагеря у разных бауэров работали папины односельчане и двоюродные сестры: Полина, Григорий, Михаил. Дядя Гриша и дядя Миша работали в семье Питера Пейтерса. Они иногда приходили к лагерю, где был мой отец, приносили хлеб, украдкой, с большим риском для жизни, передавали это нам.
После освобождения моего отца сразу отправили на Урал на лесоразработки. Мама вместе с односельчанами и папиными родственниками проходила фильтрационную проверку, по очереди заходили в кабинет, а меня передавали из рук на руки. Таким образом, мое существование нигде не было зафиксировано. По прибытии к месту жительства моего отца мама побоялась показать немецкий документ о моем рождении в Германии. Выдать новое свидетельство о рождении местные бюрократы отказались. Так я два года жила без всяких документов. В те времена никто не задумывался над важностью этой ситуации.
Через два года моя мама сумела уговорить свою подругу, работающую в исполкоме по выдаче свидетельств, выдать мне документ о рождении. В свидетельстве было написано, что я родилась в поселке Черноморское Крымской области и дата рождения была проставлена тем днем, когда мама посетила этот исполком.
Пыль въедалась в кожу
Брагина Агафья Петровна
Меня угнали на работу в Германию в 1942 году. Освободили нас американцы в апреле 1945-го, а добираться на родину пришлось долгих пять месяцев.
Вскоре после начала войны немцы появились и в Крыму, в нашей деревне. В сентябре 1942 года в наш дом вместе зашли немец и русский полицай, приказали маме собрать мои вещи, запас продовольствия и привести меня к колхозному скотному двору. Загнали всех пришедших девушек в скотник, не дали даже попрощаться с родными и друзьями. О дальнейших действиях нам не сообщили. Далее погрузили в повозки, в сопровождении полицая довезли до Беляуса (вблизи Евпатории) и перегрузили на машины. На машинах нас доставили в Евпаторию на биржу труда. Оттуда – в товарные вагоны и без пересадки до города Кракова (Польша).
Там произвели дезинфекцию, облили гадкой вонючей жидкостью все места на теле, где росли волосы, затем неровно, оставляя клочья, обстригли. Оставшиеся продукты, взятые из дому, заставили высыпать на землю.
Там произвели дезинфекцию, облили гадкой вонючей жидкостью все места на теле, где росли волосы, затем неровно, оставляя клочья, обстригли. Оставшиеся продукты, взятые из дому, заставили высыпать на землю. Нас снова погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию, в город Зоэст. Там был распределительный пункт. Поселили нас в загоны, там стояли трехэтажные нары. Мы переночевали, утром вызвали нас на площадь. На трибуну взошел немец и сказал на ломаном русском, что, мол, вы приехали сюда добровольно, поэтому будьте добры подчиняться, за невыполнение наших указаний – расстрел.
Построили нас в колонны по три человека и впервые за всё время стали кормить. Привезли в баках какое-то варево из шпината, хлеба не дали. Несмотря на то что все мы были очень голодные, есть такую «пищу» не смогли. Вылили всё под ноги, немцы ругались, говорили, что вы, мол, не голодные. Наконец приехали хозяева шахт, заводов, фабрик, госпиталей и бауэры. Вначале бауэры выбрали себе работников. Нравились им девушки со светлыми волосами. Темноволосым, как я, досталась худшая доля – работа на угольной шахте. Меня в числе других девушек общим числом 30 человек привезли на шахту в город Эссен Купфедре. Поселили вначале рядом с шахтой, потом перевели в специально выстроенные для нас бараки. На работу будили в 4 часа утра, вели на шахту колоннами по три человека в сопровождении полицаев, как военнопленных. Вначале я работала там, где отбирали породу от угля, потом в цеху, где мыли уголь, а после пошла на повышение – подметала угольную пыль, затем – переключала полотна, когда отпускали уголь бауэрам. Всегда в пыли, пыль въедалась в кожу, забивала дыхательные пути.
Вначале бауэры выбрали себе работников. Нравились им девушки со светлыми волосами. Темноволосым, как я, досталась худшая доля – работа на угольной шахте.
Кормили один раз в сутки, в обед привозили жидкую баланду. Два раза в неделю, в понедельник и четверг, выдавали сухой паек: булку хлеба, немного маргарина и граммов 200 сахара. Хлеб выпекался неизвестно из чего (буряк, опилки, что-то еще), он колыхался как холодец. Мы, постоянно голодные, съедали этот паек за день, а после 2–3 дня сидели без хлеба. Все мы были невероятно худы, как дистрофики.
Это я указываю для того, чтобы хотя бы медики могли представить себе, как тяжело нам было. Я не умерла с голоду от такого питания за три года лишь благодаря добрым немцам, работавшим на шахте. Они тайком приносили небольшой бутерброд, изредка, по воскресеньям, приглашали домой, там подкармливали.
Ровно в четыре часа утра являлся полицай с гумой (резиновой дубинкой) и кричал: «Авштейн зау банда русиш швайн, лес шнель арбайтен, становись три по три в шеренгу». Не стучите, мол, идите тихо, а то «дойче камарад шляфен», то есть спят. Ехали до шахты специальным трамваем, который возил только нас, в бане переодевались в мужскую спецовку, на ноги – деревянные гольцы (ботинки) и шли на работу.
Перед освобождением нас не повели на шахту, а погнали пешком вдоль леса. Вдруг налетели американцы, стали обстреливать с воздуха из пулемета, мы кинулись в лес и там прожили неделю. Несколько человек со мной вместе жили у бауэра в сарае, спали на соломе, он нас подкармливал. Через неделю нас разыскали американцы с русскими, они ходили с рупорами и призывали выйти из лесу и собраться всем вместе.
Нас начали отправлять по домам. Возможность уехать в любую другую страну у нас была, некоторые ею воспользовались, а я вернулась к маме.
Мы собрались, нас привели снова туда, где мы жили, но поселили в немецких казармах на два месяца, кормили хорошо.
Затем нас начали отправлять по домам.
Приехал русский полковник, собрал митинг, призывал ехать только домой, а не разъезжаться по другим странам. Возможность уехать в любую другую страну у нас была, некоторые ею воспользовались, а я вернулась к маме.
Выдали нам сухой паек, привезли на электричках в Мюнхен. Там русские военные на открытых военных машинах привезли нас в Белоруссию, в город Гродно. По дороге до Белоруссии нас охраняли на танкетках от пронемецких партизан, которые могли нас обстрелять. В Гродно мы прожили около месяца, дожидаясь отправки в Россию. Наконец сели в поезд и с частыми длительными остановками доехали до Днепропетровска. Оттуда своим ходом, на чем пришлось, я добралась до города Черноморска, где меня встретила мама на повозке с коровьей упряжью.
Освободили нас 17 апреля 1945 года, а домой я добралась лишь 17 сентября 1945 года, то есть спустя 5 месяцев. Дома меня долго не оставлял в покое НКВД. Вызывали на допросы, там, угрожая пистолетом, допрашивали, а не поехала ли я в Германию добровольно, но каждый раз убеждались, что я была угнана принудительно.
Годовщину октября мы отмечали забастовкой
Степанова Валентина Владимировна
Я мечтала стать балериной, ходила заниматься в клуб. Войну я встретила в Севастополе, а потом меня вместе с другими отправили на работу в Германию, в деревню Майнерцхаген.
Всю оборону я находилась в осажденном Севастополе. Смотрела за дочерью сестры, рыла окопы, тушила фугасы, носила воду из колодцев, не раз попадала под бомбежки. А маму мою однажды завалило во время очередного артобстрела. Лишь вечером, когда отец пришел с работы, ее удалось откопать.
1 июля 1942 года мы увидели первых вошедших в Севастополь немцев. Я как сейчас помню, что было 14 часов 30 минут. Все оставшиеся в живых во время оккупации повылезали из щелей и подвалов, где до этого прятались, и увидели немцев на мотоциклах. После артобстрелов и бомбежек стояла необычная тишина. Один из мотоциклистов подошел к отцу и указал на руку. Отец подумал, что он интересуется временем, и вынул добротные карманные часы. Тогда немец, не церемонясь, нагло забрал их, сел на мотоцикл и уехал. Это была моя первая встреча с оккупантами, которые не считали нас за людей и могли отобрать все, что им заблагорассудится.
Один из мотоциклистов подошел к отцу и указал на руку. Отец подумал, что он интересуется временем, и вынул добротные карманные часы. Тогда немец, не церемонясь, нагло забрал их, сел на мотоцикл и уехал. Это была моя первая встреча с оккупантами, которые не считали нас за людей и могли отобрать все, что им заблагорассудится.
Много нам пришлось помыкаться во время оккупации. Есть было нечего, жили одно время даже в водопроводной будке. Затем всем приказали явиться на улицу Ленина, напротив комендатуры. А после был приказ прийти с вещами на вокзал для отправки в Германию. Погрузили нас в товарняки, поставили часового и 25 августа повезли на чужбину. Было мне тогда всего 14 с половиной лет. Хотела бежать, когда вагон остановился в Симферополе, но немец стукнул по голове и снова втащил в товарняк.
Только 4 сентября мы добрались до города Перемышль, который находится в Польше. Здесь прошли дезинфекцию и были отправлены на биржу труда в Германию. Вот тут-то понаехали «хозяева». Самых здоровых и трудоспособных они брали на сельхозработы, а на нас, истощенных осадой севастопольцев, никто даже не смотрел. И лишь под конец торгов приехал владелец фабрики
Отто Фукс, купил всех севастопольцев по 9 марок за каждого и повез в лагерь для военнопленных, который находился недалеко от Кельна, на земле Вестфалия, в деревне Майнерцхаген.
Лагерь был интернациональный.
Вот тут-то понаехали «хозяева». Самых здоровых и трудоспособных они брали на сельхозработы, а на нас, истощенных осадой севастопольцев, никто даже не смотрел. И лишь под конец торгов приехал владелец фабрики Отто Фукс, купил всех севастопольцев по 9 марок за каждого.
В нем находились чехи, поляки, французы, русские, украинцы. Все мы имели бляхи с номерами, а каждый из восточных рабочих обязан был носить еще и бирку OST. Мой номер был 489. Каждый день, перед тем как вести нас на работу, полицай выкрикивал номера, открывались ворота с колючей проволокой, мы шли на территорию фабрики.
Меня, как и других самых молодых узниц, направили в сборочный цех, где собирались детали для снарядов. Работали мы по 12 часов в день, с 7 утра до 7 вечера. Трудилась я рядом с подругами Людмилой Карташовой из Ворошиловграда (Луганск) и Юлией Володиной из Донецка… Однажды в этом цехе произошел взрыв. Тогда всех русских оттуда убрали и перевели на другое производство. Там меня поставили к сверлильному станку. Опыта было мало,
Не все были такими жестокими фашистами. Служил в лагере полицай Отто – бывший скрипач. Так он никогда никого не бил, никогда не кричал.
Иногда рассказывал о положении на фронтах, о Сталинграде. Но вскоре его не стало – немцы донесли на антифашиста, и его отправили в концлагерь.
и, когда я сломала несколько сверл, мастер-немец, которого мы называли «Солнышко», ударил меня в лицо так, что я залилась кровью, а начальник цеха Эмиль бил плетью рабочих куда попало: по лицу, по спине, по голове…
Правда, не все были такими жестокими фашистами. Служил в лагере полицай Отто – бывший скрипач. Так он никогда никого не бил, никогда не кричал. Иногда рассказывал о положении на фронтах, о Сталинграде. Но вскоре его не стало – немцы донесли на антифашиста, и его отправили в концлагерь.
Кормили нас очень плохо, лишь бы, как говорится, не протянули ноги. В основном, давали молотую брюкву, разбавленную водой. Иногда туда добавляли немного шпината и синей капусты. Хлеб был сладкий, из буряка. Спали мы на двухъярусных деревянных нарах, соломенных матрасах и таких же подушках, укрываясь грубошерстными вонючими одеялами. Ходили в деревянных колодках и специальных костюмах с отличительными знаками пленных.
7 ноября 1943 года почти весь лагерь забастовал. Мы отказались есть брюкву и потребовали в честь праздника лучшей пищи. У кого был красный платочек, лоскутик или косынка, повесили их на станках и перестали работать. Так мы отмечали 26-ю годовщину Великого Октября. Три дня не притрагивались к пище, бастовали.
Но даже в этих тяжелых условиях мы продолжали оставаться советскими людьми. 7 ноября 1943 года почти весь лагерь забастовал. Мы отказались есть брюкву и потребовали в честь праздника лучшей пищи. У кого был красный платочек, лоскутик или косынка, повесили их на станках и перестали работать. Так мы отмечали 26-ю годовщину Великого Октября. Три дня не притрагивались к пище, бастовали. Немцы-охранники испугались, вызвали эсэсовцев, которые грозили нам, стреляли в воздух, но потом все-таки сдались, пошли на уступки и дали узникам немного картошки, чтобы те смогли справить свой праздник.
11 апреля 1945 года нас освободили американцы, но еще целых два месяца мы находились в лагере, и лишь в июне нас вывезли в степь и передали советским войскам. Потом была фильтрация под Кенигсбергом, под Краковом, где нас подкармливали из походных кухонь супом с мясом, молочной и рисовой кашей. Затем работала под Симферополем в совхозе «Боданы» и лишь 9 марта 1946 года наконец-то вступила на севастопольскую землю, после того как мать сделала вызов.
Дети в партизанских отрядах
Дети в партизанских отрядах
Быть может, именно массовое партизанское движение – лучшее доказательство того, что война носила характер Отечественной. Глубоко за линией фронта, с опорой лишь на местное население сражаться с кадровыми армейскими частями противника – это и есть подлинный героизм.
На оккупированной территории СССР партизанское движение имело самый что ни на есть массовый характер – в общей сложности с 1941 по 1944 год на захваченных землях действовало 6200 партизанских отрядов и соединений, а общая численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 миллион человек. Кроме того, еще 40 тысяч советских граждан принимало участие в деятельности Сопротивления на территории зарубежных стран.
Впрочем, из-за просчетов командования партизанское движение по сути пришлось формировать с нуля. Дело в том, что еще в начале 30-х годов военное руководство вело подготовку к возможной партизанской войне – анализировался опыт других стран, проводился учет кадров подпольщиков, писались учебные пособия по тактике партизанской борьбы. Кроме того, с конца 1931 года в приграничных районах оборудовали скрытые склады с оружием и снаряжением, а осенью 32 года партизаны принимали участие в военных учениях.
Но, начиная с 1937 года, из-за доктрины войны «малой кровью и на чужой территории» система подготовки партизанских кадров последовательно разрушалась, оборудованные склады перестали существовать, а большая часть подготовленных кадров была репрессирована или расстреляна. В итоге солдаты и офицеры Красной армии не были обучены тактике партизанских действий.
Решение о повторном формировании партизанских отрядов было принято сразу после начала войны – в июне 1941 года. Развертывать партизанское движение было поручено 4-му управлению НКВД СССР под командованием Павла Судоплатова. В частности, именно из подконтрольных ему частей формировались диверсионные группы для заброски в немецкий тыл – они должны были организовывать и пополнять отряды «народных мстителей».
В конце мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения – это позволило согласовывать действия отрядов и армейских частей, налаживать снабжение и взаимодействие. Тем более что, несмотря на региональные различия, у большинства партизанских отрядов была схожая структура.
Основной организационной и боевой единицей партизан был партизанский отряд, состоявший обычно из рот, взводов и отделений, а иногда из боевых групп. Его численность колебалась от 20 до 200 человек. Отряд входил в состав партизанской бригады (соединения, дивизии) или был самостоятельным.
Партизанский полк состоял из батальонов, широкого распространения не получил. Действовал самостоятельно или в составе партизанской бригады, соединения (дивизии). В основном полками назывались партизанские отряды на Могилевщине.
Партизанская бригада объединяла несколько отрядов (реже батальонов и полков) и насчитывала от нескольких сотен до 3–4 тыс. и более человек.
Партизанское соединение (дивизия) включало 10 и более партизанских бригад общей численностью до 15–19 тыс. человек, создавалось по решению штабов партизанского движения, подпольных обкомов (райкомов) партии. В боевых действиях соединения (дивизии) преобладало проведение рейдов, в том числе и за пределы советской территории. В некоторые соединения организационно входили кавалерийские, артиллерийские и пулемётные подразделения.
При этом риски для партизанских отрядов были необычайно велики. В 1941–1942 годах смертность среди заброшенных НКВД в тыл противника групп составляла 93 %. Например, на Украине с начала войны и до лета 1942 года НКВД подготовил в тылу 2 партизанских полка, 1565 партизанских отрядов и групп общей численностью 34 979 человек, а к 10 июня 1942 года на связи осталось всего 100 групп, что показало неэффективность работы больших подразделений, особенно в степной зоне. К концу войны смертность в партизанских отрядах составляла около 10 %.
Идеальными условиями для действий партизанских отрядов были леса, болота и горы. Здесь бойцы могли вступать даже в открытые столкновения с врагом, в то время как в степных районах их деятельность ограничивалась диверсиями.
C помощью партизан советское командование решало самые разные задачи. Помимо разведки и агитации при помощи диверсий удавалось срывать планы немецкого командования. За годы войны советские партизаны пустили под откос около 18 000 составов, из них 15 000 – в 1943–1944 годах. Кроме того, бойцы уничтожали линии связи, высоковольтные линии, отравляли водопроводы и колодцы.
Партизанское движение было чрезвычайно сильно на территории Белоруссии, что объясняется ландшафтом республики, сочетанием лесов и болот. К тому же немцы обложили местное население непомерными продуктовыми платежами, что усиливало базу поддержки партизан. Так, например, жители Белоруссии должны были отдавать 3–4 центнера зерна с гектара, 350 литров молока с каждой коровы, 100 кг свинины с одного двора, 35 яиц от каждой курицы, 6 кг птицы со двора, 1,5 кг шерсти с каждой овцы и в среднем 100 рублей на человека.
В итоге уже к августу 41-го в БССР действовал 231 партизанский отряд, а к лету 44 года общая численность движения в республике насчитывала 143 тысячи человек. Кстати, именно руководители белорусского партизанского отряда «Красный Октябрь» – командир Федор Павловский и комиссар Тихон Бумажков – 6 августа 1941 года первыми из партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. А много позже теплоход «Лидия Демеш» был назван в честь тринадцатилетней белорусской партизанки, расстрелянной оккупантами в 1943 году. Вклад народных мстителей в освобождение республики был таким, что 16 июля 1944 года в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации состоялся партизанский парад.
Еще одним центром партизанского движения стала Украина – в частности, лесистые районы северных областей и прифронтовая полоса. В 1941 году партизанские отряды стекались в Сумскую область. В 1941 году партийное подполье удалось создать лишь в Киеве, Харькове, Чернигове, Ровно, Одессе, Николаеве и некоторых других городах Украины. Крупных боев с немецкими войсками почти не было – преимущество отдавалось разведке, засадам и диверсиям.
В середине 1943 года в битве за Днепр приняли участие 17 332 украинских советских партизан, которые захватили и частично оборудовали 25 переправ через Днепр, Десну и Припять. Общая численность советских партизан и подпольщиков на территории Украины в 1941–1944 годы оценивалась на уровне 220 тыс. чел. в составе 53 партизанских соединений, 2145 партизанских отрядов и 1807 партизанских групп. В количественном отношении среди украинских советских партизан преобладали украинцы, вместе с ними в партизанских отрядах сражались русские, белорусы и представители 38 других национальностей СССР, а также интернационалисты – граждане европейских государств: 2 тыс. поляков, 400 чехов и словаков, 71 югослав, 47 венгров, 28 немцев и 18 французов. Светскими наградами были награждены 183 тысяч человек, звание Героя Советского Союза получили 95 человек (двое из них: Алексей Федорович Фёдоров и Сидор Артемьевич Ковпак – стали дважды Героями Советского Союза).
Кроме того интенсивные партизанские действия велись на территории Молдавии – там за период с 1941 по 1944 год подпольщики вывели из строя 30 тысяч оккупантов и их пособников, организовали крушение 300 воинских эшелонов, подорвали 133 танка и бронемашины, 20 самолетов, сотни автомобилей, взорвали 62 железнодорожных моста.
Сами немцы называли партизан «вторым фронтом» в тылу своей главной линии обороны. Коллаборационистская пресса призывала население оккупированной территории не оказывать помощь и поддержку советским партизанам. Известны многочисленные случаи создания нацистами карательных отрядов (как правило, из коллаборационистов), которые выдавали себя за советских партизан и занимались выявлением и уничтожением партизан и их сторонников среди местного населения. Кроме того, с целью дискредитации партизанского движения они совершали убийства мирного населения, занимались бандитизмом и совершали иные преступления.
Пулемет мне вручили за смелость
Богданович Иван Семенович
Воевал в партизанском отряде «За Советскую Беларусь», участник операции «Рельсовая война». В настоящее время живет в г. Осиповичи Могилевской области.
Когда вернулись в лагерь, командир построил отряд. Всем объявили благодарность, а мне за смелость вручили пулемет Дегтярева.
Где-то в июле 43-го к нам в партизанский отряд прислали подрывников с Большой земли. Шесть человек. Они нас учили, как подрывать рельсы на железной дороге. Показывали шашки толовые, капсюли, которые вставляются в шашку. Учили, как подкладывать под рельсу эту шашку, чем ее закреплять, как потом вставить шнур этот с капсюлем и поджечь… Дней пять, наверное, проводили такие занятия. Мы уже догадывались, что что-то готовится. Что конкретно – не знали, но уже ждали.
А в первых числах августа – приказ: идем рвать железку! Нам выпал участок дороги на Могилев, Осиповичи – Свислочь. И надо было форсировать эту реку Свислочь. Подготовлены были мостки. Быстренько-быстренько нас перебросили, и мы пошли. Поближе к железной дороге.
…Наступило утро. Мы целый день находились около железной дороги, видели-слышали, как поезда идут туда-сюда… В этом лесу собралась вся бригада Королева[19]. Народу, партизан, собралось больше, чем деревьев в этом лесу! Все отряды вышли на это направление.
Потом команда: подойти вплотную к железной дороге ночью. Двинулись. И где-то к полуночи подползли почти к самой железной дороге. Дали красную ракету. Одну, вторую, третью!.. «Ура!» – и на железную дорогу. Стрельба. Земля стонала от стрельбы! Все гремело вокруг. Заложили толовые эти шашки – и тут же назад, в лес. Прошло, наверное, не больше пяти минут, как все это закончилось. Ракеты белые – отход! И стало все рваться. Летело все. Такое освещение было от этих взрывов, как днем!..