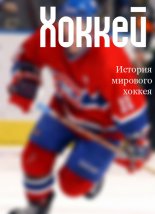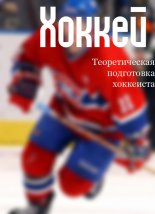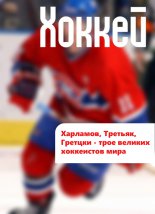Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
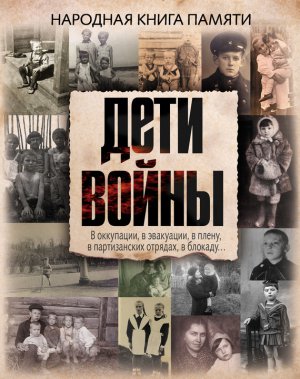
Где-то в поле, в дождливый день, под вечер, к нам в деревню приехал отряд немцев со стороны Новгорода. Они остановились в деревне. Немцы стали ходить по домам, приказали в каждом доме освободить по одной комнате и стали расселяться по домам. К нам в дом пришли часов в девять вечера. С фонариком обошли и проверили весь дом. Мы, три брата и двоюродный Коля, уже спали на сеновале. Немец осветил нас фонариком, сказал «гут» и удалился. К нам поселили на постой трех немцев. Они заняли комнату, а Соня, мама и тетя Надя перешли спать в рядом стоящий амбар, где до этого спал один дед. Амбар летом был пустой, там навели порядок, поставили кровати и стали жить. В доме осталась одна бабушка, она спала на печке и готовила нам пищу.
В общем, в нашу деревню приехало на отдых с фронта воинское подразделение. Вероятно, это был минометный батальон, потому что из вооружения были одни минометы. Обосновались они основательно. Для машин вырыли укрытия, для минометов в берегу реки Шелонь – огневые точки. В середине деревни в одном из дворов поставили кухню. Погода наладилась, и немецкие солдаты стали отдыхать. Они купались, загорали. В нашем доме расположились сапожная и портновская мастерские. Приходили немцы и приносили обувь и одежду в ремонт. Все немцы были молодые. По вечерам они устраивали танцы под аккордеон. За деревней на лугу поставили футбольные ворота и почти каждый вечер играли в футбол. Мы, дети, целыми днями пропадали на речке. Иногда прямо на наш пляж на машине приезжали немцы. Они загоняли машину в реку и просили помыть снизу. Давали нам щетки, и мы мыли ходовую часть. Когда машина была вымыта, водитель всегда нас за работу угощал. Самым маленьким, вроде меня, он давал пакетик с сухим лимонадом, а ребятам постарше по сигарете. Вечером, в восемь часов, они делали развод на караул. Выстраивалось подразделение, которое заступало в караул, им зачитывался приказ, потом играл оркестр марш, и они проходили строем. Комендантского часа у нас не было. Часовые ночью ходили по двое. Они ходили в мае в халатах и в москитных сетках. Партизан в 42-м году еще не было. Было довольно тихо. Вдоль деревни, на околице, стояли гумна. На чердаках немцы поставили стереотрубы и вели наблюдение круглые сутки. Один раз в хорошую погоду несколько девушек сушили сено. Зашел разговор о том, видят ли их немцы или нет. Расстояние до деревни километра два. В том месте уже поля кончились, и начинался лес. Несколько девчонок пошли в кусты по малой нужде. Моя тетя Надя повернулась к деревне спиной и похлопала себя по мягкому месту. Через некоторое время пошли на очередные танцы, те молодые немцы смеялись и говорили: «Ах, Надя, Надя!» Вот такое было наблюдение.
Немцы даже устроили один раз учения. Минометы стояли у них на боевых точках. Они запретили в этот день пасти скот и выходить из деревни на сельхозработы. Поставили километра за 2 мишени: белые щиты 2 на 2 метра – и стреляли из минометов. Они уехали через месяца полтора так же неожиданно, как и приехали, вероятно по тревоге.
Детей в деревне у нас было много. Да еще много было беженцев. Однажды, после ухода немцев, один мальчик из беженцев собрал компанию из своих ребят да плюс еще деревенских и решили пойти в поле за земляникой. Время было часов 13–14 дня. Пока они шли по деревне, многих ребят позвали домой обедать, так что компания осталось маленькая. Они пошли собирать землянику и нашли большой снаряд. Старшему было лет 12, он сказал, что умеет разряжать снаряды, и стал бить по головке камнем. Рядом с ним стоял его младший брат. Остальные ребята убежали, сказав, что снаряд трогать нельзя. Только они убежали до канавы и спрятались в ней, раздался взрыв. Потом родители этих двух братьев по полю собирали несколько кусочков тел мальчиков. Хоронили их в маленьком гробике: все что собрали. Это были первые смерти в нашей деревне.
В 41 году тоже были убиты наши солдаты при отступлении, но их не успели похоронить. Были убиты и немцы во время боя в 41 году. Так, около нашей школы возле дороги была могила с крестом. Как-то в августе 42 года пришла в деревню большая закрытая машина. Она доехала до этой могилы и остановилась. Из нее вышли двое немцев с автоматами, одна женщина в медицинской форме и трое наших военнопленных. Пленные взяли лопату и стали разрывать могилу. Там лежали 3 немецких трупа. Они были завернуты в плащ-палатки. Женщина развернула палатки, достала жетоны, которые были у нее на шее. Жетон представлял круг из алюминия с двумя одинаковыми номерами. Посреди жетона шла линия разлома. Она отломала половинку жетона на каждом трупе, а вторая половинка так и осталась на цепочке на трупе. Потом их погрузили на машину и увезли. В сорок втором они еще разрывали могилы и отправляли своих солдат на родину, а в последующие годы зарывать мертвых немцев приходилось жителям нашей деревни.
Осень 42 года прошла без особых больших событий. Все население старалось убрать урожай и запасти больше пропитания на предстоящую зиму. Осенью сорок второго немцы стали брать молодежь на работы. Так в сентябре забрали тетю Надю и еще несколько девушек. Их привозили под Старую Руссу, и они там работали до нового 43 года на лесозаготовках. Отпустили их домой на Рождество католическое. Немцы этот праздник отмечали очень широко. Даже тетя Надя принесла оттуда литровую бутылку рыбьего жиру, который впоследствии нам с Сашей споили.
Зима 42–43 года была не очень холодная, по сравнению с 41 годом, но зато очень снежная. Соответственно, приходилось много работать по очистке снега на дороге. Стали появляться слухи о партизанах, немцы очень боялись партизан и приказали вдоль дороги, которая шла лесом до соседней деревни, выпилить весь лес на сто метров. Вся дорога была очищена до самого Новгорода. Сразу после Нового года к нам ночью постучали. Дед вышел, открыл дверь, и в дом вошли два человека. Они представились партизанами. Были они чисто одеты и не обросшие, без бород. На улице еще было несколько человек. Они ничего не просили, а стали действовать как грабители. Выкидывали все из шкафа, забрали женское белье моей матери, вещи тети
Нади, потом залезли в подвал. Там стояли ульи с пчелами. Дед держал несколько ульев с пчелами и на зиму убрал их в подвал. Разорив ульи, взяв несколько рамок с медом, они ушли. Мы сразу поняли, что это не партизаны. Партизаны были все обросшие, с бородами, все худые и, в первую очередь, просили есть, а эти начали грабить женское белье. Потом мы узнали, что немцы специально создавали такие отряды из уголовников и всякого отребья, пускали их по деревням грабить население, выдавая себя за партизан. Сами немцы писали всякие приказы, в которых говорилось: «Кто из населения заметит появление партизан, должен немедленно сообщить об этом немецкому командованию, иначе расстрел».
Потом мы узнали, что немцы специально создавали такие отряды из уголовников и всякого отребья, пускали их по деревням грабить население, чтобы они при этом выдавали себя за партизан.
Так для нас начался 43 год, самый тяжелый и самый кровавый. Зиму мы прожили довольно спокойно. Немцы по-прежнему у нас в деревне постоянно не находились, и поэтому население жило своим чередом. Весной обработали землю, что могли, посадили и посеяли. Что делалось в мире – мы не знали. Кое-какие слухи до нас доходили, но этого было мало. Немцы в 43 году стали совершенно другими, по сравнению с 41 годом. Они уже не так играли на губных гармошках, были более молчаливые и серьезные, не хохотали, как в 41-м.
Однажды в феврале или начале марта мы на дороге играли в шалыгу – такая игра, вроде хоккея. Устав от игры, мы сели на перила моста через ручей. У всех в руках были клюшки. Вдруг с запада над дорогой вылетел самолет. Время было к вечеру, и летел он сравнительно высоко. Ребята, смеясь, подняли клюшки и стали целиться в самолет. Он улетел, а мы продолжали сидеть. Вдруг с восточной стороны раздался рев самолета, он летел над деревней очень низко и стрелял из пулемета. Мы, как воробьи, в момент слетели под мост. В это время к мосту подъезжала повозка, мужик торговал рыбой и снетками. Когда самолет улетел и стало тихо, мы вышли из-под моста и увидели, что с неба падают листовки. Повозка стояла возле моста, лошадь лежала на дороге. Оказалось, что самолет попал одной пулей в левую заднюю ногу лошади. Тут собрался народ, рану перевязали, лошадь подняли.
Кость в ноге была цела, и мужик на следующий день потихоньку уехал дальше. Оказалось, что самолет разбрасывал листовки, заметил, что на него нацелились клюшками, принял нас за партизан, развернулся и дал очередь. Больше мы так не шутили. В листовках был призыв не помогать партизанам, а кто будет этим заниматься, тому смерть.
В начале лета 43 года иногда по воскресеньям в деревню стали наведываться немцы. Они приезжали за молодежью. Ребят и девчонок в возрасте 14–15 лет они забирали и увозили в Германию. В этот день, когда началась облава, вся молодежь уходила в лес, шли на дальние от деревни сельхозработы. У многих были оборудованы места, где можно было спрятаться, если вдруг немцы приходили неожиданно. Стало ходить много слухов о партизанах. Кое-где вспыхивали перестрелки, что-то где-то взрывали. Однажды в июле месяце к нам в деревню из леса пришли три партизана. Они были одеты во все кожаное, на фуражках звездочки, полевые сумки, пистолеты на ремне. Они пришли в центр деревни и, где обычно, на пяточке около часовни, велели собирать народ. Собралось народу немного, в основном наш брат, дети да старики. Один из них сделал что-то вроде доклада. Рассказал о победах нашей армии, о положении на фронте, о положении в Ленинграде и сказал, что они настоящие партизаны. Рассказал о тех партизанах, которые нас грабили в 42 году. Сказал, что скоро тут будут бои, чтобы мы прятали свое имущество, так как будут гореть постройки, потому что идет народная партизанская война, и чтобы мы всячески помогали партизанам и едой, и одеждой. С этим они и ушли обратно в лес. Как потом рассказывал один старичок, в это время он ходил в лес за грибами и видел, что пришли в деревню трое, а в лесу ожидало их еще человек 30. Так в июле месяце 43 года в нашем краю зародилось партизанское движение.
И где-то в сентябре месяце в партизаны ушел мой двоюродный брат Николай Николаевич Екимов. Было ему 14 лет. В нашем районе была сформирована 10-я партизанская бригада, ближе к городу Сольцы действовала 5-я бригада. Коля попал во второй отряд 10-й бригады, где командиром отряда был бывший военный Журавлев. Попал он в отряд снабжения ездовым. Занимались они, в основном, добычей кормов для лошадей и продуктов питания для партизан. Иногда их посылали в разведку. Один раз попали в немецкую засаду. Они вдвоем с таким же мальчиком поехали в деревню узнать, есть ли там немцы или нет. Положили на сани целый воз сена и поехали, якобы купили сено и везут домой. Допросили их и, вероятно, поверили. Сено с саней скидывать не стали и отпустили. Если бы нашли винтовки, то мальчишек, конечно, расстреляли бы. Это все было в осенние месяцы 43 года. Партизаны, в основном, базировались в деревнях, которые находились в лесу, вдалеке от шоссе Псков – Новгород. В нашу деревню партизаны пришли где-то в ноябре месяце.
Станция Дно находилась за 25 километров от нашей деревни строго на юг, это по шоссе. Если считать по прямой, то получается 18 километров, это очень крупный железнодорожный узел. Для немцев эта железнодорожная ветка имела очень важное стратегическое значение. Через станцию Дно проходили все железнодорожные составы, питающие немецкую армию на ленинградском фронте. Вот, в основном, из-за этой станции в тылу у немцев развернулось такое сильное партизанское движение. Весь Дновский район был обложен партизанскими отрядами. Уже с сентября 43 года повсеместно шли стычки с немцами. Деревни горели каждую ночь. У партизан была главная задача – это железная дорога. Немцы в Дновском районе сосредоточили очень большие охранные силы.
Появились и первые отряды СС. Еще немцы, отдыхая у нас в 42 году, говорили, что они такие же люди, как мы, и они нас не тронут. Но если придут солдаты СС в черной форме, то мы должны убегать в лес или прятаться куда угодно, только не попадаться им на глаза. Это нелюди. Они с детства приучены убивать. В основном, у них нет родителей. Они росли и воспитывались в детских домах. Там их учили только убивать.
Деревня Горушка находится от нас в семи километрах на восток, на том берегу Шелони, в Дновском районе. В октябре месяце там появились партизаны. Естественно, произошел бой, партизаны ушли. Немцы в отместку выгнали все население в поле и расстреляли. Там погибло, по-моему, 240 человек. Там сейчас поставили памятник. Я после войны рыбачил на Шелони и познакомился с одним из участников этого события. Он мне ровесник. Он рассказал, что, когда их в поле построили в строй, мать прижала его к себе под пальто и предупредила, чтобы он оттуда не вылезал. Когда мать, убитая, упала, он оказался под ней. Лежал там молча, не шевелясь. После расстрела они обложили трупы соломой, подожгли и ушли. Из этой кучи выползли всего шесть человек, это были дети, которых спасли матери. Там была и моя родня по линии отца. Это были люди – мастера по глиняному делу. Они по всей округе клали печи, камины и делали горшки.
Немцы, отдыхая у нас в 42 году, говорили, что они такие же люди, как мы, и они нас не тронут. Но если придут солдаты СС в черной форме, то мы должны убегать в лес или прятаться куда угодно, только не попадаться им на глаза. Это нелюди. Они с детства приучены убивать.
После этого слух разнесся быстро, и мы, малые и старые, четко знали, что если придут отряды СС, то нужно уходить в лес. Партизанские отряды росли как на дрожжах. Все молодые люди, которым в 41 году было по 14–15 лет, в 43-м должны были служить. Их брали в партизаны как по мобилизации. Много людей в 41 году оставалось в деревнях при отступлении нашей армии. Все эти заблудшие солдатики подлежали мобилизации. К октябрю месяцу 10-я бригада занимала уже весь Павский район. Партизаны отбирали у населения лошадей, а также овец, коз и коров. Так у нас взяли еще в сентябре коня. Звали его Персик. Он был рыжего цвета и какой-то маленькой породы. Позже я его видел, когда через нашу деревню проходил партизанский отряд. Персик тащил сани в упряжке. Снег еще не выпал и тащить сани по земле было, конечно, очень тяжело.
Начиная с конца сентября каждую ночь горела какая-нибудь деревня. Каждый день где-то был бой, а по ночам было видно зарево. Старушки крестились и говорили: «В Библии сказано, что придет Антихрист и загорится земля и небо».
Пришел сентябрь 43 года, мне исполнилось семь лет, и я пошел в первый класс. До 43-го наша начальная школа работала, и мой старший брат уже закончил два класса и пошел в третий. Учебников и бумаги не было. Нам в школе выдали такие большие тетради в виде блокнота. Состояла она из пластмассовых черных листов. Листы были разлинованы белыми линиями в клетку, в линейку и в косую линейку. К тетради прилагался карандаш с белым грифелем. Он хорошо писал на черном листе. Когда тетрадь была исписана, эти листы мыли влажной тряпкой и можно было начинать снова. Так, при помощи этой тетради и классной доски, мы постигали азы знаний. Проучились мы где-то около месяца, и в начале октября школу закрыли. В этот день ночью к нам в деревню пришел большой отряд партизан, они пробыли у нас до полудня и ушли на север от нашей деревни в более лесной район и глухие деревни. Туда немцы не совались.
В конце августа у нас в деревне заболела дедушкина сестра. Она была очень старая, вероятно старшая сестра деда, где-то ей было под восемьдесят. Она жила одна в своем доме на краю деревни. Моя мама каждый день ходила к ней и даже там ночевала. С каждым днем ей становилось все хуже, и ее решили взять в наш дом. Ее перевезли на телеге и положили в комнате на кровать. Температуру было не сбить, лекарств не было, и через неделю она умерла. Ее положили в гроб и оставили в доме на ночь. Обычно покойников, положив в гроб, отвозили в часовню, но, так как лошади у нас уже не было, ее решили оставить дома. Утром, когда встали, стало светло, и все увидели у нее на лице много, очень много крупных вшей. Мама взяла бумагу, намочила в керосине, вши прилипали к бумаге, и она бросила бумагу в печку. Дедушка сказал, что эти вши тифозные, и Мария Ивановна, оказывается, заболела тифом. Дедушка нам всем настрого запретил говорить об этом. Нужно было это сохранить в тайне, а то немцы очень боялись тифа. Если бы они узнали об этом, то могли сразу сжечь наш дом, а то и всю деревню. В этот же день мы похоронили Марию Ивановну.
Начиная с сентября месяца усилились налеты нашей авиации на станцию Дно. В хорошую погоду нам были хорошо видны эти налеты. Вечерами, после девяти часов, каждый день начинался этот концерт. Прилетали наши самолеты, начинали бомбить. Сразу вспыхивали прожектора. Они шарили по небу, находили и вели наши самолеты. Были хорошо видны разрывы снарядов в воздухе, цепочки трассирующих пуль. Если бомбы попадали, например, в цистерны с топливом, то кверху поднимался столб огня, и потом это горело до утра. Днем все тихо, а с 8–9 вечера это начиналось вновь, и так каждый день. Дед раскрыл крышу в амбаре. Крыши были покрыты соломой, и, для того чтобы они загорелись, достаточно было одного выстрела зажигательной пулей. Всю домашнюю утварь, ценные вещи и продукты питания: зерно, картофель – все закапывали в землю. Делалось это тайком, ночью, потому что полакомиться этим желающих было много. Так, к октябрю у нас в доме не было ничего лишнего, только самое необходимое. В начале ноября заболел дедушка. Я спал с ним в одной кровати. Он заболел также тифом. Однажды вечером я лег спать, а дедушка начал бредить, он сказал, что вот тут возле камня налимы трутся. Тетя Надя была рядом, спросила его: «А щук там нет?» Он ответил, что щук нет. Это были его последние слова. Меня переложили на другую кровать. Ночью я проснулся и увидел, как соседские старушки моют деда. Нас осталось в семье семь человек.
Начиная с сентября месяца усилились налеты нашей авиации на станцию Дно. В хорошую погоду нам были хорошо видны эти налеты. Вечерами, после девяти часов, каждый день начинался этот концерт. Прилетали наши самолеты, начинали бомбить. Сразу вспыхивали прожектора. Они шарили по небу, находили и вели наши самолеты. Были хорошо видны разрывы снарядов в воздухе, цепочки трассирующих пуль.
Когда вечером мы ложились спать, то бабушка все наши валенки клала в печь. Там они хорошо высыхали.
Однажды был какой-то праздник. Решили испечь пирог. Истопили печку и положили в нее пирог. Осталось немного теста. Мама сделала небольшой хлебец и посадила в печь вместе с пирогом. Когда пирог испекся, его вынули, и оказалось, что хлебец еще сыроват. Его посадили вновь, и про это все забыли. Когда вечером стали укладывать валенки в печку, бабушка вынула этот хлебец. Я ей помогал, подавал ей валенки. Она постучала по хлебу пальцем и сказала, что кто-то в нашей семье сгорит. Хлебец превратился в уголек.
Так бабушка предсказала себе такую смерть.
Похоронив деда, почти сразу заболела мама – и опять тиф. У нас в деревне немцев не было в это время. В Боровичах, от нас в семи километрах, стоял немецкий гарнизон. Там был какой-то немецкий медпункт. Работали там и немцы, и наши русские врачи. У тети Нади я один раз видел несколько колец, какие они были, золотые или нет, я не знаю, но камни на кольцах были очень яркие и красивые. Благодаря этим кольцам, она сумела уговорить одну врачиху приехать к нам в деревню к больной маме. Врач приехала. Она дала лекарств, сделала уколы.
У тети Нади я один раз видел несколько колец, какие они были, золотые или нет, я не знаю, но камни на кольцах были очень яркие и красивые.
Благодаря этим кольцам, она сумела уговорить одну врачиху приехать к нам в деревню к больной маме.
Потом она приезжала еще раза два или три. Недели через две мама, можно сказать, поправилась, но была очень слабая.
Ей бы нужно было вылечиться и набрать силы, но она стала вставать и включилась в повседневную работу. Так как она была слабая после болезни, то во время работы часто потела и в результате сильно простудилась. Она заболела ангиной, и так сильно, что буквально через три дня у нее в горле образовались большие нарывы, которые маму и задушили. Мама умерла. Ей было всего тридцать лет. Похоронив маму в середине ноября, сразу заболела бабушка – и тоже тиф.
К этому времени обстановка сильно обострилась. Немцы вели активные действия против партизан, которые занимали деревни на шоссе Псков– Новгород. Партизан становилось все больше. Из деревень уже уходили все люди. Женщины, старики и дети – в леса, молодежь в партизанские отряды. Партизаны стремились к железной дороге, немцы старались не пускать партизан в Дновский район. Треугольник Порхов – Дно – Сольцы стал районом постоянных боевых действий. Немцы ночью окружали какую-нибудь деревню, и на рассвете начинался бой. Партизаны, конечно, уходили, но недалеко. Гибли и партизаны, гибли и немцы. Бои были каждый день. По ночам горели деревни, и мы знали где идут бои. В конце ноября такой бой произошел в соседней от нас деревне Опоки. Там дрались немцы с партизанами три дня. Там стоит и ныне действует церковь. Партизаны установили на колокольне пулеметы, и немцы понесли большие потери за три дня. Доходила очередь и до нашей деревни. В конце ноября вечером пришли партизаны и забрали всех коров. Они угнали все стадо. Они уже знали, что в деревне будет бой. У нас взяли корову и нетель, которая должна была отелиться.
Сестра Соня ходила ночевать к своей двоюродной бабушке по отцу. Она была старая дева, было ей в ту пору около 70-ти лет, и жила она одна. Звали ее Мария Екимовна, а в простонародье просто Екимовна.
Образ жизни в ту пору был такой. Окна должны быть занавешены, это называлось «маскировка». В каждом доме были сделаны санки, на них лежали теплые вещи, запас крупы или муки и круглый хлеб. Если момент тревоги – хватали сани и уходили в лес. Такие сани были и у нас. Там лежала мука, немного крупы, мамин новый полушубок и несколько караваев хлеба.
Мы были маленькие, а пули, вернее цепочки из пуль, летели высоко, и я их не боялся. Они были трассирующие и хорошо видны.
Ложась спать, мы укладывали свою одежду так, чтобы можно было одеться в полной темноте. Хотя мне было и семь лет, но я твердо знал, что если я этого не сделаю, то мне смерть, потому что бежать в лес голому невозможно. Бабушке становилось все хуже, она была в коме, и по утрам тетя Надя давала ей несколько ложек чаю с медом.
В один из дней, утром, прибежала вся взволнованная Соня. Первые ее слова с порога: «Вот вы тут сидите, а в деревне уже во всю идет бой!» Мы сварили картошку и хотели завтракать. Все это в момент отпало, и все мы стали одеваться. Когда мы с Сашей оделись, тетя Надя дала мне Сашу и сказала: «Беги к Екимовне, у нее на огороде есть окоп, там вы и пересидите этот бой». Я, держа Сашу за руку, выбежал на шоссе, и мы побежали в сторону дома Екимовны. Расстояние до дома было метров 300–400. Мы бежали по дороге вдоль реки, а слева, со стороны леса, стреляли немцы. Они стреляли из автоматов трассирующими пулями. Мы были маленькие, а пули, вернее цепочки из пуль, летели высоко, и я их не боялся. Они были трассирующие и хорошо видны.
Прибежали мы к Екимовне. Горела лампа. Топилась печка, тикали ходики, и такое впечатление, что Екимовна куда-то вышла и вот сейчас придет. Так мы с Сашей простояли минут 15–20. Пришла Екимовна и, всплеснув руками, воскликнула: «Что вы тут делаете? Ведь я сюда зашла случайно!» Обведя взглядом комнату, она сняла со стола маленький самовар, дала его мне в руки, сама взяла одну из икон, и мы побежали по огороду к окопу. Окоп находился рядом с двумя банями на северной стороне огорода. Бой уже разгорелся, и трескотня автоматов шла со всех сторон. Сашу отправили в окоп. Окоп был размером примерно 2 на 2 метра. Там уже были люди. Я остановился посмотреть, как на западе деревни уже горел крайний дом и начали разгораться еще два дома. Я был заворожен этим зрелищем. Вдруг совсем рядом раздался щелчок. У меня мимо уха просвистела пуля. Стреляли явно из бани. Кто там стрелял – немец или партизан – я не знаю. Баня от меня была метрах в 15-ти. Вероятно, меня просто хотели попугать, и, конечно, после этого я сразу нырнул в окоп. Я еще успел заметить, что у окопа стояли наши сани. В окопе мы с Сашей сидели в самом дальнем углу. Народу было много, и поэтому сидели, плотно прижавшись друг к другу. Время было часов 7–8, потому что было еще совсем темно. У выхода сидела Екимовна, и через несколько минут она высовывалась из окна и сообщала – чьи дома загорелись. Напротив нашего окна, к югу, на берегу, между рекой и шоссе, стояла часовня. Там же, вдоль дороги и реки, стояли амбары до самого конца деревни. С одной стороны часовни стоял амбар, с другой стороны – сарай с противопожарным инвентарем. Там были насосы и телеги с бочками. Амбар и сарай были покрыты соломой, а часовня – лесом. Расстояние между крышами было более одного метра. Сгорели оба, амбар и сарай, а часовня осталась цела. Как я понял из дальнейших разговоров, нашим старушкам было не жалко целой деревни, главное, уцелела часовня.
В очередной раз Екимовна высунулась из окна и увидела немца. Он удивился, увидев старушку. В руке у немца была граната. После этого он гранату убрал и стал раскидывать вещи с наших саней. Он забрал мамин полушубок, пошел, сел на ступеньку часовни, отрезал ножом рукава и одел их на ноги, а остальное разрезал на куски.
Часам к двум дня стало тихо, прилетел самолет, сделал два круга над деревней и улетел. Из укрытий стали выходить люди. От деревни осталась примерно одна десятая часть. Остальное все сгорело. Остались бани, они были раскрыты. Осталась и наша баня, и наш амбар, недаром дед снял соломенные крыши. Сгорел дом Екимовны и наш, вместе с бабушкой. Немцы оставили несколько домов, потому что им тоже нужно было где-то ночевать. Остался цел и дом Поляковых, это рядом с нашей землянкой. Вот в этот дом мы и пришли из землянки. Женщины затопили печь и стали варить обед. Немцы ходили по деревне и собирали в кучу молодых женщин. Дали им сани и заставили на себе, так как лошадей не было, свозить своих товарищей, погибших в бою, в один из домов. Как потом говорили, свезли около двадцати трупов. Мы поели картошки с капустой и собрались уже в доме ночевать, но пришли немцы, сказали, чтобы мы уходили, так как здесь будут ночевать солдаты. Они принесли соломы и стали расстилать ее на полу. Из дома мы с Сашей уходили последними. И вот, когда я уже переступил порог, один из немцев, раздетый, расстелил свою палатку на солому, окликнул нас: «Киндер, ком!» Он подошел к нам, взял меня за руку, подвел к окну и, показав на пол и на Сашу, сказал: «Гуд бай». Мы с Сашей сняли свои пальтишки и легли на солому. В доме было очень тепло. Немец был очень большой, как у нас говорят – шкаф с руками. Волосы на нем были ярко-красные, и даже щетина была рыжая.
Оказалось, что горел дом, в который наши женщины свозили убитых немцев. Они подожгли его часов в 11 вечера. Он послужил крематорием для покойников и освещал деревню всю ночь.
После такого дня мы с Сашей, естественно, сразу уснули. Ночью я проснулся. В доме было очень светло. В боковое окно я увидел, что метрах в трехстах от нас горит дом. Я быстро надел пальтишко и стал торопить Сашу. На полу вплотную спали немцы. В это время проснулся и наш немец. Увидев, что я оделся, он снял с меня пальто и сказал: «Шляфен никс война». Мы с Сашей опять легли и снова уснули. Оказалось, что горел дом, в который наши женщины свозили убитых немцев. Они подожгли его часов в 11 вечера. Он послужил крематорием для покойников и освещал деревню всю ночь.
Проснулись мы с Сашей, когда на улице было уже светло. В доме мы были вдвоем. Я услышал выстрелы и посмотрел в окно.
Напротив этого дома, который горел всю ночь, был дом моей крестной. Дом был двухэтажный и покрыт дранкой, поэтому и остался цел. Там, вероятно, остановилось начальство. Все немецкие солдаты стояли в строю напротив этого дома. Они почему-то стреляли из автоматов. Стреляли вверх. Создавалось впечатление, что они салютовали своим погибшим и сгоревшим товарищам. Они были в маскхалатах и на лыжах. Потом они построились, встали на лыжи и пошли на юго-запад, через реку Шелонь, напрямую в сторону Порхова. Это были последние из немцев, которых я видел. Тут в дом пришли женщины, затопили печь, наварили картошки, и мы поели картошки с огурцами и квашеной капустой. На всех пепелищах стояли бочки с огурцами и капустой, так что есть было что. Мы с Сашей побежали к своему дому. Пепелище еще дымилось. Так же стояли две бочки с огурцами и одна с капустой. Картошка в сусеке была сверху сгоревшая, а снизу испекшаяся. На том месте, где лежала больная бабушка, лежали косточки обгорелые, во дворе у нас были 3 овцы, и там лежали косточки. Была у нас и собака Дунай. Он жил под крыльцом в конуре. Как-то раз он полаял на партизан. Они сидели на лошадях и были в нетрезвом состоянии. Один снял автомат и выстрелил в собаку. Пуля попала ему в заднюю лапу. Мы его вылечили, но с тех пор он стал бояться выстрелов.
И там, где была конура собаки, лежали косточки, хотя пес не был привязан. Было в доме еще несколько кур. От них не осталось никакого следа, вероятно сгорели. В это время из леса на лошади прискакали партизаны. Увидев нас, они подъехали к нам и спросили, где немцы. Мы показали, куда они ушли, и они поскакал вдоль деревни. К концу дня из леса пригнали деревенских коров. Я увидел и наших коров. Партизаны говорили, что, кто увидел своих коров – тот может их забрать. Тети Нади, Сони и Жени не было. И сена не было, оно сгорело вместе с домом. Коров угнали в Козловичи, деревню, которая находилась в лесу и была занята партизанами. В деревню стали возвращаться жители нашей деревни, которые ушли в начале боя вместе с партизанами в лес. Тетя Надя, Соня и Женя притащили санки туда, к окопу, где были мы с Сашей, взяли по караваю хлеба и, спустившись около часовни в реку, пошли на восток. Все население деревни, которое могло ходить, спустилось в реку и вместе с партизанами ушло в лес. Лес находился в километре от деревни. Немцы на деревню наступали с севера, со стороны леса, так что река всех спасала.
Люди стали возвращаться в деревню. Пришли и тетя Надя, Соня и Женя. Теперь наша семья состояла из пяти человек, и к нам примкнула Екимовна. Все население нашей деревни разместилось в оставшихся домах. Но жить нам здесь долго не пришлось. Прожили мы в этом доме четыре или пять дней, и вот часа в три дня бежит по дороге наш деревенский старичок дед Вася и кричит: «Хозяйки, уходите! К нам идет карательный отряд!»
Мы оделись и, взяв свои пожитки, пошли в деревню Козловичи, это на северо-восток. Не доходя до Козлович, были хутора, организованные во времена Столыпина. Все постройки были заняты, и мы пристроились в бане. Эта баня была большая, печь топилась по-чистому. В этой бане партизаны гнали самогон, так как снабжением занимались они сами. Каждый день вечером они привозили на лошади брагу, переливали ее в 200-литровую бочку, вставленную в печь, и дядя Петя, наш очень дальний родственник, затапливал печь и всю ночь сидел у огня. В бане круглые сутки было очень тепло. По субботам мы из бани уходили в дом, а хозяева бани и все беженцы мылись. Мы мылись в бане в последнюю очередь и там оставались ночевать. Так мы там прожили до нового 1944 года. Народу было нашего деревенского много. Все наши с Сашей сверстники были там. Целыми днями мы находились на улице. Все игры были в войну. Ребята постарше нас делали из дерева автоматы. Они были как настоящие, только маленькие. Целыми днями мы строчили из автоматов и кричали: «Ура!»
Связи с деревней не теряли. Ребята постарше выходили на край леса, залезали на высокое дерево и в бинокль наблюдали за деревней. Если в деревне никого не было, они сообщали об этом своим родителям, и те ходили в деревню, в основном за провиантом, пекли в печках хлеб, топили баню и мылись, а вечером уходили обратно в окопы. В основном вся деревня жила в окопах, которые были вырыты еще в 41 году. Там была и печка.
Плохо было с питанием. Все продукты, картофель, мука были спрятаны в земле еще осенью, и достать их было невозможно. Ели, в основном, картошку, которую собрали с пепелищ. Была еще гороховая мука. Витаминов никаких не было, поэтому, в основном, дети покрывались коростой. Еще нас донимали вши. Вечерами мы снимали с себя одежду, искали там вшей. И так почти каждый день. Вши были, в основном, из-за того, что мы плохо питались.
В середине января 44 года партизаны нас предупредили, чтобы мы уходили в лес, потому что немцы создавали большие карательные отряды по борьбе с партизанами и могли появиться и на нашем хуторе. Мы перебрались в окоп. Топили печку круглые сутки.
В середине января 44 года партизаны нас предупредили, чтобы мы уходили в лес, потому что немцы создавали большие карательные отряды по борьбе с партизанами и могли появиться и на нашем хуторе. Мы перебрались в окоп. Топили печку круглые сутки. Морозы были не очень сильные, поэтому было терпимо.
В один из дней января немцы предприняли акцию против партизан. Отряд немцев выехал одновременно из Порхова в Сольцы, из Солец в Дно, из Дно в Порхов. Партизаны об этом знали. От нашей деревни в двух километрах находится деревня Костыжицы, вниз по течению Шелони. На том берегу находится костыжицкое кладбище. Там партизаны сделали засаду. Когда немецкий отряд проехал нашу деревню и выехал на открытое место между деревней и лесом, открыли огонь. Немцев было около ста человек. Ехали они на лошадях, в санях. Лошади были – немецкие битюги. Сколько шел бой – я не знаю, но лошадей убили почти всех. Саней было около 30. Убили много немцев. Так этот отряд перестал существовать. Война между партизанами и немцами становилась все ожесточеннее. После этого боя в нашей деревне немцы уже оставались постоянно. Их было немного, в деревне осталось мало домов, где можно было жить. Стояла там минометная батарея.
Мы не знали ничего о том, что в Ленинграде была снята блокада, и наши части приближались к нам, а немцы готовили оборону. И вот, в один из дней, это было 27 февраля 44 года, утром, часов в 10, начался обстрел нашей территории. Стреляли из дальнобойной артиллерии из деревни Боровичи. От нас километрах в десяти. Снаряды ложились, не долетая до нас и перелетая дальше. В районе наших землянок взрывов не было. Земля была промороженная, и поэтому во время взрывов наша землянка подпрыгивала. Мы сидели вдоль стенок землянки. Длилось это часа два. Потом все стихло. Все жители землянок зашевелились. Стали на буржуйках варить обед, то есть готовить картошку. Картошку сварили и стали обедать. В это время по реке Ситне шел тот же старичок дядя Вася, который предупредил нас в деревне о карательном отряде. На этот раз он нес хорошую весть. Он просто кричал: «Хозяйки, выходите, наша армия пришла!»
В этот же вечер пришли офицеры и наши земляки. Они были одеты в белые полушубки, в погонах, на шапках звездочки, в валенках. Радости не было предела. Люди целовались, плакали. Лично для меня пришло новое понятие, что дальше мы будем жить. До этого в моем детском уме была мысль о том, что нас все равно убьют. За два последних месяца было очень много смертей. Умер дедушка, мама, сгорела бабушка, погиб в партизанах троюродный брат Вася, погиб дядя Петя, который гнал партизанский самогон.
В этот день мое сознание перевернулось, и я понял, что теперь не надо будет бегать по лесам, прятаться от карателей и что теперь можно никого не
бояться. Этот день я помню с утра и до вечера: если с утра мы сидели в землянке, прижавшись к мерзлой стенке, то вечером – такая радость. Деревня наша еще была не освобождена, но мы уже твердо знали, что это будет сделано в ближайшее время.
Радости не было предела. Люди целовались, плакали. Лично для меня пришло новое понятие, что дальше мы будем жить. До этого в моем детском уме была мысль о том, что нас все равно убьют. За два последних месяца было очень много смертей.
Наши части, что приходили к нам лесами, в основном были лыжники. Ночью послали трех разведчиков в нашу деревню. Немцы знали, что наши части подошли к деревне. Они на чистом поле закопались в снег, пропустили в деревню наших разведчиков, те прошли в деревню, никого там не обнаружили и вернулись в лес. На следующий день утром целый батальон на лыжах вышел из леса и был накрыт огнем из пулеметов и минометов. Погиб почти весь батальон. После этого немцы отступили в деревню и заняли оборону вдоль ручья, который был в середине деревни. После этой трагедии наши основные силы шли по шоссе Новгород – Псков. К полудню этого же дня они подогнали катюши. Катюши ударили по Сухлову, и немцы, которые остались живы, убежали на запад. За два последующих дня освободили весь Порховский район, а через неделю дошли до Пскова. Псков немцы укрепили очень здорово, и наши войска там были остановлены. Шоссе Псков – Новгород стало иметь стратегическое значение. Вся техника и войска двигались в сторону Пскова днем и ночью. Когда боевые действия у нас прекратились, тетя Надя, Женя и Соня ушли в деревню. Баня, хоть без крыши, осталась цела, и ее нужно было приспособить под жилье. Тете Наде в ту пору было 23 года.
Дня через три жилье было готово. Там выбросили каменку, сделали пол, поставили буржуйку, расширили окно. Амбар наш саперы разобрали и сделали из него мост через ручей, который протекал из полей и впадал в реку Шелонь. Народ в деревню стал возвращаться – у кого было какое-нибудь жилье. Осталось в деревне несколько домов. Уходя, немцы оставляли в домах какую-то жидкость, которая потом сама воспламенялась.
Так сгорел и большой дом моей крестной. У моей крестной была семья, двое сыновей и дочь Аня. С младшим Сашей мы дружили. Отец был глухонемой и поэтому для армии был непригоден и все время был в семье. У них осталась баня и амбар. Они приспособили его под жилье. Многие семьи, которым негде было жить, оставались в окопах на Ситне до лета. Летом они соорудили жилье в тех окопах, которые сделали немцы, когда отдыхали в нашей деревне в 42 году. Жили в этих окопах некоторые семьи до 48 года.
Начало марта – всегда хорошая погода. Тетя Надя и Женя ушли в деревню, меня с собой не взяли, хотя я очень просился, и я решил идти самостоятельно. Дорогу я знал хорошо и, предупредив Екимовну, пошел в деревню. Стояла солнечная тихая погода. Дорога была накатана. Когда я вышел из леса, то увидел в поле большую кучу ящиков, хорошо уложенных. Вдалеке виднелась еще такая же куча. Это были брошенные немецкие полевые склады с боеприпасами и взрывчаткой. На самой дороге валялись немецкие винтовочные патроны. Их было много, как будто кто-то их специально насеял, патроны были зеленые, а пули были белые, никелированные. На некоторых концы пуль были окрашены, это означало, что они зажигательные. Я набил два кармана и с этим грузом пришел в баню. Там, на чердаке бани, я спрятал этот товар и, конечно, забыл про него. Соня обнаружила эти патроны через несколько лет.
Итак, в марте 44 года мы пришли домой, в приспособленную под жилье баню. Потом мы ее немного расширили и жили в ней до 47 года. Снег был очень чистый, и поэтому очень хорошо были видны воронки от взрывов снарядов катюш. Они были неглубокие, но было их очень много. Вдоль ручья, где немцы держали оборону, лежало восемь немецких трупов. На них было только нательное белье. Через несколько дней в деревне организовали колхоз, и новый председатель собрал ребят и попросил захоронить эти трупы. Рано утром, в начале марта, когда по утрам сильные заморозки, мы по снегу на веревках, волоком тащили эти трупы метров за 300. Там было небольшое болотце. В болоте было несколько воронок от катюш. Там мы их и разместили. А потом весна сделала свое дело.
В то время ребят в возрасте до 17 лет было много. Осенью 44 года их всех забрали в армию. Весной же 44 года они были дома. Мой брат Екимов Николай Николаевич пробыл в десятой партизанской бригаде до марта 44 года.
Последний бой бригада приняла около райцентра Повы. Там наши войска наступали по Киевскому шоссе, а партизаны ударили им в тыл. Бой был очень сильный, где были большие потери с обеих сторон. В этом бою погиб и мой троюродный брат Вася. После этого боя, когда партизаны соединились с армией, 10-я бригада была расформирована. Партизаны от 17-ти лет и выше были призваны в армию. А партизаны до 17-ти лет были отправлены в Ленинград. Там их зачисляли в школы, где они учились специальности и восстанавливали Ленинград. Такая же участь постигла и моего брата Николая Екимова. Он попал на завод «Красный выборжец». Получил специальность столяра и проработал там до пенсии. Последние годы работал начальником цеха.
Так как вокруг деревни на полях оружия и взрывчатки было много, ребята тащили все домой. Окопы, которые были вырыты во время войны для спасения, превратились в склады боеприпасов и оружия.
Так как вокруг деревни на полях оружия и взрывчатки было много, ребята тащили все домой. Окопы, которые были вырыты во время войны для спасения, превратились в склады боеприпасов и оружия.
Амбар моей крестной превратился в жилой дом. Там жило несколько семей. Делалось все на скорую руку. В амбаре поставили буржуйку для обогрева, и на ней готовили пищу. Трубу провели прямо через соломенную крышу. Конечно, с такой трубой этот амбар где-то в середине марта поздно вечером загорелся. Загорелась солома около трубы. Попытались потушить, но огонь и сухая солома сделали свое дело. Когда огонь дошел до чердака, то начали трещать патроны, которые были спрятаны на чердаке. Все, кто пытался тушить амбар, разбежались, а когда огонь дошел до пола, то взрывы стали очень громкие. Утром от пепелища нечего не осталось. Даже фундамент был разбросан по округе. За полмесяца Саша, Вася и дядя Женя натаскали много боеприпасов, начиная от гранат, немецких толкушек и кончая противотанковыми минами. Все это хранилось под амбаром. Для ребят всех возрастов было полное раздолье. На поле два склада боеприпасов. Тащили все домой, ребята постарше взрывали лед на реке, брали толовую шашку 200 граммов, вставляли во взрыватель бикфордов шнур, поджигали, клали на лед, и прорубь готова. Когда начался ледоход, то целый день в том месте, где ручей впадал в реку, взрывали толовые шашки по сто граммов. В том, 1944, году рыбы в реке было очень много, потому что три года ее никто не ловил. Рыба всплывала вверх животом. Рыбой снабжали всю деревню, и это было большое подспорье в голодное время.
Вечерами около часовни, на пятачке, устраивали фейерверки. Особенно красиво получалось из патронов 23-миллиметрового калибра. Брали патрон, вынимали пулю, отсыпали половину пороха, вставляли пулю и проталкивали в середину патрона. И сверху засыпали порох. Сначала был огненный фонтан, потом вылетала пуля, и опять горел фонтан.
Всю весну 44 года занимались этим делом. Не обошлось, конечно, и без ЧП. Погиб один из братьев Большаковых, Ваня. У них была землянка в огороде, где они хранили все это добро, и уже в конце весны Ваня отвинчивал взрыватель снаряда, и он взорвался. Ване разорвало весь живот, и он через два часа скончался. Это был сигнал для всех, что пора заканчивать эти игры.
Один мальчик из семьи беженцев нашел противотанковую гранату. Он решил ее бросить в реку. Выдернул чеку и бросил. Противотанковая граната, как только касалась препятствия, сразу взрывалась. Он этого не знал. Она коснулась воды и взорвалась. Взрывной волной его отбросило метров на 10. Засыпало глаза песком и выбило стекла у стоящего напротив дома. Стекла – большая ценность в те времена.
Когда сошел снег, склады и все валявшиеся взрывчатые вещества собрали наши саперы и увезли. Потом стали убирать танки и подбитые машины. Их, в основном, волоком тащили в Порхов тракторами. Грузили на платформу и увозили на переплавку. Мы ходили по полям, собирали медные гильзы, патроны и сдавали в металлолом.
Но это было все весной и летом 1944 года. А пока мы целыми днями сидели на речке или на переправе через ручей, он весной превращался в целую реку. Через ручей на шоссе был построен хороший деревянный мост. Мост отстоял всю войну, и в январе 1944 года, когда в деревне никого не было, партизаны мост сожгли, для того чтобы при отступлении немцев им помешать. Но немцы им не воспользовались, техники у них тут не было. Когда начали наступать наши, мост очень понадобился. Пришли наши саперы, разобрали наш амбар и сделали мост. По нему хорошо проходили машины, повозки. Но когда проходили трактора с оружием и еще тащили сани с боеприпасами и снаряжением, то этот мост вытаскивали на берег вместе с санями. Саперы начинали строить заново. Потом, в начале апреля, когда все растаяло, машины стали вязнуть в грязи, и у переправы стали скапливаться очереди.
Мост построили заново в июле 1944 года. Тогда к нам в деревню приехала воинская часть. Они поселились в лесу на берегу реки Ситня. Там, где мы жили в 1941 году, когда пришли немцы. Солдаты жили в палатках и занимались заготовкой сена. Они косили, сушили и стоговали сено, а часть солдат строили мост. Тетя Надя устроилась работать в дорожную службу. Ей дали хлебную карточку. По этой карточке она получала кукурузную муку, и мы из нее варили кашу.
Конечно, с едой было очень плохо. Все, что было закошено, испортилось. Зерно подмокло, картофель смерз. Но все равно все это шло в пищу. Летом мы с Женей ходили варить раков в Ситню. Их было очень много. Мы нашли место недалеко от наших окопов, где южный берег пологий, а северный крутой и весь заросший ольхой. Там было много раков, когда наступала темнота, часов в 10–11 вечера, мы на южном берегу разводили два костра, примерно в метре от воды. И всю ночь поддерживали там огонь. Раки сами выползали из воды и шли к огню. Наше дело было их собирать в мешок. Так под утро мы набивали два мешка и несли их к солдатам на кухню. Там повар нам давал две или три большие банки каши с консервами. Летом, конечно, посадили огород.
Еще весной 1944 года пришлось нашим жителям хоронить лошадей и немецких солдат, убитых партизанами в январе 1944 года. Наступила осень 1944 года. Мы пошли в школу. В нашей деревне не было ни одной постройки, пригодной для школы. И поэтому мы должны были ходить в школу в соседнюю деревню Опоки. Там уцелело двухэтажное здание. На первом этаже находилось правление колхоза и магазин, на втором было две комнаты. В одной комнате учился первый и третий класс, в другой второй и четвертый. Было всего две учительницы. Школьники были из трех деревень. Больше всего ребят было из нашей деревни.
Самая большая проблема с бумагой. Бумаги как таковой не было, и под письмо приспосабливали все, что могли. В дело шли старые книги, газеты и даже цветная бумага. Кто что мог достать. Даже ходили в лес – отдирали бересту от берез и на ней писали. Так мы учились. Осенью очень часто ходили на колхозное поле помогать убирать картофель. На эту работу шли с удовольствием. Там варили картошку, и мы были сыты. Ходили в школу босиком, так как обуви не было. Мы до 1948 года ходили босиком до морозов, а там обували валенки. А весной, когда снег сходил, сразу ходили босиком, потому что другой обуви не было.
Мы до 1948 года ходили босиком до морозов, а там обували валенки. А весной, когда снег сходил, сразу ходили босиком, потому что другой обуви не было.
В деревню вернулись все эвакуированные. Вернулся и довоенный председатель дядя Вася и счетовод дядя Миша. Жизнь налаживалась. Начали пахать землю. Давали колхозу лошадей немецких, которые были тяжеловозы.
Но у нас они быстро подыхали, так как их было нечем кормить.
В августе 44 года тетя Надя отвезла Женю в Ленинград. Там остался в живых папин приятель. Он работал на заводе. Он устроил Женю в ремесленное училище. Туда брали детей, круглых сирот, с 12 лет. Женю туда взяли, и проучился он 4 года. Вышел оттуда слесарем и стал работать на заводе Жданова, ныне Северная верфь. Там он и проработал всю жизнь. В декабре 44 года определили и Сашу в детский дом. Как ребенка без родителей. Меня тетя Надя оставила при себе, так как она работала на дороге и не считалась колхозницей. Я как сын колхозников имел право на наш огород, и если бы меня отдали в детский дом, то тетя Надя лишилась бы огорода.
Так мы встречали год 45-й вчетвером: тетя Надя, Соня, Екимовна и я. Соня в 44-м пошла в школу в деревне Гридино, куда и мне пришлось потом ходить. В 1945-м она закончила 7-й класс и поступила работать на маслозавод в деревне Березе, где и проработала всю жизнь.
В один из дней в июле месяце 44 года я на реке варил рыбу. И вот, начиная с утра и до позднего вечера шли в сторону Пскова катюши. Они шли колоннами по 15–20 машин на студерах, закрытые чехлами и на приличной скорости. Они шли с перерывами по 30 минут. Сколько сотен их прошло, я не знаю. Но на следующий день со стороны Пскова доносился грохот, хотя от Пскова до нас 100 км. Через три дня сказали, что Псков освобожден и немцев погнали дальше. Шли санитарные автобусы и машины. Все везли раненых на станцию Сальцы, а там в санитарные поезда и в Ленинград.
Уже чувствовалось приближение конца войны. Омрачало только одно, что стали наши деревенские часто получать похоронки. Было очень обидно, что люди гибли перед окончанием войны.
Их так ждали дома.
В 1944 году Сергей Михалков написал гимн Советского Союза, и вот мы учили его, естественно, наизусть. Гимн пели при каждом удобном случае. На концертах, собраниях. Наступил 1945 год. Немцы Псков обороняли долго. Весной была сильная распутица, сильных боевых действий не велось. Вскоре дороги высохли, и каждый день от станции Сольцы пошли войска и техника. Мы чувствовали, что ожидается большое сражение.
Уже чувствовалось приближение конца войны. Омрачало только одно, что стали наши деревенские часто получать похоронки. Пришла похоронка и на отца. Пропал без вести. Погиб и мой дядя Петя. Он погиб при форсировании реки Нарвы. Получили похоронку и на тетю Аню – мать Сони и Коли. Было очень обидно, что люди гибли перед окончанием войны. Их так ждали дома.
Наступило 9 мая. Мы как всегда пришли в школу. Прозвенел звонок. Мы сели за парты. Приходит наша учительница Надежа Михайловна. Она шла к своему столу без журнала и тетрадок, слегка улыбаясь, руки скрестив на груди. Она посмотрела на нас и сказала: «Ребята, сегодня занятий не будет. Сегодня закончилась война!» Что тут произошло! Тридцать ртов в нашей комнате и столько же в соседней закричали «ура!». Поднялся шум, гам, старшеклассники устроили пляску. Кто-то пел, некоторые заплакали. Это длилось полчаса. Потом мы побежали по домам. Я прибежал в свою баню. Тетя Надя была на работе. Соня в школе. Екимовна ушла к соседям. Погода в тот день стояла чудесная. Светило солнце, дул ветерок, очень по-весеннему теплый. По небу проносились редкие белые облака. Я взял удочку и побежал ловить рыбу. В тот день в деревне никто не работал. Вечером у часовни состоялась большая гулянка.
Сорок пятый год был и радостным, и тяжелым. Стали возвращаться с войны наши мужчины – солдаты. Вернулось очень мало, по сравнению с тем, сколько ушло. Ушли в сорок первом году больше пятидесяти человек, а вернулось меньше двадцати.
Вернулся и мой дядя, брат отца, дядя Миша. Вернулся двоюродный дядя по матери, дядя Вася. Вернулся один из кузнецов, с котором папа работал в кузнице.
Всем, кто вернулся, пришлось жизнь начинать сначала. Семьи жили в землянках. Нужно было начинать строить. Лошадей в колхозе не было. Лес приходилось, в основном, зимой вывозить на себе. Так заготовили за зиму бревен, кто как мог. Основная стройка началась в сорок шестом году. Работали на себя вечерами, потому что днем была работа в колхозе. С едой было плохо. Иногда мужики собирались в кучку и толковали, что делать дальше. В это время неспокойно было на Украине и в Эстонии. Там еще шла война с лесными братьями.
На счастье или несчастье, в это время приехал в деревню вербовщик. И семь бывших солдат завербовались в Архангельскую область пилить лес. По контракту, отработав два года, они получали паспорта. Условия работы очень тяжелые. Работали вместе с заключенными. Зэков кормили, и жили они в бараках. А нашим вольнонаемным пришлось питаться самостоятельно и жить в землянках, как на войне. Два года прошли, и они получили вожделенные паспорта, теперь они могли уехать из деревни, куда хотят. Двое приехали в Пулково, под Ленинградом. Там они устроились в свиноводческий совхоз рабочими. Там с питанием было хорошо, потому что свиней, в основном, кормили просроченными и списанными продуктами. Со временем они туда перевели свои семьи. Остальные уехали на стройку в Пикалево. Там шло строительство цементного завода, и они перевезли свои семьи к себе. Правда, эти бывшие солдаты, дойдя до Берлина и отсидев еще два года в архангельских болотах в голоде и холоде, быстро поумирали, но их семьи и до сих пор там живут.
В то и в последующее время из колхоза старались удрать любым способом – вербовку прекратили. Вербовали только тех, у кого был паспорт, а таких в деревнях не было. Ребята уходили в армию служить. И там вербовались после окончания службы. Девчонки уходили в город. Их брали в няньки. И после 16 лет они получали паспорта или поступали в техникумы после окончания семилетки. Так поступали две мои двоюродные сестры. Вера работала в няньках с 13 до 16 лет, а Маруся поступила в техникум во Пскове.
Так к новому 1946 году население нашей деревни еще не очень убавилось, но дело шло к этому. Летом 1945 года подремонтировали уцелевший дом и решили там сделать школу. Дом этот после войны оказался ничейным и поэтому стал колхозным. Там сначала сделали в одной комнате управление колхоза «Свободное Сухлово», а в другой половине сделали магазин. Так как у колхозников не было денег, то в магазин никто не ходил, и его вскоре закрыли. Правление перевели в другой дом. Дом был большой, и там жила одна женщина с двумя детьми. Летом 1945 года сделали в бывшем магазине начальную школу, в которую осенью того же года я пошел во второй класс.
Особенно трудными были год 1946-й и 1947-й.
1946 год был очень дождливый. Картошка выросла на огороде и в колхозе очень плохая, мелкая и гнилая, а это был основной продукт питания в те годы. Это, в основном, и спровоцировало голод 1947 года.
Владимир в училище
Осенью 45 года из армии демобилизовался житель нашей деревни Иван Николаевич Аршавин. И его родители, и брат, и он сам – уроженцы нашей деревни. Еще один брат – дядя Петя, жил в Ленинграде, работал сапожником. Сестра Аня жила в деревне Вошково, туда она вышла замуж. Вот говорят, что футболист Аршавин родился по линии дяди Пети, получается, что дядя Петя будет ему прадедом.
В 1945-м тетя Надя и дядя Ваня поженились, и он пришел к нам в баню жить. Он был человек партийный, прошел финскую и Отечественную войну, имел много наград и был на фронте командиром орудия гаубицы. Во всех отношениях был человек положительный. Он был грамотный. К нему всегда обращались жители нашей деревни, если нужно было составить какую-нибудь бумагу, или письмо, или заявление.
Был у него один существенный недостаток. Если он много выпивал, то становился неуправляем. Может, это сказывались контузии, которых было несколько за две войны. Впоследствии это его и сгубило. Он устроился на работу начальником транспорта на спиртовой завод, который находился в семи километрах от нашей деревни. Естественно, стал приходить домой подшофе и вести себя неподобающе.
В деревне денег не было: даже когда привозили в деревню кинопередвижку, молодежь не могла сходить в кино из-за отсутствия денег.
Тетя Надя была женщина к тому времени волевая и заставила его взять расчет, и он стал колхозником. Они собрали все имущество, которое было у тети Нади и которое привез дядя Ваня из Германии, часы, костюм, продали на барахолке в Ленинграде и купили у нас в деревне недостроенный дом, как говорят «с рук». В сентябре 1946 года у них родился сын Николай.
И наступил год 1947-й. Дядю Ваню выбрали бригадиром. В то время в деревне было три бригады. В колхозе не было тягловой силы. Лошадей в колхозе было очень мало. Сказывалась бескормица. Стали приспосабливать быков. МТС работала плохо. Тракторов было очень мало, да и те были маломощные. Не столько работали, сколько простаивали. В мае месяце мы посадили картошку, и после посадки у нас осталось одно ведро. Так начинался голод в деревне в 1947 году. Произошла отмена карточек. Продукты теперь продавались без карточек, но это в городе.
В деревне денег не было: даже когда привозили в деревню кинопередвижку, молодежь не могла сходить в кино из-за отсутствия денег.
В то время в стране сельского населения было 73 процента, а городского 23 процента. В последующие годы каждый год делалось снижение цен. До сих пор старики вспоминают это прекрасное время.
Но это был политический трюк. Снижение делалось для рабочих 23 процентов, а для крестьян оно не делалось по той простой причине, что у крестьян не было денег. Работали за трудодни, то есть за палочки. Отоваривали эти трудодни в конце года, когда собран был весь урожай, были выполнены все госпоставки и все колхозные закрома оказывались пустыми. Этот момент хорошо показали в фильме «Председатель», поэтому колхозники жили за счет огорода – это те шестьдесят соток, которые давали колхознику в пользование.
Люди соток пятнадцать сеяли озимую рожь. Пятнадцать уходило под постройки и овощи, и остальные тридцать сажали картофель. Это был второй, а в основном первый, хлеб. В то время в деревне пекли хлеб дома, так как хлеб не продавался. Не продавалась и мука. Хлеб пекли из той ржи, которую вырастили на своем участке. Хлеб получался своеобразный. Муки было в этом хлебе процентов 20. А остальное – наполнители. В основном это была брюква, репа и картофель.
Когда шла шумиха по поводу снижения цен, колхозник мечтал съесть кусок настоящего ржаного хлеба. Но когда объявляли о снижении цен, то всегда почему-то на первом месте стоял шифер. Мы знали, что это материал для крыши, но мы и в глаза его не видели. А крыши по-прежнему крыли соломой. И иногда, кто мог, дранкой. Шифер у нас появился только в шестидесятых годах. Тетя Надя перекрыла дом шифером только в 1968 году. Этот шифер я купил по знакомству и по справке, что требуется шифер. Так что снижение делалось, в основном, на те товары, которых не было, или на те, которые не пользовались спросом.
Еще одна беда – для проживающих в деревне были непосильные налоги. Колхоз имел в своём распоряжении 3500 га земли. На эту землю накладывался налог в виде госпоставок продуктов, которые колхоз выращивал, а это мясо, молоко, овощи, сено, лён, яйца и другие продукты. Колхозу за сданную продукцию денег не платили, это был налог на хозяйственную землю. Колхозники платили ещё один налог, на те 60 соток, которые им выделил колхоз для личного пользования. Налог этот составлял немаленькую сумму. Вот налог 1947 года, как говорили в деревне, на кота (это если в хозяйстве не было живности): в год нужно было отдать семьсот рублей (эта сумма была до реформы 1947 года), 40 кило мяса, 100 штук яиц, 1 кг шерсти. Если была корова – 360 литров молока, если поросёнок – то 800 рублей и сдать шкуру, 75 рублей с одной яблони и 25 рублей с куста смородины или крыжовника. Все сады, которые остались целы после войны, были вырублены в 47 году. Коров в деревне было очень мало. Дело в том, что коровам на зиму нужно было заготовить корм, а косить для своих коров на колхозной земле запрещалось. Поэтому в 47 году осенью очень много коров зарезали, потому что нечем было кормить. Что удивительно, были козы. Их не обкладывали никаким налогом, и население стало разводить коз. Коза давала 3–4 литра молока. Две-три козы заменяли корову. Так коз и прозвали «сталинскими коровами».
Что удивительно, были козы. Их не обкладывали никаким налогом, и население стало разводить коз. Коза давала 3–4 литра молока. Две-три козы заменяли корову. Так коз и прозвали «сталинскими коровами».
Так в 1947 году обзавелись и мы козой. Она была молодая, объягнилась и давала около трёх литров молока. Моему двоюродному брату Коле ещё не было и года. У тёти Нади было мало молока, поэтому коза спасла им жизнь.
Начался июнь месяц. Есть было нечего. Тётя Надя была дома. Она была в декретном отпуске до года с ребёнком. Дядя Ваня целыми днями в поле. Я занимался рыбалкой, целыми днями с удочкой. Дядя Ваня иногда топил ригу в гумне. Сушили лён для переработки. Однажды ночью, когда нужно было подкинуть дров в печку, он взял меня с собой. Гумно стояло на небольшом фундаменте из камней. Дядя Ваня сказал, чтобы я залез в подпол и пролез под полом гумна. В гумне был пол, на котором молотили рожь и другие посевные культуры. Я заметил в середине гумна под полом пирамидку. Когда я к ней подполз, это оказалось льняное семя. В полу оказалась небольшая дырка. Из доски выпал сучок. Всё это я переложил в мешок. Там оказались и другие семена.
Всё это я собрал, и мы принесли домой. Оказалось килограммов 20. Положили на печку, высушили, а потом вечерами, в ступке, перетолкли на муку. Так мы неожиданно разбогатели. К этому времени, в конце мая, мы перебрались жить в купленный дом. Жильё было приспособлено только в одной половине дома. А другая была ещё без пола и потолка. Хотя общая жилая площадь помещения не превышала 15 метров, это были хоромы по сравнению с баней. В бане остались жить Соня и Екимовна. Им дали земли 15 соток. Соня уже работала и получала зарплату деньгами. Там они прожили до 1960 года. Потом Соня купила домик, так там и прожила всю жизнь.
Прожить нам нужно было два голодных месяца: июнь и июль. Утром я брал корзину и шёл рвать траву, крапиву, лебеду, гусиные лапки, приносил домой, а тётя Надя затапливала печку и кипятила воду. Когда вода закипала, в эту воду мы складывали эту траву. Когда она обваривалась, мы её складывали в решето. Вода стекала, трава остывала и её пропускали через мясорубку. Потом тётя Надя делала лепёшки из этой массы, обваляв их в муке из семечек. Они пропитывались запахом масла и на сковородке подсушивались. Они нам заменяли хлеб. Если мне удавалось наловить рыбы, то жарили рыбу. В конце июня на трудодни дали дуранды – это жмых, который остается при приготовлении растительного масла из подсолнухов, из этой дуранды приспособились варить суп. Так мы сумели прожить июнь и июль 1947 года. Эти два месяца были самыми голодными в моей жизни. Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь.
Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь. Дядя Ваня в одном сапоге послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром, это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел.
Я до сих пор помню его вкус.
В школу, в четвёртый класс, ходил рядом. В августе месяце уже ели картошку с нового урожая. И смололи немного ржи с моего огорода.
Осенью 1947 года прошла реформа денег. Первые деньги нового образца нам показала соседка-учительница, получив зарплату. В конце года мы купили корову, козу продали. Я имел наш старый огород, так как числился колхозником, и мы полностью его выкашивали. Налог с меня не брали, потому что я был несовершеннолетний. Потом учителю от колхоза был положен тоже участок земли. Она отдавала его нам. Там тоже было сено. Так что корма корове хватало на зиму, а нам вместе с учительницей молока.
Дядя Ваня попросил дядю Петю купить в Ленинграде кирзовые сапоги. Он выполнил его просьбу и прислал не по почте, а с кем-то, кто ехал из города в деревню. В одном сапоге он послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром, это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел. Я до сих пор помню его вкус.
Так, пережив самый голодный год в своей жизни, мы встретили год 1948-й. В сорок восьмом году жизнь стала налаживаться. В колхозе стали выращивать лён. Его у нас умели обрабатывать. И вот, в зимние месяцы до весны наши женщины его трепали, чесали, и каждую субботу дядя Ваня укладывал недельную продукцию в сани и вёз за 30 км на льнозавод в Павы. Сдавал его высшим сортом. За лён хорошо платили (правда, не деньгами, а зерном пшеницы). Так в 48 году мы впервые попробовали пирогов из пшеничной муки.
В 48-м мы вплотную занялись домом. Всё лето с дядей Ваней строгали по вечерам доски на пол и потолок. Летом наняли плотника из Вошкова. Пришёл старичок и сделал нам полностью жилое помещение из нашего дома. Он настлал пол и потолок, насадил окна и вставил рамы, повесил дверь. Потом позвали дядю Яшу, это был мой двоюродный дед из деревни Горушка, он был большой мастер по печкам. Он сложил замечательную печь, которая простояла до 1970 года, хорошо грела, хотя была сделана из самодельного кирпича-сырца. На этой печи я спал до 1952 года.
В 48 году я закончил начальную школу, и мы, все будущие пятиклассники, поступили в Гридинскую школу. Там раньше стоял в парке большой барский дом. Это было одноэтажное здание. Только в центре была надстройка, и там были две комнаты. После революции и до войны там была больница. А после войны сделали школу-семилетку. Во время войны вся деревня и школа не пострадали. Деревня всё время была под властью партизан, она находилась в стороне от центральных дорог, в лесу, за рекой Ситня. Со всей округе туда ходили ученики. Нам нужно было идти четыре километра.
Всё бы ничего, но вот с обувью было очень плохо. Были только валенки. Поэтому мы всё время ходили босиком, как только сходил снег и до глубокой осени. Особенно плохо было в октябре, когда на траву ложился белый иней. До леса от деревни было километра полтора, его мы пробегали бегом, прибегали в лес, не чуя ног от холода. В лесу инея не было. Потом Ситню переходили вброд и приходили в школу. Это было в первый год. Потом каждый год в сентябре наши родители приходили в воскресенье в школу с топорами и пилами и сооружали что-то типа моста, и мы уже не переходили реку вброд. Весной, с ледоходом, этот мост уносило, и мы опять переходили вброд. Как только лёд переставал плыть по реке, мы натягивали верёвку, привязав её к деревьям, и утром раздевались догола, уложив вещи на голову, и, держась за верёвку, чтобы не снесло в глубину, переходили реку. Весь апрель и половину мая мы принимали эти ванны.
Придя в школу без пятнадцати девять, мы шли на физзарядку.
После занятий – шесть-семь уроков – мы приходили домой в пять часов вечера.
Я утром выпивал кружку молока с хлебом и брал кусок с собой. Пока шли до школы, появлялся аппетит, и я съедал этот кусок ещё до девяти.
Я сейчас удивляюсь нашей детворе. Обуты, одеты, в школы, в основном, (кто живёт далеко) привозят на машинах, даже одну остановку не пройдут пешком. После школы к компьютеру или телику. В школе никакой физзарядки и урок физкультуры кое-как.
Потом мы горюем, почему наши дети такие больные.
Так мы, отходив в Гридино три года, закончили семь классов, и встал вопрос: куда пойти учиться? Женя, мой брат, уже работал на заводе. Вся трудность была в том, что было негде жить. Ремесленных училищ было много, но они все были без общежитий. У ребят, имеющих родственников в Ленинграде, проблем не было, поступай в любое, если ты прописан, а если нет прописки, то плохо, было не поступить. Было несколько училищ, куда приглашали детей только из детдомов. Так как я был круглый сирота, без отца и матери, то меня приняли. Не брали сначала, потому что рост у меня был 1 метр 49 см, а брали только с ростом не менее 150 см. Но потом в комиссии одна женщина пожалела меня и сказала, что я обязательно подрасту. Действительно, я скоро подрос. Кормили нас в училище очень хорошо. Еда, которую я дома не получал, сделала своё дело. За три года, проведенных в общежитии, я вырос на 29 см и на конец обучения был 178 сантиметров в высоту.
Было несколько училищ, куда приглашали детей только из детдомов. Так как я был круглый сирота, без отца и матери, то меня приняли. Не брали сначала, потому что рост у меня был 1 метр 49 см, а брали только с ростом не менее 150 см. Но потом в комиссии одна женщина пожалела меня и сказала, что я обязательно подрасту.
С деревней я связи не терял и при каждом возможном случае приезжал.
В 49 году, когда я закончил пятый класс, у тёти Нади родился второй сын, Женя. На работу она ходить не смогла, и поэтому вместо неё на работу ходил я. Дядя Ваня посылал меня на работу, не связанную с большими физическими нагрузками.
Так первая моя работа была связана с тракторами. Тогда трактора были очень старые, и моя работа заключалась в подноске воды к трактору. Радиатор тёк.
Пока трактор делал круг на пашне, я приносил ведро воды из ближайшей канавы.
Трактор останавливался, тракторист лил воду в радиатор и ехал дальше, а я шёл за водой.
Так все три года в летние каникулы, с мая до сентября, я работал с трактористами.
Потом я сидел на плуге и регулировал глубину вспашки, а в 1950 году дядя Миша-тракторист разрешил мне культивировать впаханное поле.
Я уже сидел за рулём и управлял трактором. К 1951 году в колхозе стало жить немного лучше, уже народ не голодал. В колхоз дали грузовую машину. Стали хорошо получать на трудодни.
В конце 1949 года у нас случилось большое несчастье.
Дядю Ваню в октябре 1949-го райком партии отправил в Псков учиться на председателя колхоза, тогда открылись такие курсы. На курсах, в основном, были фронтовики, люди, прошедшие войну. И вот однажды в выходной день они устроили небольшой сабантуй.
На их несчастье, в школу, где они жили и учились, пришёл директор. Завязался какой-то спор с директором, а потом и потасовка, директор начал убегать. В это время из города возвращался дядя Ваня. Мужики крикнули: «Иван, задержи директора!» Дядя Ваня помог, он, вероятно, был тогда подшофе. Директора немного побили. В понедельник утром, когда все протрезвели, директор сказал, что сообщит в партию. Дядя Ваня вечером того же дня взял и повесился. Ему было стыдно перед райкомом, который послал его учиться.
Тетя Надя осталась одна с двумя детьми. Через два года она снова вышла замуж, когда я уже учился в Ленинграде. У неё родились две дочери, Лида и Таня. Она пошла работать на ферму. Там и проработала до пенсии.
В 1953 году умер Сталин, на смену ему пришёл Маленков. Первое, что сделал Маленков, – отменил налог на приусадебный участок. Молоко не нужно было сдавать бесплатно. Молоко брали, но за это платили деньги. В магазинах стал появляться товар. Появились деньги у колхозников, стали покупать коров, заводить свиней. Даже молодёжь стала оставаться в деревне. Учились на курсах шофёров, трактористов, девочки на зоотехников.
Появились хорошие трактора Д. П. На гусеничном ходу, с дизельным двигателем. На лошадях уже не пахали.
Я поднял руку и спросил: какая разница между колхозником и крепостными.
Пришёл к власти Никита Хрущев. Он сделал два добрых дела: во-первых, ввел пенсию для колхозников. Она составляла 12 рублей. Но это были деньги для стариков. Можно было купить хотя бы соль и сахар. Колхозники стали получать зарплату каждый месяц. А не так как раньше – один раз в конце года. Доярки на ферме, где работала тетя Надя, стали хорошо зарабатывать. А во-вторых, колхозники получили паспорта. До этого они были как крепостные.
Когда я учился в пятом или шестом классе, со мной произошла одна история. Тетя Надя зарезала овцу осенью, и нужно было поехать в Ленинград на рынок продать её. Чтобы поехать в город, нужно было взять справку из сельсовета о том, что ты являешься членом колхоза «Свободное Сухлово», иначе на рынке не пускали в дом колхозника для ночлега.
Владимир с женой Фаиной и сыном Андреем
Я пропустил школу, сходил в сельсовет и взял справку. Мы как раз в школе в это время проходили крепостное право. На уроке истории учитель в конце урока спросил, у кого будут вопросы по теме урока. Я поднял руку и спросил: какая разница между колхозником и крепостными? Учитель засмеялся и сказал, что мы теперь живём в свободное время, в свободной стране, а крепостные жили при царе и помещиках. Началась перемена, в класс пришла наша классная руководитель и повела меня в учительскую. Когда я зашёл, все учителя повернулись в мою сторону и упёрлись глазами в меня. Николай Николаевич спросил меня, кто мне это сказал. В то время все учителя были стукачи. Их к этому обязывали власти и КГБ. Я рассказал, как брал справку для тёти.
Нина Васильевна вывела меня из учительской и тихонько сказала, чтобы я больше таких вопросов не задавал. Так вот, с приходом Хрущева этот вопрос отпал, он выдал всем паспорта и крепостных у нас в стране не стало.
Хрущев натворил и много плохого. Он отменил и разогнал МТС. Колхозы уже привыкли, что весной приедут трактора и вспашут землю в колхозе. У них была сравнительно хорошая ремонтная база, и все запчасти поступали в одно место. Теперь у колхозов появилась большая головная боль – ремонт техники. Хрущев стал укрупнять колхозы. Это вконец добило сельское хозяйство.
К нашему колхозу присоединили ещё три колхоза. Те колхозы были намного хуже нашего. У нас был хороший лес. Его выпилили за одно зиму, так как он стал общий. Если раньше штат управленцев колхоза состоял из пяти человек, то теперь вырос в десять раз. Раньше в деревне все были на виду, все знали друг друга. Теперь всё было неведомо. И народ побежал из колхоза. Молодёжь стала уезжать из деревни. Потом, видя такое положение, Брежнев стал уничтожать неперспективные деревни. И если сейчас, не дай Бог, случится война, партизанам никто не поможет. Сейчас в Сухлове проживают постоянно семь человек. Всего лишь. Летом, правда, приезжают дачники.
Деревня, которая раньше состояла из 90 домов, платила налоги государству, кормила 500 человек, обрабатывала 3500 га земли, прекратила своё существование.
Поля все заросли кустарником. Будем ждать, когда Госдума примет новые законы о подъёме сельского хозяйства. А это время уже не за горами.
Сила десятины
Деменчук Галина Демьяновна, 1938 г. р
Моя мама Ксения родила меня, последнего ребенка, в тридцать восемь лет осенью 38 года на Украине. Родители очень ждали мальчика. Папе тогда исполнилось пятьдесят три. А через месяц родила моя старшая сестра Мария. Тоже девочку. Назвали Людмилой.
Мария с мужем жили в Одессе. Мои родители с остальными детьми в Москве. Папа строил метро. Мама волновалась о судьбе старшей дочери. К тому же она была великой труженицей, все время ее тянуло к земле, к хозяйству. Так мои родители приняли решение – переехать на Украину. Здесь сразу же у нас появился огород, виноградник, двадцать кур, поросенок. Папа устроился на станцию Слободка слесарем.
Мы впервые увидели так много самолетов и в своем неведении подняли руки и закричали в два голоса «Елоплан! Елоплан! Посади нас в калман!». А дикий гул уже прямо над нами.
Лето 41 года стояло жаркое-прежаркое. Мама сшила мне и Люде красные платьица из флагового ситца. Это было в воскресенье, мы нарядились и выбежали на бугор хвастаться. Мне и Люде было по два года восемь месяцев, Люда почти на месяц младше меня. Две рано заговорившие болтушки знали уже по нескольку стишков. И вдруг послышался странный гул. Почти сразу же мы увидели со стороны, куда заходит солнце, как на нас движется огромная черная туча. Туча страшно ревела. Мы впервые увидели так много самолетов и в своем неведении подняли руки и закричали в два голоса: «Елоплан! Елоплан! Посади нас в калман!» А дикий гул уже прямо над нами. Самолетная туча все ниже и ниже. Я случайно оглянулась назад и увидела бегущую к нам с перекошенным от страха лицом маму, она закричала изо всех сил: «Тикайтэ!»
Я схватила Люду за руку, и мы спрятались в кустах люции. К нам подбежала мама, прижала к себе.
Самолеты пролетели куда-то дальше, и вскоре раздался страшный грохот. Это бомбили узловую железнодорожную станцию Слободка нашего района. Так началась для меня война.
Отец Люды, молодой агроном Игнат Бурлака, сразу же ушел на фронт. Мария с дочкой переехала к нам. Эвакуироваться мы не успели.
…Начались тяжелые годы оккупации. Прошла полуголодная армия румын, сразу заставили всех молиться и говорить по-румынски. Мы от них прятались как мухи в щелки. Со дворов брали все: свиней, кур, гусей. Не трогали только коров. Наша Лялька осталась, она нас и спасла в голодный 47 год. Потом в нашем селе появились немцы. Вычищенные, вышколенные. Всю молодежь угоняли в Германию, но в нашем селе никого не взяли. Не оказалось подонков, которые бы предали своих. А может, к нам просто Бог был милостив? У нас ведь с каждого двора десятину на церковь платили. А некоторые даже больше, почитали за честь, вот так! И нарядные войска СС, не видя нас – как будто пелена на глазах у них была, – прошли через Балту, Котовск.
Пока стояли немцы в селе, я старших сестер не видела в доме, они прятались.
Бомбили часто. По малости лет, я запомнила только эпизоды. Вот нас всех, детей, затащили в огромный погреб. Повесили гамак, мне прищемили тело, и я плакала. То волокли нас под утро в глубокий овраг за огородом, где большие кусты терна. Все спрятались под кусты, нас, детей, сверху еще прикрыли подушками. А кругом выстрелы, взрывы. Помню, как горела церковь в Бруштенах. Это уже молдавское село – от нас через долину. Было очень светло. Слышала пулеметные очереди в вербах в долине. Все это лишь отрывки, но на всю жизнь…
…Дом у нас был большой, под железной крышей. Сени, комната, кухня и холодная половина. Поселили к нам немца, мы всей семьей жили на кухне девять квадратных метров, а он один в комнате. Это был какой-то особенный немец, он уходил рано, приходил поздно. На столе держал фотографию: мужчина, белокурая женщина и две девочки. Я запомнила только красивые локоны и огромные белые банты. Эти банты стояли перед глазами все мое детство. Мне же носить бантов не довелось никогда… Нет, не плачу, а так… О себе немец гордо сказал: «Я – зольдат!»
Он часто не приходил на ночевку. Вместо него немец-денщик приводил двух девушек. (Я тогда впервые плохое слово о девушках услышала.) Они были очень красивые, особенно черненькая. Взрослые относились к ним очень настороженно, а мы с Людой – нормально. От них-то мы и услышали впервые русские народные песни. Особенно страстно они пели на два голоса «Раскинулось море широко» и плакали, плакали. Такие грудные голоса, казалось, это мать-земля через них поет, нас утешает. Только намного позже я поняла, почему они плачут. Я не помню время по месяцам, постояли у нас немцы и ушли на восток. Не грохотало, не стреляли – и слава Богу!
Это был какой-то особенный немец, он уходил рано, приходил поздно. На столе держал фотографию: мужчина, белокурая женщина и две девочки. Я запомнила только красивые локоны и огромные белые банты. Эти банты стояли перед глазами все мое детство. Мне же носить бантов не довелось никогда…
А осенью у нас уродилось очень много картошки, понятно, к нежданным едокам. Потом снова прошли какие-то военные части, но у нас они даже не останавливались. Нас тогда мама не пускала даже за ворота.
Быстро прошла зима. У нас на Одесчине весна начинается рано, ночью в долине послышались пулеметные очереди, а потом то немецкая, то русская речь. Вдруг раздался стук в окно. Мы онемели. Папа взял в руки топор, вышел. А это в окно стучал тот немец, который у нас квартировал. Он крикнул: «Гитлер капут!» – и скрылся. До рассвета в доме никто не спал, даже мы, дети. Это была еще не полная победа. Это просто наши взяли верх.
А утром дикое волнение в селе. Немцев погнали за Днестр. Шли первые наши части, шли штрафники. Начался переполох. Люди забегали-заплакали от радости. Кто-то взял хлеб-соль и вышел навстречу нашим солдатам. Обнимали их, целовали, называли сыночками. Солдаты были уставшие, грязные, не очень сытые. Их тут же расквартировали по домам. Мама варила ведерные кастрюли картошки по три раза в день. И еще их кормила грушами-дичками, они помогают при расстройстве желудка. Первые роты пошли дальше. На смену им приходили другие. И наступила весна сорок четвертого. Я уже большая! Мне скоро шесть лет.
К сестре вернулся муж. Игната списали из армии по болезни. Они попали в окружение в Белоруссии, прорывались через болота, и он сильно простыл. Его немного подлечили, и он пошел работать агрономом, тогда лекарств-то особо не было. А третьего мая сорок шестого года он умер от туберкулеза в возрасте тридцати трех лет. Так моя сестра Мария в двадцать семь лет с дочкой на руках стала вдовой.
Наш папа вернулся в свою слободку на прежнее место – слесарем. Вышли на работу сестры Феня и Маруся, а мама возилась с нами, детьми, и конечно же, хлопотала по хозяйству, занималась садом, огородом, виноградником.
В мае, когда яблоня зацвела, у нас на полгода остановились пограничные войска. Полгода счастливейших дней в моей жизни! Никого не надо бояться, можно кричать, бегать!
Пограничники спали прямо на улице, к многим из них приехали их семьи.
В нашем доме поселился одинокий седой полковник – Егоров Анатолий Константинович. Он ленинградец. Вся его семья: жена, родители жены и его – погибли от голода во время блокады. Остался один сын, его куда-то отправили с пионерским лагерем в тыл. За эти полгода мы увидели очень много, а самое главное – кино.
В мае, когда яблоня зацвела, у нас на полгода остановились пограничные войска. Полгода счастливейших дней в моей жизни! Никого не надо бояться, можно кричать, бегать! Пограничники спали прямо на улице, к многим из них приехали их семьи.
Представляете, огромный луг, заросший мелкой травкой. На этой площади к двум ольхам натянули огромное белое полотнище – экран. И каждый вечер показывали кино. Мы с Людой не пропустили ни одного фильма. Нашим провожатым был Анатолий Константинович. Он нас очень любил. Бывало, возьмет на руки, несет к винограднику и поет «Калинку», а мы весело ему подпеваем. А там мы ему подносили самый вкусный виноград, уж мы-то знали, где какой куст растет.
К осени Анатолий Константинович заболел малярией. Его сильно трясло.
За ним приехала машина из госпиталя из Рыбницы. Мама укутала его в одеяло и подушки. Через несколько дней наши вещи привезли обратно. Мама испугалась и стала молиться. А когда вернулся Анатолий Константинович из госпиталя, он низко поклонился моей маме и назвал ее своей мамой. Он еще попросил руки моей сестры Фени, но она носом стала воротить: «Мне двадцать, а ему сорок». Она ждала с фронта своего ухажера, но ему не суждено было вернуться. Война забрала его…
А где-то в сентябре привезли сына Анатолия Константиновича, его звали Алик. Я запомнила очень большие грустные глаза. Пограничники переехали дальше, к новым границам. Уехал от нас с сыном и Анатолий Константинович. Наступил сентябрь сорок пятого. Мне исполнилось семь лет.
…А церковь в нашем селе новая, но и старую еще не снесли. Стоят рядышком, как две закадычные подружки. Как в былые времена, и пенсионеры ходят, и молодежь, работы в селе нет, люди ездят по заработкам. И, знаете, что я вам скажу, кто платит «десятину», имеет и дело, и постоянный доход. Вот видите, как Господь заботится, приезжайте, сами увидите…
Стасика положили рядом с папой в окопе
Гундобина Валентина Васильевна, 1930 г. р
22 июня утром радио сообщило, что в 12 часов будет передано важное сообщение, с которым обратится Молотов. Вся наша семья в это время была дома, а папа сказал: «Тише, дети, это война». Выслушав сообщение, папа сразу ушел в военкомат, мама заплакала, маленькие сестренка и братик притихли, а брат Станислав побежал в школу № 6. Там уже было много школьников – притихших, не похожих на себя. Нам никто ничего не сказал, и мы разошлись. Папа вечером пришел расстроенный, его не взяли на фронт, так как у него была бронь. Он работал заместителем в управлении областной конторы «Заготсено». Папа неоднократно обращался в военкомат с просьбой направить в воинскую часть, но получал отказ.
13 сентября 1941 года папа пришел домой в хорошем настроении и сообщил, что зачислен во 2-й истребительный батальон. Штаб его разместили в здании театра. Папа будет обучать молодежь устройству пулемета, как пользоваться противогазом. Ведь он в Гражданскую войну проехал сотни верст, его знания и умения пригодятся.
В это время в Курске были созданы полки народного ополчения, в которые вступило более 11 тысяч человек. Были созданы группы самозащиты для противоздушной обороны. Готовясь дать отпор врагу, сотни тысяч курян сооружали оборонительные рубежи вокруг города, возводили на улицах баррикады, строили огневые точки, копали противотанковые рвы. Мы, подростки, не стояли в стороне, помогали взрослым.
Враг все ближе подходил к городу, истребительные батальоны и народное ополчение, готовясь к защите, перешли на казарменное положение.
Почти каждый день шли проливные дожди – одежда и обувь у защитников города не высыхали. Но боевая обстановка сплотила воедино весь состав батальона. Больных отправляли только тогда, когда они уже не могли держать в руках винтовки. Немало бойцов полегло в первых схватках с врагом. После боев под Фатежом 23 октября 1941 года батальон прибыл в Курск на пополнение и разместился в помещении биофабрики. Как в Гражданскую войну, организовали боевую тачанку. На ней были Филипп Григорьевич Меркулов – мой папа, Иван Александрович Прохоров и Казимир Стефанович Тиль.
Друзья выпросили у командования пулемет, разыскали бричку и хорошую пару лошадей. Так появилась единственная тачанка.
Приняв пополнение, 2-й истребительный батальон занял оборону в районе улицы Хуторской у кирпичного завода.
Отец облюбовал для своего пулемета место у стены. Рядом, в окопах, заняли оборону его товарищи. Здесь же был и Стасик, мой брат. Он быстро освоился с обстановкой и хорошо выполнял обязанности связного. Бойцы предлагали ему уйти домой к маме, а он не уходил и упрямо твердил: «Мое место рядом с папой».
Бойцы любили слушать, как он поет, любимые песни Стасика – «Орленок» и «Каховка». До войны он учился в школе и был отличником, пел в хоре Дома пионеров, играл хорошо в шахматы, очень много читал. Особенно любил читать о пограничниках, военных всех родов войск. Мечтал быть военным.
…Вечером 1 ноября у северных парков показались фашисты. Они брали город в клещи, стали обстреливать его со стороны Сапогова и Поповки. Главные силы врага шли по Фатежскому шоссе к центру города.
Всю ночь шел мелкий нудный, холодный дождь со снегом. Окопы наполнились водой и грязью. Насквозь промокшие бойцы в окопах готовились к боям. Поздно вечером отец послал Стасика в штаб. Черное небо и черная земля. Грязь хлюпает под ногами. Света в доме не видно: маскировка. Ощупью нашел дверь, тихо вошел в дом. За столом сидят уставшие вооруженные люди.
– Пулеметный расчет Меркулова просит сообщить обстановку и ждет указаний, – доложил он.
И потом по тем же лужам и ухабам назад, к пулеметам.
Серое утро с трудом продиралось сквозь дождь и мокрые хлопья снега. И тут с визгом полетели мины и снаряды, вздыбилась грязь у окопов, появились первые убитые и раненые. Из-за домов и сараев двигались цепи фашистов. По ним ударили из пулеметов, винтовок и ружей. И у немцев есть потери. Стасик видел, как от пулеметных очередей падали враги, и он еще быстрее подавал пулеметные ленты отцу. Грозило окружение. Желая спасти сына и бойцов, папа сказал:
– Немедленно ползи в штаб батальона и передай, что отходим через Тускарь к вокзалу. Я прикрою.