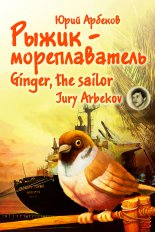Ложная память Мит Валерий

Сьюзен положила трубку, поднялась из постели и поспешила через темную квартиру к входной двери. И, хотя она шла очень быстро, почти бежала, ее сердце билось все медленнее: сильнее, ровнее, спокойнее.
В кухне не было никакого освещения, кроме зеленых бледных цифр на часах микроволновой печи и духовки. Но кромешная тьма не мешала ей. Слишком много месяцев эта маленькая квартира являлась ее миром, и она настолько хорошо ориентировалась в ней, что могла ходить здесь ощупью, словно слепой от рождения человек в доме, где провел всю жизнь.
Стул был крепко втиснут под дверную ручку. Она вынула его и отодвинула в сторону; деревянные ножки негромко скрипнули по кафельному полу.
Головка на конце медной цепочки выскользнула из прорези в пластине замка. Когда Сьюзен выпустила цепочку, она с грохотом ударилась о стальной косяк двери.
Она отодвинула один засов. Второй.
Она открыла дверь.
Он был штормом, он был зимним, он ждал на площадке лестницы перед дверью; сейчас он был тих, но весь исполнен гневом ураганов; ярость, обычно хорошо скрытая от мира, всегда незримо кипела в нем, проявляясь лишь в самые интимные моменты, и когда он перешагнул через порог в кухню, вынуждая ее пятиться назад, и небрежно, пинком прикрыл за собой дверь, то, протянув свою сильную руку, сдавил ее стройную шею.
ГЛАВА 30
Левая и правая сонные артерии, осуществляющие основную часть кровоснабжения шеи и головы, отходят непосредственно от аорты, которая, в свою очередь, соединяется прямо с верхушкой левого желудочка. Кровь, которая проходит по этим сосудам, только что вышла из сердца, она особенно богата кислородом и движется с большой силой.
Рука обхватила спереди горло Сьюзен, четыре пальца лежат на левой стороне ее шеи, большой палец находится прямо под челюстью и подушечкой прижат к правой сонной артерии. Доктор Марк Ариман стоял так, пожалуй, с минуту, наслаждаясь сильными, ровными ударами ее пульса. Она была так восхитительно полна жизни.
Если бы он хотел задушить ее насмерть, то мог бы сделать это, не опасаясь сопротивления. В своем искаженном состоянии сознания она стояла бы послушно и даже не думая возражать, пока он постепенно выдавливал бы из нее жизнь. Когда у нее не осталось бы сил стоять, она опустилась бы на колени, а затем безмолвно и изящно скользнула на пол, лишь прося глазами прощения за то, что не может умереть стоя и потому вынуждает его становиться на колени рядом с нею, чтобы закончить дело.
На самом деле, умирая, Сьюзен Джэггер развлекала бы доктора Аримана любыми проявлениями, которые он мог пожелать. Искреннее обожание. Эротический экстаз. Бессильный гнев или даже безропотное смирение с озадаченным выражением лица — все, что могло бы его развлечь.
Он не намеревался убивать ее. Не здесь и не сейчас — хотя, впрочем, скоро.
Когда же это время придет — а оно придет обязательно, — он не станет убивать Сьюзен собственными руками. Он всегда питал большое уважение к отделу научной экспертизы вездесущей и очень хорошо оснащенной американской полиции. Если ему требовалось «мокрое дело», он всегда осуществлял его при помощи посредников, которые попадали под удар, отводя от него всякую опасность разоблачения.
Кроме того, наибольшее и полное наслаждение он получал не от самого акта увечья и убийства, а от хитрой и изящной манипуляции, которая и приводила к этим результатам. Нажать на спусковой крючок, всадить нож, затянуть концы проволочной удавки — ни одно из этих действий не могло бы взволновать его настолько остро, как использование кого бы то ни было для того, чтобы совершить злодеяние по его тайному приказу.
Власть дает более острые ощущения, чем насилие.
Если сказать еще точнее, наслаждение ему доставлял не конечный эффект использования власти, а организация процесса ее использования. Манипуляция. Управление. Подергивание за ниточки, проявление абсолютного подчинения со стороны его марионеток и наблюдение за тем представлением, которое устраивают используемые им люди, приносили доктору настолько глубокое удовлетворение, что в прекраснейшие моменты своих кукольных спектаклей он физически ощущал в себе удовольствие; это чувство пронизывало весь его организм, словно гулкие звуки огромного гонга, вибрирующий звон массивных соборных колоколов.
Горло Сьюзен под его рукой напомнило ему об острых ощущениях давних лет, о другом стройном и изящном горле, которое было пробито пикой, и с этим воспоминанием по его позвоночнику пробежала дрожь боя колоколов.
В Скоттсдэйле, штат Аризона, стоит особняк в стиле Палладио, в котором жила изящная молодая наследница по имени Майнетт Лэкленд. Она вдребезги разбила молотком череп своей матери, а вскоре после этого выстрелом в затылок убила отца, когда тот смотрел по телевизору старый кинофильм и ел песочный пирог. Потом она спрыгнула с галереи второго этажа, пролетела восемнадцать футов и напоролась на копье, находившееся в руках Дианы, богини луны и охоты, которая стоит на красивом постаменте в центре ротонды входа. Предсмертная записка, бесспорно написанная аккуратным почерком Майнетт, утверждала, что она с детства подвергалась сексуальным посягательствам со стороны обоих родителей — возмутительная клевета, которую ей внушил доктор Ариман. Пятна крови, как красные лепестки, усеивали белый мраморный пол у бронзовых ног Дианы.
И вот теперь Сьюзен Джэггер, стоявшая полуобнаженной в темной кухне — в зеленых глазах отражается слабый зеленый отсвет цифровых часов духовки, — была даже еще прекраснее, чем некогда Майнетт. Но хотя ее лицо и фигура вполне могли стать предметом мечтаний, от которых любой эротоманьяк весь покрылся бы липким потом, Ариман был возбужден не столько ее внешностью, сколько знанием того, что в ее гибких конечностях и податливом теле скрывался смертоносный потенциал, ничуть не меньший, чем тот, что был выпущен на свободу в Скоттсдэйле так много лет назад.
Под большим пальцем доктора ровно и сильно пульсировала ее правая сонная артерия. Пятьдесят шесть ударов в минуту.
Она не боялась. Она спокойно ожидала, пока ее используют, как если бы была бессмысленным орудием — или, точнее, игрушкой.
Произнеся имя-код Бен Марко и прочитав хокку, представлявшую собой еще один код, Ариман перевел ее в измененное состояние сознания. Обыватель назвал бы его гипнотическим трансом, каковым оно в значительной степени было. Психолог-клиницист диагностировал бы его как фугу, что было ближе к истине.
Хотя ни тот, ни другой термин не был в данном случае достаточно точным.
После того как Ариман прочитал хокку, индивидуальность Сьюзен оказалась глубже и тверже подавлена, чем если бы она была загипнотизирована. В этом специфическом состоянии она в любом смысле не была больше Сьюзен Джэггер, а стала никем, механизмом из живой плоти. Ее сознание можно было сравнить с заново отформатированным жестким диском компьютера, готовым принять любое программное обеспечение, которое Ариман пожелает установить.
Если бы она пребывала в классическом состоянии фуги, которое является серьезным проявлением распада личности, то вела бы себя почти как обычно, было возможно лишь возникновение более или менее значительных проявлений эксцентричности поведения, но при этом в ней не было бы той полной отрешенности, какую она сейчас проявляла.
— Сьюзен, — сказал он, — ты знаешь, кто я?
— Я знаю? — переспросила она. Ее голос прозвучал слабо, как бы издалека.
В этом состоянии она не могла ответить ни на один вопрос и, прежде чем что-то сказать, должна была дожидаться подсказки: что он хотел услышать, какой поступок она должна была совершить и даже что она должна при этом чувствовать.
— Сьюзен, я твой психиатр?
Несмотря на темноту, он угадал выражение замешательства на ее лице.
— Вы?
До освобождения от этого состояния она сможет отвечать только на команды.
— Скажи мне, как тебя зовут, — потребовал он.
Получив прямую инструкцию, она могла свободно использовать любое знание, имевшееся в ее мозгу.
— Сьюзен Джэггер.
— Скажи мне, кто я?
— Доктор Ариман.
— Я твой психиатр?
— Вы?
— Назови мне мою профессию.
— Вы психиатр.
Создать это состояние «больше-чем-транс-и-не-совсем-фуга» было совсем нелегко. Чтобы превратить молодую женщину в эту податливую игрушку, потребовалось много напряженной работы и профессиональных знаний.
Восемнадцать месяцев тому назад, еще, конечно, не будучи ее психиатром, Ариман тщательно организовал три случая, во время которых угостил ее мощной смесью наркотиков. Это были рогипнол, фенциклидин, валиум и еще одно изумительное средство, не внесенное в официальные фармакопеи. Рецепт был его собственный, и он лично составлял каждую дозу из запасов, находившихся в его частной и совершенно незаконной аптеке, потому что для достижения требуемого эффекта необходимо было точно выдержать пропорции всех компонентов.
Сами наркотики не могли привести Сьюзен в ее нынешнее состояние бессмысленного повиновения, но после каждой дозы она теряла способность здраво рассуждать, оценивать ситуацию и становилась вполне покорной. И в то время, когда она пребывала в этом поверхностном наркозе, Ариман получал возможность обойти ее сознательную сферу, где осуществлялось целенаправленное мышление, и говорить с ее глубоким подсознанием, где располагались безусловные рефлексы и где он не мог встретить никакого сопротивления.
То, что он сделал в течение эти трех продолжительных сеансов, могло бы соблазнить корреспондентов бульварных газет и авторов шпионских романов использовать термин «промывание мозгов». На самом деле в двадцатом веке ничего подобного этому не существовало. Он не сокрушал структуру ее сознания с целью воссоздать его в новой архитектуре. Этот подход, который когда-то пользовался такой любовью советского, китайского и северокорейского правительств, был слишком амбициозным, требовал долгих месяцев круглосуточной работы с объектом в тоскливой тюремной обстановке, проведения бесчисленного количества утомительных психологических пыток, не говоря уже о необходимости терпеть раздражающие крики и трусливые мольбы негодяев. Коэффициент умственного развития доктора Аримана был очень высок, а вот порог скуки — очень низок. Кроме того, статистика утверждала, что успех при использовании традиционных методов промывания мозгов достигался довольно редко, что само по себе не вдохновляло, да и степень контроля умственной деятельности подопытных была весьма невысока.
Доктор скорее внедрялся в область подсознания Сьюзен, так сказать, в подвал, где создал новое помещение, потайную часовню, о которой ее сознание действительно не имело никакого понятия. Там она должна была поклоняться одному-единственному божеству, забывая обо всех остальных, и этим божеством был он сам, Марк Ариман. Он был жестоким божеством из дохристианского пантеона, отрицающим любую свободу воли, нетерпимым к малейшему проявлению неповиновения, беспощадным к отступникам.
После он уже никогда не вводил ей наркотики. В этом не было никакой необходимости. В ходе тех трех предварительных сеансов он создал механизм управления ее существом, который состоял из звучания имени Марко и строк хокку. Эти десять слов мгновенно подавляли индивидуальность Сьюзен и заставляли ее подчиняться тем самым глубинным слоям души, которые некогда подверглись изменению под воздействием химикатов.
На заключительном сеансе лекарственного воздействия он также навязал Сьюзен агорафобию. Он находил, что это интересная болезнь, гарантирующая любопытные драматические события и множество ярких эффектов по мере того, как больная постепенно приближается к распаду личности и в конце концов доходит до ее полного разрушения. Ведь, что ни говори, он делал все это для собственного развлечения.
Теперь, все так же держа Сьюзен за горло, он сказал:
— Думаю, что на этот раз я буду не собой. Мне хочется чего-нибудь забавного. Сьюзен, ты знаешь, кто я такой?
— Кто вы такой?
— Я твой отец, — объявил Ариман.
Она не ответила.
— Скажи мне, кто я, — приказал он.
— Вы мой отец.
— Называй меня папой, — велел он.
Ее голос оставался сухим, лишенным эмоций, — ведь он еще не сказал ей, что она должна чувствовать согласно этому сценарию.
— Да, папа.
Пульс в сонной артерии под его правым большим пальцем оставался все таким же неторопливым.
— Скажи мне, Сьюзен, какого цвета у меня волосы.
— Светлые, — ответила она, хотя в кухне было слишком темно для того, чтобы рассмотреть цвет его волос.
Волосы Аримана были каштановыми с проседью — «перец с солью», — но отец Сьюзен действительно был блондином.
— Скажи, какого цвета мои глаза.
— Зеленые, как и у меня.
Глаза Аримана были карими.
Все так же держа Сьюзен правой рукой за горло, доктор наклонился и почти целомудренно поцеловал ее.
Ее губы были вялыми. Она не была активной участницей поцелуя; на самом деле она была настолько пассивной, что с таким же успехом могла пребывать в состоянии ступора, если не комы.
Мягко покусывая ее губы, просунув язык между ними, он поцеловал ее, как никакой отец никогда не поцеловал бы свою дочь, и, хотя ее рот остался таким же расслабленным, а пульс на артерии нисколько не изменился, он ощутил в своем горле ее дыхание.
— Тебе это нравится, Сьюзен?
— Вы хотите, чтобы мне это нравилось?
Поглаживая одной рукой ее волосы, он дал ей указания:
— Тебе очень стыдно, ты оскорблена. Полна ужасного горя… и немного обижена тем, что с тобой так поступает собственный отец. Ощущаешь себя грязной, униженной. И все же ты послушна, готова делать то, что тебе велят… Потому что ты тоже возбуждаешься против своего желания. Ты чувствуешь нездоровое неутоленное желание, которое хотела бы подавить, но не можешь.
Он еще раз поцеловал ее, и сейчас она попыталась сжать губы под его прикосновением, но тут же расслабилась, и ее губы тоже стали мягче и раскрылись. Она уперлась руками ему в грудь, чтобы оттолкнуть, но сопротивление было слабым, совсем детским.
Пульс в артерии под его большим пальцем теперь скакал, как у зайца, которого по пятам преследует собака.
— Папа, нет.
Отблеск зеленого свечения в зеленых глазах Сьюзен вспыхнул с новой влажной силой.
В этой искрящейся глубине он уловил легчайший, чуть горьковатый соленый аромат, и этот знакомый аромат заставил ноздри доктора раздуться от жестокого приступа желания.
Сняв руку с горла, он положил ее на талию Сьюзен и привлек женщину вплотную к себе.
— Пожалуйста, — прошептала она, и в этом слове одновременно слышался и протест, и возбужденное приглашение.
Ариман глубоко и резко вздохнул, а потом снова склонился к ее лицу. Обоняние не обмануло хищника: ее щеки были влажны и солоны.
— Прекрасная…
Покрыв ее лицо множеством быстрых поцелуев, он увлажнил губы ее слезами и потом прошелся по благоухающим губам кончиком языка.
Взяв Сьюзен обеими руками за талию, он приподнял ее и пронес несколько шагов, пока не притиснул к холодильнику и навалился на нее всем телом.
— Пожалуйста, — повторила она, а потом еще раз: — Пожалуйста. — Прелестная девочка, разрывающаяся между противоречивыми желаниями, между желанием и страхом, которые в равной степени угадывались в ее голосе.
Плач Сьюзен не сопровождался ни рыданиями, ни хныканьем, и доктор смаковал эти молчаливые потоки, пытаясь хоть временно ослабить ту жажду, которую никогда не мог утолить. Он слизывал соленые жемчужины с уголков ее рта, с подрагивающей кромки ноздрей, выпивал капли, накапливавшиеся на ее ресницах, смакуя аромат слез, как будто они явились для него единственным хлебом насущным на протяжении всего дня.
Выпустив ее талию, отстранившись от нее, он приказал:
— Идите в свою спальню, Сьюзен.
Гибкая тень, она шла, оставаясь такой же, как ее горячие слезы: чистой и горькой. Доктор следовал за нею, восхищаясь ее изящной походкой, к ее адскому ложу.
ГЛАВА 31
Валет дремал. Подергивая всеми лапами и сопя, он гонялся за призрачными кроликами, но Марти пребывала в каком-то каменном оцепенении, напоминая изваяние на надгробном памятнике, олицетворяющее смерть.
Ее сон казался глубже, чем следовало, учитывая прошедший бурный день, настолько богатый ужасными событиями, и приводил на память неправдоподобный сон, охвативший Скита в его комнате в «Новой жизни».
Дасти сидел на кровати, босой, в джинсах и футболке, опираясь на подушки, и еще раз перебирал четырнадцать страниц, вырванных из блокнота, обнаруженных в кухне брата, и размышляя об имени «доктор Ен Ло», которое тридцать девять раз было написано на них.
Ему казалось, что, произнесенное вслух, это имя причинило Скиту психическую травму, и тот провалился в сумеречное состояние, находясь в котором отвечал вопросом на каждый вопрос, который был ему задан. Открытые глаза подергивались, как в фазе быстрого сна, и он отвечал, пускай загадочно, только на те вопросы, которые звучали как утверждения или команды. Когда Дасти, расстроившись, велел ему: «Ах, поспи немного и дай мне передохнуть!», Скит отключился так же мгновенно, как больной нарколепсией реагирует на щелчок электрохимического выключателя в своем мозгу.
Один из многочисленных любопытных аспектов поведения Скита в настоящее время интересовал Дасти больше, чем какой-либо другой: Малыш не смог вспомнить ничего из короткого, длиной в несколько минут, периода, прошедшего с того момента, когда услышал имя «доктор Ен Ло», и до тех пор, когда, повинуясь необдуманному восклицанию Дасти, уснул. Это походило на выборочную амнезию. Но больше походило на то, что в то время, когда Скит разговаривал с Дасти, у него произошло выключение сознания.
Марти говорила о своих дневных опасениях по поводу «пропажи времени», хотя и не могла дать себе отчет в том, когда произошел этот промежуток или промежутки. Напуганная тем, что могла открыть газовый кран камина и не зажечь огонь, она то и дело возвращалась в гостиную с непреодолимой уверенностью, что вот-вот произойдет роковая вспышка. Хотя кран оказывался каждый раз плотно закрыт, она продолжила волноваться; у нее было ощущение, что ее память дырявая, словно старый шерстяной шарф, над которым долго работала моль.
Дасти убедился в том, что у его брата произошло помрачение сознания. И он ощущал правду в опасениях Марти насчет того, что она оказалась в состоянии фуги.
Здесь, возможно, имеется связь.
Сегодняшний день был совершенно из ряда вон выходящим. Два самых дорогих сердцу Дасти человека перенесли различные, но одинаково драматические события, связанные с серьезными отклонениями в поведении. Вероятность случайного совпадения таких серьезных — пусть даже и временных — психических расстройств была крайне мала, намного меньше даже одного шанса из восемнадцати миллионов на получение главного выигрыша в государственной лотерее.
Он подумал, что рядовой обыватель нашего бравого нового тысячелетия должен решить, что это было пусть и печальным, но все же совпадением. В самом крайнем случае он принял бы эти события за один из примеров тех курьезных штучек, которые великая мельница Вселенной подчас случайно выкидывает в качестве отходов своего бессмысленного коловращения.
Однако Дасти, который чувствовал мистическую связь во всем, начиная от цвета нарциссов, кончая бесхитростным весельем Валета, вскачь несущегося за мячиком, не признавал такой вещи, как совпадение. Связь дразняще проглядывала, хотя ее и трудно было уловить. И она пугала.
Он положил страницы из блокнота Скита на тумбочку и взял свой собственный блокнот. На первой странице он печатными буквами написал три строчки той хокку, которую его брат назвал правилом.
- Легкий порыв —
- И волны разносят
- Голубые сосновые иглы.
Скит был волнами. Опять же, по его словам, голубые сосновые иглы были поручениями. Легкий порыв — это Дасти, или Ен Ло, или, возможно, кто-то другой, тот любой, кто процитировал хокку в присутствии Скита.
Сначала все, что наговорил Скит, казалось совершенной тарабарщиной, но чем дольше Дасти ломал голову над услышанным, тем больше он ощущал наличие структуры и цели, которую следовало выяснить. Неизвестно почему, но он начал воспринимать хокку как своего рода механизм, простое устройство с мощным эффектом, словесное подобие мощного пневматического распылителя краски или механического пистолета для забивания гвоздей и скобок.
Дайте такой пистолет плотнику доиндустриальной эпохи, и хотя интуитивно он будет понимать, что это инструмент, но вряд ли догадается о его предназначении — до тех пор, пока, случайно нажав, не всадит гвоздь в ногу. Опасение нечаянно причинить брату психологический ущерб заставило Дасти снова и снова вдумываться в хокку, пока он не поймет, как действует этот инструмент, и только потом решать, стоит ли дальше изучать его действие на Скита.
Поручения.
Чтобы понять предназначение хокку, он должен был разобраться, по крайней мере, что Скит имел в виду, говоря о поручениях.
Дасти точно знал, что слово в слово запомнил и хокку, и странные объяснения Малыша, потому что был одарен исключительной зрительной и звуковой памятью, настолько цепкой, что прошел всю среднюю школу и один год колледжа с твердой оценкой 4.0. Правда, потом он решил, что гораздо глубже изучит мир, если станет маляром, а не ученым.
Поручения.
Дасти перебрал синонимы и близкие по смыслу слова. Задача. Работа. Труд. Задание. Цель. Профессия. Ремесло. Карьера.
Но от этого ничего не стало понятнее.
Валет на своей большой овчинной подушке в углу тревожно захныкал, словно кролики в его сновидениях отрастили огромные клыки и теперь занимались его, собачьей, работой, а он сам в погоне играл уже роль кролика.
Марти спала крепко, и, конечно, тонкие повизгивания собаки не могли разбудить ее.
Однако иногда кошмары настолько одолевали Валета, что он просыпался с испуганным лаем.
— Спокойно, мальчик, спокойно, — шептал Дасти. Ретривер и сквозь сон слышал голос своего хозяина, и его взволнованное хныканье стихало.
— Спокойно. Хороший мальчик. Хороший Валет.
Хотя пес и не проснулся, он несколько раз обмахнул овчину широкими движениями длинного пушистого хвоста, а потом опять завернул его под себя.
Марти и собака продолжали мирно спать, но Дасти внезапно выпрямился; самая мысль о сне была мгновенно вытеснена сверкнувшим озарением. Размышляя по поводу хокку, он и не думал спать, но по сравнению с тем состоянием, в какое пришел сейчас, все равно что дремал. Он оказался теперь в состоянии сверхтревоги, его спину пронзил холод, будто вместо спинномозговой жидкости в его позвоночнике оказалась ледяная вода.
Он вспомнил о другом моменте этого дня, связанном с собакой.
Валет стоит в кухне, около двери, ведущей в гараж. Он готов отправиться в путешествие на квартиру Скита и приветливо разгоняет воздух пушистым хвостом, пока Дасти надевает через голову нейлоновую куртку.
Звонит телефон. Кто-то предлагает подписаться на «Лос-Анджелес таймс».
Когда Дасти спустя всего несколько секунд вешает телефонную трубку и поворачивается к двери, то обнаруживает, что Валет уже не стоит там, а лежит на боку у порога, словно прошло минут десять и он успел как следует вздремнуть.
— Тебя подкосила белковая пища, мое золотко. Давай-ка потратим немного энергии.
Валет поднимается с долгим вздохом глубокого страдания.
Дасти мог мысленно пройтись по запечатлевшейся в его памяти сцене, как если бы она была трехмерной, и теперь он рассматривал золотистого ретривера, стараясь проникнуть в каждую деталь. Действительно, сейчас он видел все гораздо отчетливее, чем тогда, и мог поклясться: собака на самом деле дремала.
Но даже при всей своей эйдетической и звуковой памяти он не мог вспомнить, мужчиной или женщиной был распространитель «Таймс». Он совершенно не помнил, что сам сказал по телефону или что сказали ему; сохранилось лишь неопределенное впечатление о том, что он оказался целью телефонной подписной кампании.
В первый момент он приписал нетипичную для него невнимательность последствиям потрясения. Свалиться с крыши, наблюдать, как с братом на твоих глазах происходит тяжелый припадок… От этого у кого угодно смешаются мозги.
Но если он находился у телефона пять или десять минут, а не несколько секунд, то не мог же он болтать с кем-то из агентов — распространителей «Таймс»! О чем, черт возьми, они столько времени говорили? О шрифтах? О ценах на газетную бумагу? Об Иоганне Гутенберге — отличный парень! — и изобретении подвижного пресса? Об огромной эффективности «Таймс» как средства для воспитания щенка в те дни, когда Валет еще был малышом, исключительной пригодности газеты для этих целей, ее поразительной впитывающей способности, ее замечательных качествах как не загрязняющей окружающую среду и полностью разлагаемой микроорганизмами подстилки, на которую щенок может смело делать лужицы?
На протяжении нескольких минут, которые потребовались Валету для того, чтобы соскучиться, улечься и задремать у двери, ведущей в гараж, Дасти разговаривал по телефону с кем-то другим, а не только с распространителем «Таймс», или же он действительно разговаривал по телефону лишь несколько секунд, а остальное время занимался каким-то другим делом.
Делом, о котором он не мог вспомнить.
Потерянное время.
Невозможно. Неужели я тоже?
Ему показалось, что по его рукам, ногам, спине с настойчивой целеустремленностью побежали полчища муравьев, и хотя он знал, что на самом деле никаких муравьев в кровати не было, что его ощущение — это реакция нервных окончаний на внезапно покрывшую все его тело гусиную кожу, он все же отряхнул руки и заднюю сторону шеи, словно стряхивал армию шестиногих солдат.
Он почувствовал, что не в состоянии сидеть не двигаясь, и поэтому тихонько поднялся на ноги, но и стоять, оказалось, он тоже не мог. Он принялся было шагать по комнате, но пол под ковром несколько раз громко скрипнул, так что ходить бесшумно он не мог. В конце концов он снова сел на кровать и сидел неподвижно. Его кожа стала прохладной, муравьи исчезли. Но по извилинам его мозга расползалось новое и неприятное ощущение уязвимости, знакомое по фильмам о «Секретных Материалах» смутное осознание того, что в его жизнь вступили неведомые силы, странные и враждебные.
ГЛАВА 32
Залитое слезами, покрытое румянцем смущения лицо. Очаровательные выпуклости под белой тканью. Голые колени стиснуты. Сьюзен в ожидании сидела на краешке кровати.
Ариман сидел поодаль в кресле, обитом муаровым шелком персикового цвета. Он не спешил овладеть ею.
Еще будучи совсем мальчишкой, он понял, что самая дешевая игрушка и любой из дорогих старинных автомобилей его отца, по существу, одинаковы. Неторопливое изучение предмета, оценка его линий и деталей могут дать не меньше, а то и больше удовольствия, чем его использование. На самом деле, для того чтобы действительно обладать игрушкой, нужно понять прелесть ее формы, а не просто наслаждаться тем, как она осуществляет свои функции.
Прелесть формы Сьюзен Джэггер была двоякой: и физической, и психологической. Ее лицо и тело были исключительно красивыми. Но красотой обладал и ее интеллектуальный облик — ее индивидуальность и ее разум.
Как игрушка, она обладала двойной функцией, и первая из них была сексуальной. Сегодня и в течение еще нескольких ночей Ариман намеревался жестоко и тщательно использовать эту функцию.
А вторая функция заключалась в том, чтобы терпеть страдания и правильно умереть. Как игрушка, она уже доставила ему истинное наслаждение той храбростью, с которой вела безнадежное сражение против агорафобии, против боли и отчаяния, наполнявших ее, как начинка — марципан. Ее храбрая попытка сохранить чувство юмора и отыграть назад свою, в общем-то, уже потерянную жизнь была патетической и потому привлекательной. Он намеревался вскоре усилить и усложнить ее фобию, ввергнув ее в быстро развивающееся и необратимое хроническое состояние, а потом ему предстояло насладиться финальным триллером, самым захватывающим зрелищем из всех, какие она была способна сыграть.
А сейчас она сидела, оробевшая, обливаясь слезами, разрываемая противоречивыми чувствами: боязнью воображаемого кровосмешения, которое ее душа отвергала, и одновременно нарастающей болезненной сладкой тоской, как было запрограммировано. Ее била дрожь.
Время от времени ее глазные яблоки начинали беспорядочно подергиваться, выдавая состояние быстрого сна, период глубочайшего удаления от собственной личности. Это отвлекало доктора и нарушало очарование ее красоты.
Сьюзен уже знала те роли, которые они разыгрывали этой ночью, знала, что ожидалось от нее в этом эротическом сценарии, и поэтому Ариман подвел ее ближе к поверхности, хотя, конечно, не позволил вернуться к полному сознанию. Лишь настолько, чтобы положить конец судорожным подергиваниям глаз.
— Сьюзен, я хочу, чтобы ты сейчас вышла из часовни, — сказал он, имея в виду то воображаемое место в глубине ее подсознания, куда он запер ее индивидуальность и где давал свои инструкции. — Выйди, поднимись по лестнице, но не слишком далеко, на один пролет, куда просачивается немного света. Иди туда.
Ее глаза походили на чистые водоемы, потемневшие от темных отражений серых облаков, когда их поверхности внезапно касаются несколько слабых солнечных лучей, и сразу же раскрывается глубина.
— Мне все еще нравится то, что на тебе надето, — сказал он. — Белая материя. Простота. — Несколько посещений тому назад он велел ей одеваться перед сном именно таким образом — до тех пор пока он не захочет чего-то иного. Этот облик действовал на него возбуждающе. — Невинность. Чистота. Похожа на ребенка, хотя, бесспорно, достаточно зрелая женщина.
Розы на ее щеках разгорелись ярче; она скромно потупила глаза. Слезы стыда, как бусинки росы, дрожали на лепестках румянца.
А когда она осмеливалась поднимать глаза на доктора, то на самом деле видела перед собой своего отца. Такой была мощь внушения, сделанного ей Ариманом в то время, когда они разговаривали один на один, в часовне, спрятанной в потаенных глубинах ее разума.
Когда они закончат сегодняшнее представление, он даст ей приказание забыть все, что происходило с момента его звонка и до тех пор, пока он не выйдет из квартиры. Она не будет помнить ни его посещения, ни этой фантазии на тему кровосмешения.
Конечно, если бы Ариман захотел, то он мог бы придумать для Сьюзен детальную историю сексуальных домогательств, которыми ее преследовал отец. Для того чтобы вплести этот мрачный рассказ в гобелен ее настоящих воспоминаний, потребовалось бы много времени, но зато потом он мог бы приказать ей поверить в то, что она всю жизнь находилась в положении жертвы, и во время сеансов психотерапии постепенно «возвращать» ей эти якобы подавлявшиеся травмы.
Если бы убеждения заставили ее сообщить об отце в полицию и там ее попросили пройти проверку на детекторе лжи, то она ответила бы на каждый вопрос с неколебимой уверенностью и совершенно искренней эмоциональной реакцией. Ее дыхание, кровяное давление, пульс, гальванические характеристики кожи убедили бы любого эксперта в том, что она говорит правду, так как она сама была бы уверена в том, что ее омерзительные обвинения являются истиной в каждой детали.
Но Ариман не собирался вести с ней такую игру. Он уже неоднократно развлекался таким образом с другими объектами, но теперь ему это надоело.
— Посмотри на меня, Сьюзен.
Она подняла голову; ее глаза встретились с его взглядом, и доктору пришел на память отрывок из стихотворения Каммингса: «В твоих глазах живет зеленый египетский шум».
— В следующий раз, — сказал он, — я принесу свою видеокамеру, и мы сделаем еще одну видеозапись. Ты помнишь, как я первый раз снимал тебя?
Сьюзен отрицательно помотала головой.
— Это потому, что я запретил тебе помнить. Ты вела себя так постыдно, что любое воспоминание об этом могло заставить тебя покончить с собой. А я пока что не готов к твоему самоубийству.
Ее взгляд оторвался от его лица. Она смотрела на миниатюрное деревце-бонсаи в бронзовой чаше, которое стояло на бидермейеровской тумбе.
— Еще одну ленту, чтобы лучше помнить о тебе, — продолжал он, — в следующий раз. Я собираюсь дать простор своему воображению. На следующий раз ты будешь очень грязной девчонкой, Сьюзи. По сравнению с этой съемкой первая лента будет казаться диснеевским мультиком.
Хранение видеозаписей наиболее возмутительных актов его кукольных представлений не было мудрым поступком. Он хранил эти доказательства преступлений — на сегодня у него насчитывалась 121 лента — в запертом и хорошо укрытом хранилище, хотя, если бы дурные люди заподозрили о его существовании, они разобрали бы его дом доску за доской, камень за камнем и в конце концов нашли бы его архив.
Он шел на этот риск потому, что был в глубине души сентиментальным и питал ностальгическую тоску по прошлым дням, старым друзьям, отвергнутым игрушкам.
Жизнь похожа на поездку на поезде, и на многих станциях по пути люди, которые много значили для нас, покидают вагон, чтобы уже не вернуться туда, и в конце концов мы оказываемся в почти пустом вагоне… Эта истина печалила доктора ничуть не меньше, чем других мужчин и женщин, имеющих склонность к рефлексии, хотя его сожаления, бесспорно, очень сильно отличались от чувств, которые испытывали они.
— Смотри на меня, Сьюзен.
Она не отводила взгляда от растения на тумбе.
— Не упрямься. Сейчас же посмотри на папочку.
Ее полные слез глаза оторвались от деревца. В них читалась мольба позволить ей сохранить, по крайней мере, хоть каплю достоинства, мольба, которую доктор Ариман с удовольствием заметил и проигнорировал.
Вне всякого сомнения, на следующий же вечер после того, как Сьюзен Джэггер погибнет, склонный к ностальгии доктор будет вспоминать о ней с нежностью, его захлестнет задумчивое желание вновь услышать ее музыкальный голос, увидеть ее прекрасное лицо, вновь пережить множество тех прекрасных моментов, которые у них были. Это была его слабость.
И в тот вечер он не откажет себе в удовольствии обратиться к своему видеоархиву. Он с радостью будет смотреть, как Сьюзен занимается такими грязными и омерзительными вещами, что меняется настолько же, насколько оборотень меняется под влиянием полнолуния. В этом обвале непристойностей ее сияющая красота тускнеет, и доктор сможет ясно разглядеть живущее в ней животное, первозданное животное, подавленное, но продолжающее хитрить, перепуганное, но все же внушающее страх, животное, в котором воплощается все темное, что есть в ее сердце.
И кроме того, даже если это домашнее кино доставит ему меньше удовольствия, чем он рассчитывает, он все равно добавит его к своему архиву видеозаписей, потому что он по природе неутомимый коллекционер. Несколько комнат в его несколько хаотичном доме занимает выставка игрушек, которые он неутомимо приобретал в течение многих лет: армии игрушечных солдат, очаровательные, раскрашенные вручную чугунные автомобильчики, механические копилки, пластмассовые наборчики с тысячами миниатюрных фигурок от римских гладиаторов до астронавтов.
— Встань, девочка.
Она поднялась с кровати.
— Повернись
Она медленно повернулась; медленно, чтобы он мог хорошенько рассмотреть ее.
— О да, — сказал он, — я хочу, чтобы на ленте осталось больше о тебе, для потомства. И, возможно, на следующий раз немного крови, чуть-чуть членовредительства. Вообще-то телесные жидкости сами по себе могут оказаться темой. Очень грязной, очень извращенной. Это должно получиться забавно. Уверен, что ты не станешь возражать.
Она снова отвела взгляд от его лица и посмотрела на растение в углу, но это было лишь пассивное неповиновение, так как при первых же словах команды она уже снова смотрела на него.
— Если ты считаешь, что получится забавно, так и скажи, — наставительно произнес он.
— Да, папа. Забавно.
Он велел ей встать на колени, и она опустилась на пол.
— Ползи ко мне, Сьюзен.
Как заводная фигурка с механической копилки, как если бы она с монетой в зубах следовала по единственно доступному ей пути к щели, куда нужно было эту монету опустить, она подползла к креслу. С лицом, залитым вполне натуральными слезами, она являла собою превосходный образец, приобретение, которое обрадовало бы любого коллекционера.
ГЛАВА 33
Между Моментом, Когда Дасти Увидел Спящую Собаку, и предшествовавшим ему Моментом, Когда Зазвонил Телефон В Кухне, существовал пробел, и, сколько он ни проигрывал в мозгу эту сцену, ему так и не удавалось связать воедино разорванную нить его дня. Вот собака стоит, размахивая хвостом, и в следующий момент собака просыпается после короткого сна. Потеряно несколько минут. С кем он разговаривал в это время? Что делал?
Он снова и снова повторял этот эпизод, концентрируясь на темном прогале между тем мгновением, когда он поднял телефонную трубку, и другим — когда повесил ее на аппарат, пытаясь как-то заполнить провал в памяти, когда Марти на кровати рядом с ним принялась стонать во сне.
— Не волнуйся. Все хорошо. Успокойся, — шептал он, легко положив руку ей на плечо, пытаясь нежно вывести ее из кошмара в спокойный сон, как он недавно сделал с Валетом.
Но Марти не успокоилась. Ее стоны сменились хныканьем, она задрожала, принялась слабыми движениями отпихивать одеяло. Потом хныканье перешло в пронзительные крики, она забилась, сбросила одеяло, резко села, а затем вскочила на ноги. Она уже не визжала в ужасе, а задыхалась, по груди пробегали спазмы тошноты, разинутый рот искривился в рвотном движении, и она с силой зажала его обеими руками, словно истерически отказывалась от чего-то, входившего в меню банкета, на котором была во сне.
Вскочив почти так же порывисто, как и Марти, Дасти обежал вокруг кровати, зная, что Валет испугается происходящего.
Она испуганно обернулась к мужу:
— Держись подальше от меня!
В ее голосе прозвучал такой надрыв, что Дасти и впрямь на мгновение приостановился, а собака вздрогнула всем телом. Шерсть по всей длине хребта Валета поднялась дыбом. Проведя еще раз по губам, Марти взглянула на руки, как будто ожидала увидеть на них свежую кровь — и, возможно, не свою собственную.
— О, боже, мой боже!
Дасти сделал шаг в ее сторону, и снова она не менее отчаянным голосом, чем прежде, приказала ему держаться на расстоянии.
— Ты не должен доверять мне, не должен подходить ко мне, и не думай, что тебе это можно.
— Это был всего-навсего ночной кошмар.
— Это кошмар.
— Марти…
Она опять согнулась в судорожном приступе тошноты, вызванном воспоминанием о только что увиденном сне, и испустила тоскливый стон отвращения и боли.
Несмотря на предупреждение, Дасти все же подошел к ней, и, когда он коснулся ее, она отпрянула и яростным движением отпихнула его в сторону.
— Не доверяй мне! Нет, нет! Ради Христа, не надо! — И, не желая проходить рядом с мужем, она по-обезьяньи ловко вскочила на разбросанную постель, спрыгнула с другой стороны и вбежала в смежную ванную.
Собака испустила короткий, резкий не то лай, не то вскрик, словно кто-то яростно дернул за струну. Звук отдался в теле Дасти и пробудил в нем такой страх, какого он еще не знал прежде. Ибо увидеть Марти в таком состоянии второй раз оказалось еще ужаснее, чем в первый. Один раз мог оказаться случайностью. Два раза уже походили на систему, а в системе можно было разглядеть будущее.