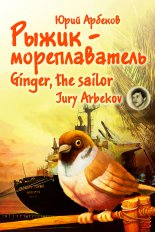Ложная память Мит Валерий

Клостерман закончил резать перцы на полоски, ополоснул нож, вытер его и убрал в ящик.
— Я принялся наводить справки среди врачей: искал, нет ли у кого-нибудь знакомых, практиковавших в то время в Санта-Фе. У одного из моих друзей, кардиолога, оказался знакомый, с которым они вместе учились в колледже, поселившийся в Санта-Фе. Мы обратились к нему. Оказывается, что этот доктор был знаком с Ариманом, когда тот жил там… И не любил это проклятое отродье даже сильнее, чем я. И еще футболист… Там был большой скандал с развратными действиями и сексуальным насилием по отношению к дошкольникам, и Ариман, точно так же как и здесь, проводил обследование детей. И там тоже возникли вопросы насчет применявшихся им методов.
В желудке Дасти встал тяжелый ком, и хотя он не думал, что кофе имел к нему какое-либо отношение, но все же отодвинул от себя чашку.
— Один из детей, пятилетняя девочка, совершила самоубийство после того, как начался процесс, — продолжал Рой Клостерман. — Пятилетняя. Оставила трагический рисунок, на котором была изображена девочка, похожая на нее… стоящая на коленях перед обнаженным мужчиной. Мужчина был изображен правильно с точки зрения анатомии.
— Помилуй бог, — простонала Марти, отодвигаясь вместе со стулом от стола. Она начала было приподниматься с места, потом почувствовала, что идти некуда, и снова села.
Дасти подумал про себя, а не могло ли случиться так, что тело пятилетней девочки возникнет в сознании Марти во всех ужасных деталях во время следующего приступа паники.
— Дело могло бы сразу же перейти в суд присяжных, потому что обвиняемые были выбраны, а улики тщательно сфальсифицированы. Прокурор Санта-Фе получил убедительные подтверждения по всем пунктам обвинения.
Врач вынул из холодильника бутылку пива и сорвал крышечку.
— С хорошими людьми, когда они оказываются рядом с доктором Марком Ариманом, случаются дурные вещи, зато он всегда сохраняет облик спасителя. Так было до тех пор, пока в Санта-Фе не произошли ужасные убийства в семье Пасторе. Миссис Пасторе, очаровательная женщина, никогда не сказавшая никому дурного слова, не имевшая в жизни ни одного темного пятна, внезапно заряжает револьвер и решает убить свою семью. И для начала расправляется со своим десятилетним сыном.
Эта история вызвала у Марти испуг перед собственными позывами к насилию, и теперь ей было необходимо двигаться, чтобы отвлечься. Она встала из-за стола, подошла к раковине, открыла воду, налила себе на руки жидкого мыла и принялась энергично мыть их.
Хотя Марти не сказала Клостерману ни слова, он, похоже, не счел ее поступок ни вызывающим, ни странным.
— Мальчик был пациентом Аримана. Он серьезно заикался. Существовали подозрения, что между Ариманом и матерью что-то было. И нашелся свидетель, который видел Аримана около дома Пасторе в ночь убийств. Он действительно стоял около дома, глядя на резню через открытое окно.
— Глядя? — переспросила Марти, отматывая бумажное полотенце от рулона, укрепленного на стене. — Просто… глядя?
— Как будто это было шоу, — пояснил Рой Клостерман. — Как будто… как будто он поехал туда потому, что заранее знал, что там произойдет.
Дасти тоже не мог больше сидеть неподвижно.
— Я уже выпил сегодня вечером две бутылки пива, — сказал он, поднимаясь на ноги, — но если ваше предложение все еще остается в силе…
— Угощайтесь, — откликнулся Клостерман. — Разговоры о докторе Марке Аримане не располагают к умеренности.
— Ну, этот свидетель видел его, — сказала Марти, швырнув полотенце в мусорное ведро, — и чем все это кончилось?
— Ничем. Свидетелю не поверили. А слухи, которыми обросло дело, было невозможно доказать. Кроме того, не было ни малейшего сомнения в том, что миссис Пасторе действительно сама нажимала на спусковой крючок. Это подтверждалось всеми достижениями криминалистической науки. Но Пасторе хорошо знали, очень многие их любили и считали, что Ариман каким-то образом замешан и так или иначе скрывается на заднем плане этой трагедии.
— Значит, ему перестала нравиться обстановка в Санта-Фе, и он перебрался в Скоттсдэйл, — предположил Дасти, возвращаясь за стол с бутылкой пива.
— Где с другими хорошими людьми происходили другие дурные события, — подхватил Клостерман, размешивая фрикадельки и сосиски в кастрюле соуса. — У меня есть досье, где все это описано. Я дам его вам, когда вы будете уходить.
— Обладая всеми этими боеприпасами, — сказал Дасти, — вы, наверно, смогли бы отстранить его от расследования дела Орнуолов.
Рой Клостерман вернулся на свое место за столом, Марти тоже села на место.
— Нет, — сказал врач.
— Но ведь одной лишь ссылки на аналогичный случай с преступлениями против дошкольников было бы достаточно… — удивленно начал Дасти.
— Я не воспользовался этими сведениями.
Загорелое лицо врача, потемневшее от гнева, стало совсем бурым и пошло пятнами.
Клостерман прокашлялся и продолжил рассказ:
— Кому-то стало известно, что я звонил в Санта-Фе и Скоттсдэйл, расспрашивая насчет Аримана. Однажды вечером я пришел домой после приема и обнаружил здесь, на кухне, на тех самых местах, где сидите вы, двоих человек. В темных костюмах, при галстуках, благопристойного вида. Но эти люди были незнакомы мне, и, когда я повернулся, чтобы убраться к черту из дома, позади меня оказался третий.
Дасти внимательно слушал рассказ Клостермана, но углубляться в эту подробность ему совершенно не хотелось. Потому что это, казалось, были врата в безнадежность для него и Марти.
Если доктор Ариман был их врагом, то он был врагом в полном смысле этого слова. Только в Библии Давид мог одолеть Голиафа. Только в кино малыш имеет шанс справиться с левиафаном.
— Ариман использует грубую силу? — спросила Марти, то ли потому что не могла понять того, что уже постиг Дасти, то ли потому, что не хотела верить этому.
— Никакой грубости. У каждого из тех, кто забрался ко мне, прекрасные перспективы на обеспеченную старость, превосходное медицинское обслуживание, великолепные зубы и право пользования служебной машиной в рабочее время. Так или иначе, они принесли видеозапись, и показали ее мне на моем же видеомагнитофоне. На ленте был снят мальчик — мой пациент. Его мать и отец — тоже мои пациенты и к тому же старые друзья. Близкие друзья.
Врач был вынужден прервать рассказ. Он задыхался от гнева, от перенесенного ужасного оскорбления. Его рука с такой силой стиснула бутылку, что, казалось, стекло вот-вот треснет.
— Мальчик, ему девять лет, — совладав с собою, продолжил Клостерман, — действительно хороший ребенок. В видеозаписи по его лицу текут непрерывные слезы. Он рассказывает кому-то, находящемуся вне поля зрения камеры, как, начиная с возраста шести лет, подвергался сексуальным домогательствам со стороны своего доктора. С моей стороны. Я никогда не совершал ничего подобного с этим мальчиком, никогда не думал об этом, просто не мог. Но он говорил очень убедительно, эмоционально и образно. Любой, кто знает его, твердо скажет, что он не мог разыграть такой сцены, не мог выдумать такую чудовищную ложь. Он слишком наивен, чтобы быть настолько двуличным. Он верит всему этому, каждому слову. И в его мыслях все это происходило, все эти мерзости, и он считает, что это делал я.
— Мальчик был пациентом Аримана, — уверенно сказал Дасти.
— Нет. Эти три мерзавца, вторгшиеся в мой дом, эти ухоженные благообразные головорезы сказали мне, что пациенткой Аримана была мать мальчика. Я не знал об этом. Я даже представить не могу, зачем ей нужно было с ним встречаться.
— Через мать, — сказала Марти, — Ариман наложил лапы на мальчика.
— И каким-то образом обработал его, внедрив с помощью гипнотического внушения или чего-то еще в этом роде ложные воспоминания.
— Это больше, чем гипнотическое внушение, — сказал Дасти. — Не знаю, что это на самом деле, но это намного глубже.
Отхлебнув добрый глоток пива, Рой Клостерман продолжил:
— Эти ублюдки сказали мне… во время съемки мальчик находился в трансе. Оказавшись в полном сознании, он не будет помнить об этих ложных воспоминаниях, об ужасных вещах, которые говорил обо мне. Он никогда не увидит этого во сне, даже на подсознательном уровне это не будет его тревожить. Они не окажут никакого воздействия на его психику, его жизнь. Но ложные воспоминания должны внедриться в сферу, которую они назвали подподсознанием, сохраняться там в подавленном виде и могут быть получены, если мальчик когда-нибудь получит команду все это вспомнить. Они обещали дать ему эту команду в том случае, если я попытаюсь причинить неприятности Марку Ариману в связи с делом дошкольного заведения Орнуолов или каким-либо еще. После этого они уехали, забрав с собой видеозапись.
Адвокат Аримана, обитавший в сознании Дасти, удалился куда-то в дальние закоулки, его голос звучал куда слабее и потерял убедительность.
— Но вы хоть предполагаете, кем могли быть эти трое? — спросила Марти.
— Мне совершенно неважно, название какого учреждения напечатано на тех чеках, по которым они получают зарплату, — отозвался Рой Клостерман. — Достаточно, что я знаю, чем от них пахло.
— Властью, — уверенно сказал Дасти.
— Прямо так и смердело, — подтвердил врач.
Судя по всему, в этот момент Марти не так боялась сама сотворить что-нибудь ужасное, как тревожилась, не сделали бы этого мужчины: она положила ладонь на руку Дасти и изо всей силы прижала ее к столу.
Из прихожей послышалось запыхавшееся дыхание и торопливый стук когтей собачьих лап. Валет и Шарлотта, наигравшиеся, улыбаясь всеми своими страшными зубами, возвратились в кухню.
Почти сразу же раздались другие шаги, на этот раз человеческие, и в кухню вошел коренастый, приветливый на вид человек в гавайской рубашке и шортах до середины икр. В левой руке он держал конверт из оберточной бумаги.
— Это Брайен, — сказал Рой Клостерман и представил вошедшему своих гостей.
Пожав руку Дасти, Брайен вручил ему конверт.
— Это досье на Аримана, которое собрал Рой.
— Но мы не давали его вам, — предупредил врач, — и вы не должны возвращать его.
— Честно говоря, — вмешался Брайен, — мы не хотим, чтобы оно когда-либо вернулось к нам.
— Брайен, — обратился к нему Рой Клостерман, — покажи им твое ухо.
Откинув изрядной длины белокурые волосы с левой стороны головы назад, Брайен покрутил, растянул, дернул и в конце концов оторвал ухо.
Марти потеряла дар речи.
— Протез, — пояснил Рой Клостерман. — Когда той ночью три мерзавца убрались, я поднялся наверх и обнаружил Брайена без сознания. Его ухо было отрезано — и рана зашита рукой специалиста. Они бросили ухо в мусоропровод, и поэтому его нельзя было пришить на место.
— Настоящие лапочки, — сказал Брайен, прикладывая ухо ко лбу, к щекам. Его исполненное почти натурального веселья представление заставило Дасти улыбнуться, несмотря на совершенно невеселые обстоятельства.
— Мы с Брайеном живем вместе уже больше двадцати четырех лет, — сказал врач.
— Больше двадцати пяти, — поправил Брайен. — Рой, ты всегда безнадежно забывал о юбилеях.
— Им не нужно было калечить его, — сказал Клостерман. — Видеофильма с мальчиком было достаточно, больше чем достаточно. Они сделали это только для того, чтобы показать, у кого сила в руках.
— Со мной это подействовало, — заметил Брайен, приставляя протезное ухо на место.
— И, — добавил Рой Клостерман, — возможно, теперь вы поймете, почему угроза фальшивыми разоблачениями со стороны мальчика оказалась для меня таким ударом. Из-за наших с Брайеном отношений, нашей совместной жизни, нашлись бы люди, которые с легкостью обвинили бы меня в том, что я развращаю ребенка. Но, клянусь богом, если бы я когда-либо почувствовал любое искушение такого рода, любую сексуальную тягу к ребенку, я собственной рукой перерезал бы себе глотку.
— Если бы я не сделал этого раньше, — вставил Брайен.
С приходом Брайена душившая Клостермана ярость стала утихать, исчезли бурые пятна, проступившие из-под многолетнего загара. Но теперь тени вновь стали возвращаться на его лицо.
— Я вовсе не собираюсь оправдывать свое отступление, искать в нем достоинство. Семья Орнуолов уничтожена, хотя все они были ни в чем не повинны. Если бы в борьбе участвовали только я и Марк Ариман, то я сражался бы против него, чего бы это ни стоило. Но эти люди, слизняки, выползающие из-под камней, чтобы защищать его… Я просто не понимаю этого. И не могу бороться против того, чего не понимаю.
— Может быть, и мы тоже не сможем бороться против этого, — задумчиво протянул Дасти.
— Может быть, и нет, — согласился Клостерман. — А вы заметили, что я всячески избегал задавать вам прямые вопросы о том, что случилось с вашей подругой Сьюзен и каковы ваши собственные проблемы с Ариманом. Потому что, если быть честным, я ничего больше не хочу знать. Полагаю, что это трусость с моей стороны. Я никогда не считал себя трусом до сих пор, до появления Аримана, но теперь я знаю, что на большее уже не способен.
— Со всеми нами это бывает, — воскликнула Марти, обнимая его. — И вы никакой не трус, док. Вы прекрасный, храбрый человек.
— Я говорил ему, — заметил Брайен, — но мне он никогда не верит.
Врач на секунду крепко прижал Марти к себе.
— Вам потребуется вся душевная широта, имевшаяся у вашего отца, и вся его смелость.
— Все это у нее есть, — ответил Дасти.
Это был самый странный момент проявления духа товарищества, о котором Дасти когда-либо знал: четыре человека, столь несхожих между собой и все равно державшихся так, словно были последними представителями человечества, оставшимися на планете после колонизации ее инопланетянами.
— Вы присоединитесь к нам за обедом? — поинтересовался Брайен.
— Благодарю вас, — ответил Дасти, — но мы уже поели. И нам нужно еще много успеть до того, как наступит ночь.
Марти взяла Валета на поводок, и собаки на прощание еще раз обнюхали друг дружку под хвостами.
— Доктор Клостерман… — сказал Дасти, остановившись перед дверью.
— Прошу вас, называйте меня Рой.
— Спасибо. Рой, я не могу утверждать, что та неразбериха, которая окружает сейчас нас с Марти, станет меньше, если я доверюсь моим инстинктам и перестану называть себя параноиком, но в этом случае мы, возможно, сделаем еще полшага с того места, где находимся.
— Паранойя является самым очевидным признаком душевного здоровья в новом тысячелетии, — ответил за врача Брайен.
— Так вот… — начал Дасти, — хотя, конечно, это покажется проявлением паранойи… У меня есть брат, который находится в наркологическом восстановительном центре. Это с ним уже третий раз. И прошлый раз он был в той же самой лечебнице. Вчера вечером, когда я оставил его там, это место вызвало у меня тревожное ощущение, настоящую параноидальную реакцию…
— Что это за заведение? — спросил Рой.
— Клиника «Новая жизнь». Вы ее знаете?
— В Ирвине? Знаю. Ариман — один из владельцев.
Дасти вспомнил величественный силуэт, который заметил накануне в окне Скита.
— Да. Вчера это удивило бы меня. Но не сегодня.
После теплого дома Клостермана январская ночь казалась еще холоднее. Ветер, взвизгивая, срывал пенные гребни с разгулявшихся в гавани волн и швырял их на мостовую приморского бульвара.
Валет весело бежал, натянув поводок на всю длину, и хозяева спешили следом за собакой.
Ни луны. Ни звезд. Ни уверенности в том, что наступит рассвет, и никакого желания увидеть, что он может принести с собой.
ГЛАВА 59
На этот раз Марти не показалось, что фонари в ее глазах темнеют, она не увидела поднимающейся завесы, за которой скрываются видения, — ни одного из тех признаков, которые уже несколько раз сегодня подсказывали ей, что приближается приступ, на сей раз не было. И сразу, без предупреждения, в населенной призраками части ее мозга зажегся киноэкран, на котором замелькали мертвые священники в окровавленных уродливых венцах и другие кошмарные порождения худших свойств человеческой природы. Она вскрикнула и рванулась на сиденье так, будто почувствовала, что по ее ногам взбирается жирная театральная крыса, отъевшаяся на рассыпанной посетителями воздушной кукурузе и брошенных недоеденных «Сникерсах».
На этот раз Марти испытала не постепенный спуск к состоянию паники, не плавное скольжение по склону страха. Она на полуслове, в разгар разговора с мужем о Ските, рухнула в глубокую яму, полную ужасов. Удушье, два хриплых стона, и сразу за ними крик. Она попыталась согнуться, но пристегнутые ремни безопасности удержали ее на месте. Ремни пугали ее, пожалуй, не меньше, чем видения. Возможно, дело было в том, что многие из трупов, являвшихся ее мысленному взору в дневных кошмарах, были спутаны цепями, веревками, кандалами, в их головах торчали длинные штыри, в ладони были вбиты гвозди. Она вцепилась обеими руками в нейлоновый пояс, но, совершенно явно, не могла вспомнить, как справиться с державшим ее устройством: слишком отчаянным был ее испуг, чтобы она могла сообразить, как отстегнуть застежку.
Они ехали по широкому проспекту с напряженным движением, и потому Дасти, чудом избежав столкновения, резко рванул машину вправо, к тротуару. Визжа тормозами, «Сатурн» остановился на ковре мертвых вечнозеленых игл под огромной каменной сосной, наверно, уже не одну сотню лет ведущей войну с ветром.
Когда Дасти попытался помочь Марти освободиться от ремней, она дернулась прочь от него, одновременно продолжая безуспешно сражаться с ремнями и отмахиваться от мужа, пытаясь заставить его держаться на расстоянии. Однако ему все же удалось нащупать застежку и отстегнуть ремни.
Еще несколько секунд Марти продолжала борьбу с ремнями безопасности, но в конце концов освободилась от них, и широкие ленты скользнули на свое место. Но обретение дополнительной свободы движений нисколько не улучшило ее состояние. Паника продолжала нарастать; Марти совершенно не замечала сочувственных поскуливаний Валета, волновавшегося на заднем сиденье, а спустя всего несколько секунд ее сдавленные крики сменились конвульсивной рвотой.
На этот раз ее желудок был полон, и когда она наконец-то смогла наклониться вперед, сухие рвотные позывы чуть не сменились влажными. С содроганием отвращения взявшись рукой за горло, Марти принялась нащупывать дверную ручку, пытаясь выйти из автомобиля.
Возможно, она хотела выйти наружу лишь затем, чтобы не запачкать автомобиль, если обед все же извергнется из нее, но нельзя было исключить возможность того, что, оказавшись на улице, она могла попробовать убежать; убежать не только от ужасных видений, сменявших друг друга в ее мозгу, но и от Дасти, от угрозы того, что она набросится на него в приступе ярости. Он никак не мог позволить ей уйти, хотя бы потому, что в панике она могла, не разбирая дороги, выскочить на проезжую часть и попасть под колеса автомобиля.
Марти наконец дернула за ручку, дверь приоткрылась, и в щель сразу же ворвался воинственный ветер. Волосы Марти взметнулись, как флаг.
— Раймонд Шоу, — произнес Дасти.
Ветер с силой прорывался в машину, завывая в щели, как падающая с высоты мина; Марти продолжала испуганно кричать, и поэтому не услышала слов мужа. Она приготовилась распахнуть дверь во всю ширину, и Дасти выкрикнул во весь голос:
— Раймонд Шоу!
Марти сидела почти спиной к нему, и он не слышал, сказала ли она в ответ: «Я слушаю», но он знал, что эти слова должны были быть произнесены, потому что она смолкла и застыла на месте, ожидая услышать хокку. Быстро перегнувшись через нее, Дасти закрыл дверь. В наступившей относительной тишине, прежде чем Марти могла успеть мигнуть, стряхнуть с себя это оцепенение и вернуться в паническое состояние, Дасти взял ее рукой за подбородок, повернул лицо к себе и сказал:
— С запада ветер летит…
— Вы — это запад и западный ветер, — откликнулась Марти.
— …Кружит, гонит к востоку…
— Восток — это я.
— …Ворох опавшей листвы.
— Листва — это ваши приказы.
Полностью закодированная, Марти, ожидая, пока ей начнут командовать, смотрела теперь сквозь Дасти, как если бы теперь незримым существом стал он, а не Ариман.
Дасти был потрясен, увидев, как погасли глаза Марти, как на ее лице появилось унылое бездумное выражение, означавшее готовность к полному повиновению. Он отодвинулся от жены. Его сердце колотилось, как работающий с непосильным напряжением мотор, а мысли в голове мелькали со скоростью тяжелого раскрутившегося маховика.
В этот момент она стала несказанно уязвимой. Если он даст ей неверное указание, выразит его словами, в которых может оказаться непредусмотренное второе значение, то это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Возможность причинить неосторожным действием огромный психологический ущерб казалась Дасти до ужаса реальной.
Когда он велел Скиту заснуть, то не указал, сколько времени тот должен проспать. Скит спал немногим более часа, однако казалось, что не было никакой причины, препятствующей ему спать дни, недели, месяцы, а то и всю оставшуюся жизнь, если бы при этом его жизнь поддерживали механизмы медиков, надеющихся на пробуждение, которое могло никогда не произойти.
Поэтому Дасти, прежде чем дать Марти пусть даже самую простую команду, должен был как можно тщательнее обдумать ее. Он должен был выбрать, насколько возможно, однозначную формулировку.
Вдобавок к опасению причинить нечаянный вред он был до глубины души потрясен степенью той власти, которую получил над Марти сейчас, когда она молча сидела, ожидая его приказов. Он любил эту женщину больше жизни, но никто не должен иметь абсолютной власти над другим человеком, независимо от того, насколько чистыми могли быть его намерения. Гнев менее ядовит для души, чем жадность, жадность менее вредоносна, чем зависть, а зависть далеко не с такой силой разъедает душу, как власть.
Мертвые сосновые иглы падали на ветровое стекло, образуя непрерывно изменяющиеся картины, но если они предсказывали будущее, то Дасти не был способен прочесть их пророчества.
Он не отрываясь глядел в глаза жены, которые вдруг мелко задергались, как недавно глаза Скита.
— Марти, я хочу, чтобы ты внимательно слушала меня.
— Я слушаю.
— Я хочу, чтобы ты сказала мне, где ты сейчас находишься.
— В нашем автомобиле.
— Физически да. Именно здесь ты и находишься. Но мне кажется, что мысленно ты находишься где-то еще. Я хотел бы знать, что это за другое место.
— Я нахожусь в часовне сознания, — сказала она.
Дасти понятия не имел, что она имела в виду, говоря эти слова, но у него не было ни времени, ни присутствия духа для того, чтобы глубже разбираться сейчас в этом. Он оказался перед необходимостью пойти на риск, не зная ничего, кроме этого термина — «часовня сознания».
— Когда я подниму руку перед твоим лицом и щелкну пальцами, ты погрузишься в глубокий и мирный сон. Когда я щелкну второй раз, ты пробудишься от этого сна, а также возвратишься из часовни сознания, в которой сейчас находишься. Ты будешь снова все полностью сознавать… и твой приступ паники закончится. Ты понимаешь?
— Я понимаю?
Его лоб покрылся обильным потом, и он вытер лоб одной рукой.
— Скажи мне, ты меня на самом деле понимаешь?
— Я понимаю.
Он поднял правую руку, сложил большой и средний пальцы, напряг их, но вновь заколебался, охваченный сомнением.
— Повтори мои инструкции.
Марти слово в слово повторила его слова.
Сомнение продолжало сдерживать его, но он не мог сидеть здесь всю ночь. Его пальцы были готовы щелкнуть, и сам он не просто надеялся на удачу. Он копался в глубоких подвалах своей памяти, извлекая все, что он узнал о методах управления, наблюдая за Скитом и проанализировав все разбросанные тут и там не слишком заметные ключи. Он не мог найти никакой ошибки в своем плане — не считая того, что он основывался не на знании, а на невежестве. В том случае, если он ошибается, то ввергнет Марти навсегда в кому. Он прошептал три слова: «Я люблю тебя», с которыми она могла навсегда уйти во тьму, и громко щелкнул пальцами.
Марти резко откинулась на спинку сиденья и немедленно заснула. Ее затылок упал на подголовник, а потом голова наклонилась вперед, подбородок уперся в грудь, черные, как вороново крыло, волосы свесились, закрыв лицо женщины от Дасти.
Его легкие, казалось, сложились, как смятый мешок; ему пришлось сделать усилие, чтобы набрать в грудь воздуха, а потом, вместе с выдохом, он снова щелкнул пальцами.
Марти выпрямилась на месте. Она уже не спала, в ее взгляде больше не было отрешенности, зато появилась тревога; она удивленно осмотрелась:
— Что за чертовщина?
Только что она задыхалась в слепой панике, пыталась непослушными руками открыть дверь и выбраться из «Сатурна» — и вот, мгновение спустя, она уже спокойна, а дверца автомобиля закрыта. Карнавал смерти, разбивший свои шатры в ее голове, со всеми своими изувеченными священниками и разлагающимися трупами, резко улетучился, словно унесенный вечерним ветром.
Марти посмотрела на мужа, и он увидел, что она поняла.
— Ты…
— Не думаю, чтобы у меня был выбор. Судя по всему, должен был появиться старший брат, а то и папаша всех твоих приступов.
— Я чувствую… чувствую себя чистой.
Валет наполовину протиснулся между передними сиденьями. Пес жутковатым образом закатил глаза и тянулся к хозяевам, чтобы они успокоили его.
— Чистой, — повторила Марти, поглаживая собаку. — Неужели с этим можно справиться?
— Не так просто… — протянул Дасти. — Возможно, если подумаем и проявим осторожность… то нам удастся обратить вспять то, что было сделано с нами. Но прежде…
— Прежде всего, — перебила его Марти, пристегивая ремень безопасности, — давай заберем Скита из этого заведения.
ГЛАВА 60
Черная, как сажа, кошка, выслеживавшая крыс, проскользнула мимо облачком дыма, заглянула в фары «Сатурна», ее глаза вспыхнули на мгновение горячими оранжевыми угольями, а потом кошка исчезла в темной ночи.
Дасти поставил машину рядом с мусорным контейнером, стоявшим около дома, оставив дорожку свободной.
Валет смотрел вслед хозяевам, торопливо шедшим к служебному входу «Новой жизни», прижавшись носом к окну автомобиля; стекло запотело от его дыхания.
Время для посещения пациентов закончилось двадцать минут назад. Скорее всего, им разрешили бы заглянуть к Скиту и в том случае, если бы они прошли через главный вход, особенно если бы при этом они сказали, что явились забрать его из клиники. Однако такой смелый подход потребовал бы долгих обсуждений с ответственными сотрудниками клиники: с медсестрой и врачом, если, конечно, таковой еще дежурил. Да и с оформлением документов вышла бы задержка.
Хуже того, Ариман мог сделать на истории болезни Скита пометку, где было бы сказано, что его требуется поставить в известность, если пациент или родственники последнего потребуют выписки. Дасти не мог позволить себе риск столкнуться лицом к лицу с психиатром; по крайней мере, пока еще не мог позволить.
К счастью, служебный вход был не заперт. За ним располагалась маленькая тускло освещенная пустая комнатушка со сливным отверстием в середине бетонного пола. Вяжущий смолистый аромат дезинфицирующего средства не мог полностью скрыть кислого запаха, который, вероятно, принадлежал молоку, пролившемуся из порванного пакета во время доставки продуктов, а затем впитавшемуся в пористый бетон. Но сейчас этот безобидный запах, словно застарелая вонь рвоты или свернувшейся крови, говорил Дасти о жестокости, если не о настоящем преступлении. К наступлению нового тысячелетия действительность стала настолько пластичной, что, глядя на это столь обыденное место, он мог вообразить себе потайной застенок, где в первую полночь каждого полнолуния совершались ритуальные жертвоприношения.
Конечно, он был не настолько захвачен паранойей, чтобы считать, что Ариман смог установить контроль над сознанием каждого сотрудника клиники и обратил всех в своих нерассуждающих рабов, тем не менее они с Марти шли украдкой, на цыпочках, словно пробирались по вражеской территории.
Первая комната выходила в длинный коридор, упиравшийся в небольшой зал, где была пара дверей, за которыми, по всей вероятности, находился вестибюль. По сторонам коридора находились служебные и складские помещения, а также, возможно, кухня.
Никого не было видно, лишь издалека доносились голоса двоих человек, говоривших не на английском, а на каком-то незнакомом, вероятно, азиатском языке. Голоса были нереальными, словно долетали не из одного из находившихся впереди помещений, а вырвались из-за занавеса, отделявшего этот мир от иного, странного пространства.
Не доходя до приемного покоя, Марти увидела справа дверь с табличкой «ЛЕСТНИЦА», и, в лучших традициях реализма минувшего тысячелетия, за дверью действительно оказалась лестница.
Марк Ариман был одет в простой темно-серый с буроватым оттенком костюм, белую рубашку с расстегнутым воротником и синий в желтую полоску незатянутый галстук, без платочка в кармане. Свои густые волосы, растрепанные ветром, он, войдя в вестибюль клиники «Новая жизнь», небрежно пригладил ладонью. Это придавало ему облик преданного своему делу врача, чьи вечера принадлежали не ему, а его пациентам.
На месте охранника сидел Уолли Кларк, пухлый, с ямочками на щеках, улыбающийся и розовый, но при этом вид у него был такой, будто он ожидал, что его вот-вот закопают в песок, разожгут сверху костер и приготовят из него луау[48].
— Доктор Ариман! — воскликнул Уолли, когда тот с черным медицинским чемоданчиком в руке деловито шагал по вестибюлю. — Нет отдыха усталому?
— На самом деле говорится: «Нет отдыха злодею», — поправил доктор.
Уолли торопливо хихикнул в ответ на эту шутку, которой знаменитый доктор поставил простого охранника на один уровень с собою.
Внутренне улыбнувшись, Ариман представил себе, во что превратилось бы хихиканье охранника, доведись ему увидеть некий сосуд, в котором плавает пара знаменитых глаз.
— Но достоинство целителя стоит куда больше пропущенного обеда, — сказал он вслух.
— Как прекрасно было бы, разделяй все доктора ваше отношение к делу, сэр! — восхитился Уолли.
— О, я уверен, что большинство так и делает, — великодушно сказал Ариман, нажимая на кнопку вызова лифта. — Но я должен согласиться, что нет ничего хуже, чем представитель медицинской профессии, который больше не думает о людях, а просто по инерции занимается рутинной работой. Если радость, которую я получаю от этой работы, когда-либо оставит меня, Уолли, то надеюсь, мне хватит здравого смысла, чтобы сменить профессию.
Двери лифта почти бесшумно разошлись.
— Надеюсь, что этот день никогда не наступит. Вашим пациентам будет ужасно не хватать вас, доктор.
— Ну что ж, значит, перед тем, как сменить профессию, я должен буду всех их убить.
— Ну и насмешили вы меня, — захлебываясь от смеха, сказал Уолли.
— Обороняйте дверь от нашествия варваров, — величественно сказал Ариман, вступая в лифт.
— Положитесь на меня, сэр.
За те несколько секунд, которые занял подъем на второй этаж, доктор успел пожалеть, что ночь прохладна. При более теплой погоде он мог войти в клинику в пиджаке, небрежно накинутом на одно плечо, с засученными рукавами сорочки. Так он смог бы создать тот же самый желаемый образ, почти полностью избежав диалога.
Если бы он выбрал для своей карьеры кино, то, он был полностью уверен, получил бы не простую известность, но всемирную славу. На него непрерывно сыпались бы различного рода премии и награды. Поначалу, конечно, шли бы разговорчики о кумовстве, отцовских связях, но его талант в конечном счете заставил бы замолчать пустобрехов.
Но дело было в том, что Ариман происходил из высших голливудских кругов, вырос среди съемочных площадок и не видел в кинопромышленности ни малейшей романтики. Точно так же сыну самого кровавого диктатора «третьего мира» могли навсегда прискучить самые умелые истязания в прекрасно оборудованных пыточных камерах и зрелище массовых казней.
Кроме того, известность кинозвезды и связанная с нею потеря анонимности позволили бы ему проявлять свои садистские наклонности только по отношению к съемочным группам, дорогостоящим девочкам по вызову, обслуживавшим самых эксцентричных жрецов целлулоидной пленки, а также молодым актрисам, достаточно неизвестным для того, чтобы допустить издевательства над собою. Доктор никогда не удовлетворился бы такими примитивными победами.
Динь! Лифт остановился на втором этаже.
На втором этаже Дасти и Марти, осторожно поднявшихся по вспомогательной лестнице, ожидала удача. Почти в сотне футов оттуда, в хорошо освещенном главном коридоре, находился сестринский пост, где дежурили две женщины, но ни одной из них, конечно, не могло прийти в голову посмотреть в сторону лестницы, которой в это время суток никто не пользовался. Палата Скита находилась неподалеку, и они пробрались туда незамеченными.
Комнату освещал один только телевизор. По экрану прыгали фигурки копов и грабителей, и вместе с ними по стенам переливались бледные пятна света.
Скит сидел на кровати, откинувшись, как турецкий паша, на груду подушек, и пил через соломинку из бутылки ванильный «Йу-ху». Увидев гостей, он пустил в бутылку массу пузырей, словно протрубил в сигнальный рог, и радостно приветствовал их.
Марти сразу же подошла к кровати, чтобы обнять и поцеловать Скита в щеку. Дасти с широкой улыбкой пожелал доброго вечера Жасмине Эрнандес, чьей постоянной обязанностью был надзор за больными, совершившими попытки самоубийств, и открыл небольшой шкаф.
Когда Дасти выпрямился, держа в руке чемодан Скита, медсестра Эрнандес поднялась из кресла и демонстративно посмотрела на светящийся циферблат своих наручных часов.
— Время посещений уже закончилось.
— Да, правильно, но мы пришли не для посещения, — сказал Дасти.
— У нас сложная ситуация, — поддержала его Марти. Одновременно она отобрала у Скита бутылку с напитком и заставила его пересесть на край кровати.
— Кое-кто заболел, — добавил Дасти.
— И кто же? — поинтересовался Скит.
— Матушка, — ответил Дасти.
— Чья матушка? — спросил Скит. Он явно не мог поверить своим ушам.
Клодетта больна? Клодетта, которая выбрала ему в отцы Холдена Колфилда, а потом в отчимы — Дерека Гада Лэмптона? Эта женщина, обладающая красотой и холодным безразличием богини? Эта возлюбленная третьеразрядных ученых? Эта муза романистов, не желающих находить смысла в письменной речи, пошлых психологов, презирающих человеческий род? Клодетта, непримиримая экзистенциалистка, неприкрыто плюющая на все правила и законы, не признающая никаких определений действительности, которые не начинались с нее самой? Как могло это незыблемое и, очевидно, бессмертное существо стать жертвой хоть чего-то в этом мире?
— Наша матушка, — подтвердил Дасти.
На ногах Скита уже были носки, и Марти опустилась на колени около кровати, запихивая его ноги в тапочки.
— Марти, — удивленно воскликнул Малыш, — но ведь я в пижаме!
— Нет времени переодеваться, дорогой. Вашей матушке действительно очень плохо.
— На самом деле? — еще удивленнее спросил Скит. — Кло-детта действительно так больна?
— Ее внезапно хватил удар, — отозвался Дасти, швырявший вещи Скита в чемодан с такой скоростью, с какой мог выхватывать их из шкафа.
— Наверно, грузовик или что-то в этом роде?
Жасмина Эрнандес уловила в голосе Скита чуть ли не восхищенную нотку и нахмурилась.