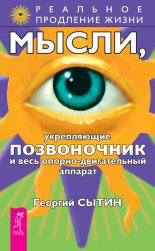Эркюль Пуаро и Убийства под монограммой Ханна Софи

– Вам разговор с Амброузом все равно ничем не поможет, а ему может повредить, – сказала она твердо. – Из любого жителя деревни, кто только встретится вам на пути, вытрясайте душу, сколько хотите, я вам разрешаю. – Она улыбнулась, но ее взгляд оставался жестким. – Они и так напуганы – еще бы, виновных убирают одного за другим, а в глубине души они знают, что виновны все до единого, – ну а если вы сообщите им свое профессиональное мнение о том, что убийца не успокоится до тех пор, пока все причастные к смерти Патрика и Франсис Айв не будут препровождены в самые дальние глубины ада, то они и вовсе концы отдадут от страха.
– Ну, это уж слишком, – возразил я.
– У меня не совсем обычное чувство юмора. Чарльз всегда на это жаловался. Я никогда ему этого не говорила, но я не верю ни в Ад, ни в Рай. Нет, в Бога я верю, только не в такого, о каком нам все время твердят.
Вид у меня, должно быть, был весьма взволнованный. Вопросы теологии меня не интересовали; мне хотелось поскорее вернуться в Лондон и сообщить Пуаро все, что мне удалось узнать.
Маргарет продолжала:
– Бог, разумеется, один, но я ни на секунду не верю в то, что он хочет, чтобы мы бессловесно следовали Его заповедям и топтали ногами тех, кто оступился на этом пути. – Тут ее улыбка стала теплее, и она добавила: – По-моему, Бог видит мир скорее так, как вижу его я, а не так, как видела его покойная Ида Грэнсбери. Вы согласны?
Я невыразительно хмыкнул.
– Церковь учит нас тому, что только Бог нам судья, – продолжала Маргарет. – Так почему же Ида Грэнсбери не напомнила об этом Харриет Сиппель и ее безмозглым подпевалам? Почему обрушила проклятия на Патрика Айва? Если уж человек хочет изображать из себя образцового христианина, так пусть хотя бы потрудится не перевирать основные догматы своей религии.
– Вижу, вы все еще сердитесь из-за этой истории.
– Я буду сердиться до самого своего смертного часа, мистер Кэтчпул. Грешники загоняют в гроб человека куда менее грешного, чем они сами, – тут, пожалуй, рассердишься.
– Лицемерие – страшная штука, – поддакнул я.
– Кроме того, нет ничего ужасного в том, чтобы быть рядом с тем, кого по-настоящему любишь.
– Ну, я в этом не уверен. Если человек связан узами брака, то…
– К черту узы! – Маргарет подняла голову к портретам на стене и сказала: – Прости меня, дорогой Чарльз, но если двое любят друг друга, то пусть это не нравится Церкви и пусть это против правил… любовь есть любовь, как с ней поспоришь? Я знаю, тебе не нравится, когда я так говорю.
Мне, кстати, тоже не понравилось.
– Любовь в состоянии причинить массу проблем, – сказал я. – Если бы Нэнси Дьюкейн не любила Патрика Айва, я бы не расследовал сейчас тройное убийство.
– Что за глупости вы говорите. – Маргарет даже сморщила нос, глядя на меня. – Ненависть толкает людей на убийство, мистер Кэтчпул, ненависть, а не любовь. Любовь тут ни при чем. Пожалуйста, не будьте безрассудны.
– Я всегда верил в то, что самые трудные для исполнения правила даются нам как упражнение для характера, – парировал я.
– Да, но каких его сторон? Может быть, легковерия? Или слепого идиотизма. Библия со всеми своими заповедями – всего лишь книга, написанная когда-то человеком. Ее уже давно пора снабдить комментарием: «Слово Божье, искаженное и превратно истолкованное людьми».
– Мне пора, – сказал я, смущенный неожиданным оборотом, который принял наш разговор. – Время возвращаться в Лондон. Спасибо вам за ваше время и содействие. Вы мне очень помогли.
– Простите меня, – сказала Маргарет, провожая меня к выходу. – Обычно я ни с кем не говорю так откровенно, кроме Амброуза да Чарльза-на-стене.
– В таком случае, я должен быть польщен, – ответил я.
– Я провела всю жизнь, следуя правилам из старой пыльной Книги, мистер Кэтчпул. Поэтому я знаю, как это глупо. И потому всякий раз, как двое любящих отбрасывают всякие предосторожности и встречаются вопреки голосу рассудка… я восхищаюсь ими! Как восхищаюсь тем, кто убил Харриет Сиппель. Ничего не могу с собой поделать. Это не значит, что я одобряю убийство в целом. Вовсе нет. Нет, лучше уходите, пока я еще чего-нибудь не ляпнула.
Возвращаясь к «Голове Короля», я думал о том, какая странная вещь беседа и как далеко она может завести. Начинаешь с одного, а приходишь совершенно к другому и понятия не имеешь, как найти дорогу назад. Слова Маргарет так и звенели у меня в ушах: «Пусть это против правил… любовь есть любовь, с ней ведь не поспоришь?»
В гостинице я прошел мимо храпящего за своим столом Уолтера Стоукли и похотливо поглядывающего Виктора Микина и поднялся к себе, чтобы собрать вещи.
Сев в ближайший поезд до Лондона, я радостно прощался с Грейт-Холлингом, пока состав отходил от перрона. И все же сожаление о том, что не удалось поговорить с доктором Флауэрдейлом, кольнуло меня даже в этот радостный миг. Что скажет Пуаро, узнав про обещание, которое я дал Маргарет Эрнст? Наверняка не одобрит, да еще пройдется насчет англичан с их дурацким чувством чести, а я буду стоять перед ним, потупившись, точно школьник, и бубнить что-нибудь невразумительное в ответ, вместо того, чтобы взять и высказать ему свою точку зрения: уважая желания людей, все равно всегда узнаешь от них гораздо больше, чем действуя против их воли. Надо только показать им, что вы совсем не намерены вытрясать из них все, что им известно, и они скоро сами придут к вам и принесут как на блюдечке именно те ответы, которые вы ищете.
Я знал, что Пуаро меня не одобрит, но решил не обращать на это внимания. Если Маргарет Эрнст осмеливается не соглашаться с Богом, то и мне не грех время от времени поспорить с Эркюлем Пуаро. А он, если ему так необходимо поговорить с доктором Амброузом Флауэрдейлом, пусть сам едет в Грейт-Холлинг и беседует с ним.
Однако я надеялся, что этого не потребуется. Нэнси Дьюкейн – вот на ком нам предстояло сосредоточить свои усилия. На ней и на спасении жизни Дженни – если, конечно, еще не поздно. В тот момент я глубоко раскаивался в том, что отказывался видеть грозящую ей опасность раньше. Если удастся ее спасти, то это будет заслуга одного Пуаро, и ничья больше. И загадка тройного убийства в отеле «Блоксхэм» разрешится – если она вообще, конечно, разрешится, – тоже благодаря его усилиям. Разумеется, в Скотленд-Ярде это будет отмечено как дело, раскрытое мною, но все будут знать, что это победа Пуаро, а не моя. Более того, мои начальники только потому и решились оставить это дело за мной, что знали об участии, которое принимает в нем Пуаро, – вот и согласились не лезть в мои, а точнее в его, затеи. Таким образом, сложнейшее расследование было доверено знаменитому бельгийцу, а вовсе не мне.
Я задумался над тем, что было бы для меня предпочтительнее: потерпеть крушение, двигаясь под своими собственными парусами, или достичь цели исключительно при помощи Пуаро, и заснул.
Впервые мне приснился в поезде сон – будто все осуждают меня за какой-то грех, а я даже не знаю, в чем он состоит. Потом я увидел могильную плиту, на которой вместо имен Патрика и Франсис Айв было написано мое имя, а под ним – сонет о клевете. Подле могилы поблескивало что-то металлическое, и я почему-то знал, что это блестит втоптанная в землю запонка с моими инициалами. Весь в поту, с бешено колотящимся сердцем, я проснулся, когда поезд уже подползал к Лондону.
Глава 13
Нэнси Дьюкейн
Я, конечно, не знал о том, что Пуаро уже в курсе возможной причастности Нэнси Дьюкейн к нашим трем убийствам. Пока я уносил ноги из Грейт-Холлинга, он заручался помощью Скотленд-Ярда, чтобы посетить миссис Дьюкейн в ее доме.
Пуаро отправился к ней в тот же день с констеблем Стэнли Биром в качестве сопровождающего. Молоденькая горничная в крахмальном фартуке открыла им дверь большого белого особняка в Белгравии[39]. Пуаро ждал, что их проведут в гостиную, убранную с большим вкусом, где оставят ожидать появления хозяйки, и был очень удивлен, обнаружив Нэнси Дьюкейн в холле, у нижней ступени лестницы.
– Месье Пуаро? Добро пожаловать. Вижу, вы привели с собой полисмена. Должна сказать, все это довольно необычно.
В горле у Стэнли Бира что-то хрюкнуло, и он покраснел как свекла. Нэнси Дьюкейн была необыкновенно красивой женщиной, с персиковым цветом лица, сияющими темными волосами и синими глазами с длинными ресницами. На вид ей было лет около сорока, ее стильное платье отливало всеми оттенками павлиньего пера. Впервые в жизни Пуаро оказался не самым элегантным человеком в компании.
– Очень рад встрече с вами, мадам Дьюкейн. – Он поклонился. – Я поклонник вашего художественного таланта. За последние годы я имел счастье видеть одну или две ваши работы на выставках. Вы обладаете редчайшим даром.
– Спасибо. Вы очень добры. Табита возьмет у вас пальто и шляпы, если не возражаете, и мы перейдем в более уютное место для разговора. Вам чаю или кофе?
– Non, merci.
– Хорошо. Идемте.
Они перешли в небольшую гостиную, в которой я, к счастью, не был, а только слышал о ней от Пуаро. Она была полна портретов – так и вижу, как они таращатся на меня со стен…
Пуаро спросил, все ли работы принадлежат кисти самой Нэнси.
– О нет, – сказала она. – Здесь совсем немного моих. Я часто продаю свои работы и так же часто приобретаю чужие – по-моему, это нормально. Живопись – моя страсть.
– И моя также, – сообщил ей Пуаро.
– Смотреть только на свои полотна, по-моему, невыносимо грустно. Каждый раз, вешая у себя картину другого художника, я радуюсь, как будто приобретаю нового друга.
– D’accord. Вы все очень понятно объясняете.
Когда все сели, Нэнси сказала:
– Могу ли я перейти сразу к делу и спросить, что привело вас ко мне? По телефону вы сказали, что хотите провести в моем доме обыск. Пожалуйста, я не против, только зачем это нужно?
– Возможно, вы уже читали в газетах, мадам, что в прошлый четверг вечером в отеле «Блоксхэм» были убиты трое постояльцев.
– В «Блоксхэме»? – Нэнси засмеялась. Вдруг ее лицо погрустнело. – О господи, вы это серьезно? Трое? Вы уверены? Я всегда думала, что «Блоксхэм» – превосходное место. Просто не могу представить, чтобы там кого-то убили.
– Значит, вы знаете этот отель?
– О да. Я часто пью там чай. Лаццари, их управляющий, такой милый. А еще у них пекут замечательные булочки – лучшие в Лондоне. Мне так жаль… – Она помолчала. – Извините, глупо говорить о каких-то булочках, когда убиты трое людей. Ужасно. Только я не понимаю, какое отношение это имеет ко мне.
– Так, значит, вы не читали об этом в газетах? – повторил Пуаро.
– Нет. – Нэнси Дьюкейн поджала губы. – Я не читаю газет и не держу их у себя в доме. В них полно всяких несчастий. А я не люблю несчастья.
– Значит, вы не знаете имен убитых?
– Нет. И знать не хочу. – Нэнси вздрогнула.
– К сожалению, мне придется сообщить их вам, хотите вы того или нет. Их звали Харриет Сиппель, Ида Грэнсбери и Ричард Негус.
– О, нет, нет. О, месье Пуаро! – Нэнси прижала ко рту ладонь.
Около минуты она не могла говорить, наконец сказала:
– Это не шутка, нет? Пожалуйста, скажите, что вы пошутили.
– Это не шутка. Простите меня, мадам. Я огорчил вас.
– Это их имена меня огорчили. Мне нет дела, живы они или умерли, я все равно не хочу думать о них. Понимаете, стремление избежать столкновения с неприятным свойственно всем, хотя это и не всегда удается, а я… я более чувствительна ко всему неприятному, чем многие.
– Вы много страдали в жизни?
– Я не желаю обсуждать свою частную жизнь. – Нэнси отвернулась.
Скажи ей Пуаро в тот момент, что его намерения в этом отношении прямо противоположны ее чувствам, вряд ли бы это помогло. Проникать в тайны частной жизни совершенно незнакомых ему людей, с которыми он к тому же никогда не встретится снова, было его страстью.
Но он воздержался и сказал следующее:
– Тогда давайте вернемся к полицейскому расследованию, которое привело меня сюда. Итак, имена трех жертв убийства вам знакомы?
Нэнси кивнула.
– Раньше я жила в деревне под названием Грейт-Холлинг, это в Калвер-Вэлли. Вы наверняка о ней не слышали. Никто не слышал. Харриет, Ида и Ричард были моими соседями. Но я уже много лет их не видела и ничего о них не знаю. С тринадцатого года, когда я переехала в Лондон. Неужели их вправду убили?
– Oui, мадам.
– В отеле «Блоксхэм»? Но что они там делали? Как оказались в Лондоне?
– Это как раз те вопросы, на которые у меня пока нет ответа, – сказал ей Пуаро.
– Но это же бессмысленно, убивать их. – Нэнси вскочила со стула и заходила от стены к двери и обратно. – Единственный человек, который мог бы это сделать, этого не делал!
– Кто этот человек?
– О, не обращайте на меня внимания. – Нэнси вернулась к стулу и снова села. – Простите. Ваша новость потрясла меня, как видите. Я ничем не могу вам помочь. И… не сочтите за грубость, но сейчас вам лучше уйти.
– Вы имели в виду себя, мадам, говоря о том единственном человеке, который мог совершить эти убийства? Но вы этого не делали?
– Нет… – Нэнси произнесла это медленно, но ее глаза метались по комнате. – А, теперь я поняла, о чем вы. До вас дошла какая-нибудь сплетня, вот вы и решили, что это я их убила. И поэтому вы хотите обыскать мой дом. Но я никого не убивала. Ищите сколько хотите, месье Пуаро. Скажите Табите, пусть она покажет вам все комнаты – их так много, что, если вас никто не будет сопровождать, вы пропустите одну из них.
– Благодарю вас, мадам.
– Вы не найдете ничего, что может бросить на меня тень, потому что ничего такого здесь нет. Однако лучше бы вам уйти. Сказать вам не могу, до какой степени вы меня расстроили.
Стэнли Бир встал, сказав:
– Я начну. Спасибо за содействие, миссис Дьюкейн. – Он вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
– Вы ведь умны, не так ли? – спросила Нэнси Дьюкейн у Пуаро таким тоном, словно это было очко не в его пользу. – Да, вы именно так умны, как говорят о вас люди. Я вижу это по вашим глазам.
– Многие считают, что у меня превосходный ум, oui.
– Как гордо вы об этом говорите. А по-моему, превосходный ум ничего не стоит, если при нем нет столь же превосходного сердца.
– Naturellement[40]. Как любители великого искусства, мы с вами обязаны верить в это. Искусство говорит душе и сердцу значительно больше, чем уму.
– Согласна, – ответила Нэнси тихо. – Знаете, месье Пуаро, ваши глаза… в них виден не просто ум. В них мудрость. Они заглядывают глубоко назад. О, вы, конечно, не можете знать, что я имею в виду, но это правда. Они прекрасно смотрелись бы на портрете, но я уже никогда не смогу нарисовать вас, не теперь, не после того, как вы принесли в мой дом эти ужасные имена.
– Я сожалею.
– Это ваша вина, – без обиняков заявила Нэнси. Она сцепила ладони. – О, наверное, я могу сказать вам: да, это о себе я говорила прежде. Я – та, кто мог бы убить Харриет, Иду и Ричарда, но, как вы уже слышали от меня самой, я этого не делала. Поэтому я не понимаю, что могло случиться.
– Они вам не нравились?
– Я их ненавидела. Сколько раз я желала им смерти. О боже! – Нэнси вдруг прижала к щекам ладони. – Неужели они и вправду умерли? Полагаю, я должна испытывать радость или хотя бы облегчение. Я хочу радоваться, но я не могу радоваться, стоит мне только подумать о Харриет, Иде и Ричарде. Какая злая ирония, правда?
– За что вы их так не любили?
– Я не желаю об этом говорить.
– Мадам, я не стал бы спрашивать, если бы не считал это необходимым.
– И тем не менее я не желаю вам отвечать.
Пуаро вздохнул.
– Где вы были в прошлый четверг вечером, от семи пятнадцати до восьми часов?
Нэнси нахмурилась.
– Представления не имею. Хватит с меня того, что приходится помнить, что и когда я делаю на этой неделе. Хотя подождите. Четверг, конечно. Я была здесь, в доме через дорогу, у моей подруги Луизы. Луизы Уоллес. Накануне я как раз дописала ее портрет и в тот вечер перенесла его к ним и осталась на ужин. Я была у них примерно с шести и до десяти. Просидела бы и дольше, если бы мужа Луизы, Сент-Джона, не было дома. Жуткий сноб. Сама Луиза такая милая, ни в ком не видит недостатков – вы наверняка встречали таких людей. Она считает, что раз мы с Сент-Джоном оба занимаемся живописью, то должны обожать друг друга, но я его терпеть не могу. Он уверен, что его тип живописи превосходит мой, и никогда не упускает возможности напомнить мне об этом. Трава и рыба – вот что он рисует. Старые засохшие листья и белоглазая селедка и треска!
– Он рисует картины на темы ботаники и зоологии?
– Мне неинтересен художник, ни разу не изобразивший человеческого лица, – сказала Нэнси решительно. – Мне очень жаль, но так оно и есть. Сент-Джон говорит, что нельзя нарисовать человеческое лицо, не рассказав при этом историю, а начав рассказывать историю, художник неизбежно искажает визуальную информацию, или что-то в этом духе. Но что плохого в историях?
– А история Сент-Джона Уоллеса о вечере прошлого четверга совпадает с вашей? – спросил Пуаро. – Он подтвердит, что вы пробыли в его доме с шести часов вечера почти до десяти?
– Конечно. Это же абсурдно, месье Пуаро. Вы задаете мне вопросы, какие обычно задают убийцам, но я никого не убивала. Кто вам сказал, что эти убийства совершила я?
– Вас видели, когда вы в сильнейшем волнении выбежали из отеля «Блоксхэм» после восьми вечера. На бегу вы уронили два ключа. Вы наклонились, чтобы поднять их, а потом побежали дальше. Свидетель, который вас видел, узнал ваше лицо по снимкам в газетах и понял, что вы – знаменитая художница Нэнси Дьюкейн.
– Это просто невозможно. Ваш свидетель ошибается. Спросите Сент-Джона и Луизу Уоллес.
– Обязательно спрошу, мадам. Bon, теперь я хочу задать вам другой вопрос: вам знакомы инициалы Пи Ай Джей или, может быть, Пи Джей Ай? Возможно, они тоже принадлежат кому-нибудь из Грейт-Холлинга?
Краска отхлынула от лица Нэнси.
– Да, – прошептала она. – Патрик Джеймс Айв. Он был там викарием.
– А! Этот викарий, он, кажется, умер трагической смертью, не так ли? И его жена тоже?
– Да.
– Что с ними случилось?
– Я не буду об этом говорить. Не буду!
– Это чрезвычайно важно. Я должен умолять вас рассказать мне.
– Нет! – воскликнула Нэнси. – У меня не получится, даже если я попытаюсь. Я так давно не говорила об этом, я… – Несколько мгновений она открывала и закрывала рот, не произнося ни слова. Затем ее лицо исказила гримаса боли. – Что произошло с Харриет, Идой и Ричардом? – спросила она наконец. – Как их убили?
– Их отравили.
– О, как это ужасно! Но верно.
– В каком смысле, мадам? Патрик Айв и его жена тоже умерли в результате отравления?
– Я не буду говорить о них, повторяю вам!
– А вы знали в Грейт-Холлинге некую Дженни?
Нэнси тихо вскрикнула и поднесла к горлу ладонь.
– Дженни Хоббс. Мне нечего сказать о ней, совсем нечего! Не спрашивайте меня больше ни о чем! – Она сморгнула слезы. – Почему люди так жестоки, месье Пуаро? Вы знаете ответ на этот вопрос? Нет, не говорите! Давайте поговорим о чем-нибудь другом, о чем-нибудь возвышенном. Об искусстве, например, раз уж мы оба его любим.
Нэнси встала и подошла к большому портрету, висевшему слева от окна. На нем был изображен мужчина с непокорными черными волосами, широким ртом и раздвоенным подбородком. Он улыбался. Так, словно вот-вот рассмеется.
– Мой отец, – сказала Нэнси. – Альбинус Джонсон. Возможно, вы слышали это имя.
– Оно мне знакомо, хотя я не помню, в какой связи, – сказал Пуаро.
– Он умер два года назад. В последний раз я видела его, когда мне было девятнадцать. А сейчас мне сорок два.
– Пожалуйста, примите мои соболезнования.
– Это не я его нарисовала. Я даже не знаю, кто и когда. На картине нет ни даты, ни подписи, так что художник наверняка ничего из себя не представлял – любитель, – но… мой отец на ней улыбается, вот почему эта картина висит у меня на стене. Жаль, что он мало улыбался при жизни… – Нэнси умолкла и повернулась к Пуаро. – Видите? – спросила она. – Сент-Джон Уоллес не прав! Это дело искусства – заменять настоящие, но грустные истории, выдуманными, но счастливыми.
В дверь громко постучали, вошел констебль Стэнли Бир. По тому, как он смотрел только на детектива, избегая взгляда Нэнси Дьюкейн, Пуаро понял – он что-то нашел.
– Я кое-что обнаружил, сэр.
– Что же?
– Два ключа. Они были в кармане пальто, темно-синего, с меховыми манжетами. Горничная сказала, что оно принадлежит миссис Дьюкейн.
– Что за ключи? – спросила Нэнси. – Дайте посмотреть. Я вообще не храню ключи в карманах. Для них в доме есть специальный ящик.
Но Бир на нее даже не взглянул. Вместо этого он подошел к креслу Пуаро, остановился напротив, протянул руку и разжал кулак.
– Что у него там? – нетерпеливо спросила Нэнси.
– Два ключа с гравированными номерами и надписью «Отель «Блоксхэм», – торжественно сказал Пуаро. – Комната 121 и комната 317.
– Эти номера должны для меня что-то значить? – спросила Нэнси.
– Это номера двух из трех комнат, в которых были совершены убийства, мадам: 121 и 317. Свидетель, который видел, как вы выбегали из отеля «Блоксхэм» в вечер убийства, сказал, что вы уронили два ключа с номерами: сто с чем-то и триста с чем-то.
– О, какое необычайное совпадение! О, месье Пуаро! – Нэнси засмеялась. – Вы уверены, что вы и вправду умны? Разве вы не видите, что творится у вас под носом? Может быть, эти огромные усы заслоняют вам обзор? Кто-то решил во что бы то ни стало выставить меня убийцей. Это даже любопытно! Забавно будет узнать, кто именно – конечно, при условии, что меня саму не поволокут раньше на виселицу.
– Кто имел возможность положить эти ключи в карман вашего пальто между вечером четверга и сегодняшним днем? – спросил ее Пуаро.
– Откуда мне знать? Любой, мимо кого мне случилось проходить на улице, мог это сделать. Я часто ношу синее пальто. Знаете, в этом есть легкая иррациональность.
– Пожалуйста, объясните.
На несколько секунд Нэнси погрузилась в задумчивость. Затем, словно вынырнув на поверхность, сказала:
– Любой, кому Харриет, Ида и Ричард не нравились настолько, чтобы он рискнул их убить… почти наверняка должен испытывать симпатию ко мне. И все же именно меня пытаются выставить убийцей.
– Арестовать ее, сэр? – спросил у Пуаро Стэнли Бир. – Взять под стражу?
– Не смешите меня, – отозвалась Нэнси устало. – Я только сказала «меня пытаются выставить убийцей», а вы уже и поверили? Вы кто, полицейский или попугай? Если вам так надо кого-нибудь арестовать, арестуйте вашего свидетеля. Что, если он не только лгун, но и убийца? Об этом вы не подумали? Перейдите лучше через дорогу и послушайте, что вам скажут Сент-Джон и Луиза Уоллес. Другого способа положить конец этой глупости не существует.
Пуаро не без некоторого труда поднялся с кресла; оно было из тех, в которых человеку его роста и комплекции легко утонуть с головой.
– Именно так мы и поступим, – сказал он. Потом, обращаясь к Стэнли Биру, добавил: – Никого пока арестовывать не нужно, констебль. Не думаю, мадам, чтобы вы сохранили эти ключи в том случае, если бы действительно совершили убийства в комнатах 121 и 317 отеля «Блоксхэм». Разве вы не избавились бы от них?
– Конечно. Я избавилась бы от них при первой же возможности, верно?
– А теперь я иду к мистеру и миссис Уоллес.
– Вообще-то, – сказала Нэнси, – они лорд и леди Уоллес. Луизе все равно, а вот Сент-Джон не простит, если вы лишите его титула.
Совсем скоро Пуаро уже стоял рядом с Луизой Уоллес в ее гостиной, где та, словно завороженная, смотрела на свой портрет работы Нэнси Дьюкейн.
– Разве он не великолепен? – выдохнула она. – Нэнси льстит мне, но это нисколько не оскорбляет. С таким круглым и румяным лицом, как у меня, всегда есть опасность оказаться похожей на жену фермера, но на ее портрете это совсем не так. Конечно, вид у меня тут не изысканный, но вполне милый, как мне кажется. Сент-Джон даже сказал «роскошный» – выражение, которого он никогда не употреблял по отношению ко мне раньше, – но картина навела его на эту мысль. – Она засмеялась. – Разве не прекрасно, что в мире есть такие талантливые люди, как Нэнси?
Но Пуаро не мог сосредоточиться на портрете. Коллега безупречно накрахмаленной Табиты, горничной Нэнси Дьюкейн, юное и неуклюжее создание по имени Доркас, дважды уронила его пальто и один раз – шляпу, на которую ухитрилась к тому же наступить.
При более строгом присмотре дом Уоллесов мог быть весьма уютным, но, как убедился в тот день Пуаро, управление им оставляло желать много лучшего. Все, кроме самой тяжелой мебели, чинно выстроенной вдоль стен, выглядело так, словно огромной силы ураган, ворвавшись внутрь, подхватил предметы, закружил их в своем вихре, а потом внезапно стих, и вещи упали ровно там, где их оставила подъемная сила ветра. Пуаро не переносил беспорядка; он мешал ему думать.
Наконец, подхватив с пола пальто бельгийца и его потоптанную шляпу, Доркас удалилась, оставив детектива и Луизу Уоллес одних. Стэнли Бир заканчивал обыск у Нэнси Дьюкейн, а его светлости не было дома; судя по всему, утром он уехал в свое загородное поместье. Пуаро уже заметил на стенах несколько рам с «сухой травой и белоглазой селедкой и треской», как выразилась Нэнси Дьюкейн, и подумал, что это, должно быть, и есть работы Сент-Джона Уоллеса.
– Извините меня за Доркас, – сказала Луиза. – Она совсем новенькая, к тому же самое беспомощное существо из всех, кому когда-либо доводилось сваливаться нам на голову, но я не признаю поражений. Она у нас только три дня. Немного времени и терпения, и она всему научится. Если бы она еще не тряслась как осиновый лист! Я знаю, почему это с ней случается: она твердит себе, что ни за что не должна уронить пальто и шляпу важного гостя, сама тут же представляет себе, как они падают, – и все немедленно валится у нее из рук. С ума сойти можно!
– Совершенно верно, – подтвердил Пуаро. – Леди Уоллес, касательно прошлого четверга…
– Ах да, мы же об этом говорили, а потом я привела вас сюда, посмотреть на портрет. Да, Нэнси была в тот вечер здесь.
– С которого и до которого часа, мадам?
– Я точно не помню. Знаю, мы договаривались, что она придет в шесть и принесет картину, и, по-моему, она не опоздала ни на минуту. К сожалению, я совсем не помню, когда она ушла. Приблизительно часов в десять или позже.
– И все это время она провела здесь – от прихода до ухода? Никуда не отлучалась?
– Нет. – У Луизы Уоллес был озадаченный вид. – В шесть она пришла с картиной, мы просидели все вместе до десяти, и потом она ушла совсем. А в чем дело?
– Вы можете подтвердить, что миссис Дьюкейн ушла отсюда не раньше половины девятого?
– О боже, ну, конечно. Она ушла значительно позже. В половине девятого мы все были еще за столом.
– Кто «мы»?
– Нэнси, Сент-Джон и я.
– А ваш супруг, если бы я мог поговорить с ним сейчас, подтвердил бы ваши слова?
– Да. Надеюсь, вы не хотите сказать, что я обманываю вас, месье Пуаро?
– Нет-нет. Pas du tout.
– Вот и хорошо, – сказала Луиза Уоллес решительно. И снова повернулась к портрету. – Знаете, ей особенно удается цвет. Нет, конечно, она замечательно рисует и лица, но ее особый талант – создание цветовой гаммы. Посмотрите, к примеру, как свет падает на мое зеленое платье.
Пуаро видел, о чем речь. Зелень платья словно переливалась, казалась то светлее, то гуще. Никакой постоянной тени не было. Свет словно менялся прямо на глазах у зрителя; таково было искусство Нэнси Дьюкейн. На портрете Луиза Уоллес в зеленом платье с глубоким вырезом сидела в кресле; рядом, на деревянном столике, стояли синий кувшин и тазик для умывания. Пуаро прошелся по комнате, оглядывая картину то с одной точки, то с другой.
– Я хотела заплатить Нэнси за этот портрет по ее обычной таксе, но она отказалась наотрез, – сказала Луиза Уоллес. – Мне повезло иметь такую щедрую подругу. Знаете, кажется, мой муж меня немного к ней ревнует, – я имею в виду картину. Наш дом полон его картин, ни одной свободной стены нет. Одни его картины, пока не привезли этот портрет. У них с Нэнси соперничество. Глупое, я не обращаю на него внимания. Они оба отличные художники, каждый по-своему.
«Значит, Нэнси Дьюкейн подарила картину Луизе Уоллес», – размышлял Пуаро. Совершенно бесплатно или все-таки в обмен на алиби? Немногие верные друзья в состоянии не поддаться на уговоры сказать маленькую безобидную ложь, получив такой роскошный подарок. Пуаро сомневался, стоит ли говорить Луизе о том, что его привело к ней расследование убийства. Пока она ничего об этом не знала.
От этих размышлений его отвлекло появление горничной Доркас, которая ввалилась в комнату с тревожным и озабоченным лицом.
– Прошу прощения, сэр!..
– В чем дело? – Пуаро уже готов был услышать, что она по нечаянности подожгла его пальто и шляпу.
– Не желаете чашку чая или кофе, сэр?
– Вы об этом пришли меня спросить?
– Да, сэр.
– И только? Ничего больше не случилось?
– Нет, сэр. – Доркас смотрела на него озадаченно.
– Bon. В таком случае, да, пожалуйста, кофе. Спасибо.
– Вот и правильно, сэр.
– Вы это видели? – проворчала Луиза Уоллес, когда Доркас протопала из комнаты вон. – Невероятно, правда? Я была уверена, что она пришла объявить об увольнении в связи с тем, что ее мать лежит при смерти. Нет, с этой девушкой не хватит никакого терпения. Надо бы мне взять да и уволить ее, но даже плохая помощь лучше, чем никакой. В наше время так трудно найти приличную служанку.
Пуаро выразил свое сочувствие подобающими случаю звуками. Обсуждать прислугу ему нисколько не хотелось. Куда больше его интересовали собственные идеи, в особенности та, которая осенила его, пока леди Уоллес жаловалась на горничную, а он разглядывал синий умывальный прибор на ее портрете.
– Мадам, позвольте спросить… эти другие картины на стенах – работы вашего мужа?
– Да.
– Как вы и говорили, он тоже замечательный художник. Буду польщен, мадам, если вы соблаговолите показать мне ваш прекрасный дом. С удовольствием взгляну на картины вашего мужа. Вы ведь говорили, что они на каждой стене?
– О, да. Я с удовольствием устрою вам экскурсию по картинной галерее Сент-Джона, и вы убедитесь, что я нисколько не преувеличиваю. – Луиза просияла и захлопала в ладоши. – Замечательно! Хотя жалко, что Сент-Джона нет дома, – он рассказал бы вам куда больше о своих картинах, чем я. Но я буду стараться. Вы бы удивились, месье Пуаро, если бы узнали, сколько людей в нашем доме никогда даже не заикаются о картинах. Взять хотя бы Доркас. Если бы на месте картин висели кухонные полотенца в рамах, она бы и то чаще на них смотрела. Ну что же, начнем, пожалуй, с холла?
Прогуливаясь по дому и осматривая многочисленные изображения растений, рыб и пауков, предложенные его вниманию, Пуаро радовался тому, что знает толк в живописи. Что до соперничества между Сент-Джоном Уоллесом и Нэнси Дьюкейн, то у него уже сложилось определенное мнение. Картины лорда Уоллеса были тщательно прорисованы, у них были свои достоинства, но они не пробуждали в зрителе никаких чувств. Нэнси Дьюкейн обладала более значительным талантом. Она смогла ухватить самую суть личности Луизы Уоллес и заключить ее в портрете так, что модель продолжала жить на холсте. Пуаро захотелось снова взглянуть на портрет перед уходом, и не только для того, чтобы убедиться, что он не ошибся касательно одной маленькой детали, которую заметил еще раньше.
Тут на площадке лестницы появилась Доркас.
– Ваш кофе, сэр.
Пуаро, который стоял в кабинете Сент-Джона Уоллеса, шагнул ей навстречу, чтобы взять у нее из рук чашку. Девушка отпрыгнула так, словно не ожидала, что он способен двигаться, и, конечно, пролила большую часть напитка на свой белый передник.
– Ой! Простите, сэр, корова я неуклюжая… Пойду принесу вам еще чашку.
– Нет-нет, пожалуйста, не нужно. – Пуаро схватил остатки кофе и выпил его залпом, пока еще было что пить.
– Эта, пожалуй, моя любимая, – сказала Луиза Уоллес, не выходя из кабинета. Она показывала на картину, которую Пуаро со своего места не мог видеть. – «Паслен сладко-горький: Соланум Дулькамара». Четвертое августа прошлого года, видите? Это подарок Сент-Джона мне на годовщину нашей с ним свадьбы. Тридцать лет. Красиво, правда?
– Вы уверены, что не хотите больше кофе? – спросила Доркас.
– Четвертое… Sacr tonnerre, – прошептал Пуаро, ощутив нарастающее возбуждение. Он вернулся в кабинет и еще раз посмотрел на изображение паслена.
– Он уже отвечал на этот вопрос, Доркас. Нет, он не хочет больше кофе.
– Так мне ж не трудно, мадам, чес-слово, не трудно. Он ведь хотел кофе, а получил полупустую чашку.
– Когда ничего нет, то и видеть нечего, – загадочно размышлял Пуаро. – И думать не о чем. Увидеть ничто – вещь трудная даже для Пуаро, пока он не увидит в другом месте то, что должно было быть, но чего не было. – Он взял руку Доркас и поцеловал. – Моя дорогая юная леди, то, что вы принесли мне сейчас, куда важнее кофе!