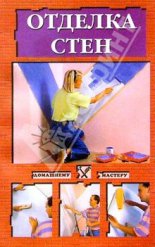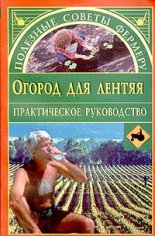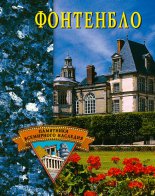Природа и власть. Всемирная история окружающей среды Радкау Йоахим

Но и точное знание того, что зло прячется в болотах, помогало не всегда. В ранние времена, до великой эпохи регулирования речных русел и строительства каналов, в ландшафте было слишком много сырых участков, чтобы каждый из них можно было осушить, не говоря о том, что осушение неизбежно порождало правовые проблемы, поскольку могло навредить соседним пашням и лугам. В Новое время выход из этой проблемы, пусть дорогостоящий и далеко не всесильный, обещал хинин.
Важно и то, что там, где однажды воцарялась малярия, она создавала своего рода самовоспроизводящуюся систему: болезнь вызывала апатию и сокращение плотности населения, так что не хватало рабочих рук для сооружения дренажных сетей. Если рабочие прибывали из других регионов, то и их, в свою очередь, выкашивала та же болотная лихорадка. Все это наделяло малярию признаками исторического субъекта. Для местных жителей, вернее, тех из них, которые выживали и приобретали относительный иммунитет против малярии, она была своего рода судьбой и вместе с тем защитой против вторженцев. В отличие от чумы, она не вызывала такого шока, который заставил бы принять серьезные противомеры.
Блестящие контрпримеры этой апатии – Венеция и Амстердам, сохранявшие относительную свободу от малярии благодаря постоянному уходу за каналами и поддержанию циркуляции морской воды. Но здесь профилактика малярии не была изолированной, она сочеталась с потребностями судоходства – наивысшим экономическим интересом. Ситуация здесь резко отличалась от той, какая складывалась в регионах заливного рисоводства, где интересы гигиены и экономики грозили войти в конфликт, даже если подобное противоречие и не было неизбежным. И Голландия, и Венеция обладали сложными гидравлическими системами, и решение «водных» вопросов было для них делом обыденным. Тогда выяснилось, что реализуемость задач экологии и гигиены зависит от того, могут ли эти задачи быть подключены к уже установившимся интересам и принятым схемам поведения. Важную роль играла и благосклонность самой природы: в Амстердаме и Венеции была распространена в основном не тяжелая тропическая малярия (malaria perniciosa), а более легкие ее варианты, да и условия Голландии не слишком подходили для возбудителей малярии. Однако когда в Батавии (Джакарте) голландцы стали прокладывать каналы по амстердамскому образцу, там вспыхнула малярия (см. примеч. 107).
Более мрачную картину являет собой Рим, окрестности которого со Средних веков, а возможно и ранее, опустошала безжалостная malaria perniciosa. Окружавшее Рим малярийное кольцо служило в какой-то мере защитой от иноземных армий, но угрожало и самому городу. Почему Рим, мощная европейская метрополия, не предпринимал энергичных мер против малярии? И сама проблема, и ее возможное решение были вполне осознаны: планы папства по осушению Понтийских болот восходят к Средним векам. В конце XVIII века папа Пий VI, чтобы не отстать от аграрных и гигиенических достижений того времени, все-таки воплотил их в жизнь. Однако мелиорация болот, вопреки всем лаврам, обернулась постыдным фиаско. Очевидно, ни крупные римские землевладельцы, чьи овечьи отары свободно паслись на зараженной равнине, ни скудное население, отчасти жившее за счет рыбных богатств тамошних водоемов, не были серьезно заинтересованы в успехе этого проекта (см. примеч. 108). А здесь требовалась коллективная энергия всех участников, ведь осушение издавна заболоченной и зараженной местности было гораздо более трудным делом, чем поддержание уже существующей лагуны! Успех его стал возможен лишь во время фашистской диктатуры: неплохое подтверждение теории Витфогеля!
До какой степени малярия маркирует вехи экологической истории, особенно очевидно сегодня. После Второй мировой войны препарат ДДТ за короткий срок принес столь убедительную победу над малярией в Италии и Греции, какой хинин не мог добиться за несколько столетий. Но именно широкое использование ДДТ заставило Рейчел Карсон написать тревожный бестселлер «Безмолвная весна» (1962), давший импульс к возникновению американского, а впоследствии и всемирного экологического движения. У истоков современного экологического сознания стоит переистолкование тысячелетних экологических проблем. Потеря страха перед малярией открыла людям новый взгляд на природу «Да здравствуют безлюдные равнины! Да здравствует депопуляция! Да здравствуют москиты!» (Vive le desert! Vive le depeuplement! Vivent les moustiques!). Под этими лозунгами защитники природы Лимузена[135] боролись за спасение пойменных долин от Electricite de France[136], когда та, чтобы повысить популярность гидростроительных проектов в регионе, обратилась не только к экономическим, но и к санитарным аргументам (см. примеч. 109). В эпоху малярии подобный лозунг был бы чистейшим цинизмом! А сегодня многих любителей природы болота восхищают еще сильнее, чем леса. Однако провокационное противопоставление интересов природы интересам человека и сейчас нужно оценивать скорее как борьбу мировоззрений. В действительности связь между тревогой за окружающую среду и беспокойством о здоровье сегодня сильнее, чем когда-либо.
7. СВЕДЕНИЕ ЛЕСОВ И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО» СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ ФАНТОМ? ЭРОЗИЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ И ЛОЖНАЯ ИСТОРИЗАЦИЯ
С XIX века берега Средиземного моря, столь привлекательные для восторженных туристов, считаются среди людей критического склада примером загубленных ландшафтов, жертвой тысячелетней культуры, которая уничтожила леса, а вместе с ними разорила почвы и нарушила водный баланс. Историк и путешественник Хорст Меншинг упоминает как общеизвестный факт, что здесь под влиянием человека «из доантичного лесного ландшафта сформировался эрозионный ландшафт, равного которому нет на всей планете». Можно говорить о настоящей «экокатастрофе» в «античном Средиземноморье». Джаред Даймонд утверждает, что общества по крайней мере восточного Средиземноморья, как и «плодородный полумесяц» Ближнего Востока, совершили «экологическое самоубийство» (см. примеч. 110). В XIX веке ученый-агроном Карл Фраас (1810–1875), имевший практический опыт рекультивации греческих закарстованных почв, вывел теорию о деградации почв и растительности, идущей с эпохи классической Античности, на уровень господствующего учения. Его охотно подхватили лесолюбивые немецкие националисты: романские страны, как значится в одном популярном изложении (1885), «иссохли, и их народы с ними», но «перед этим уничтожили все леса, последние прибежища свободных сил природы! У нас в Германии все еще довольно много зелени». Немецко-греческий писатель и публицист Иоганн Гаитанидис также считает Грецию «хрестоматийным примером того, насколько разрушительна вырубка леса» (см. примеч. 111). Подобным образом представляют историю своей страны итальянские экологические историки. Почти забыто, что от Античности до XVIII века, от Вергилия до Гёте, писатели восторгались итальянским пейзажем: вся Италия есть один цветущий сад, полный не только плодородных полей, но и плодовых деревьев. Пейзаж ее прекраснее иных, и не в последнюю очередь своим чудесным многообразием! (См. примеч. 112.) Может быть, изменился в первую очередь взгляд на итальянский ландшафт, и изменился настолько, насколько всем лесам стали задавать тон северные высокоствольные хвойные лесонасаждения? Удивительно, как тяжело прояснить подобные центральные вопросы экологической истории!
Цитата из Платоновского «Крития» встречается в литературе по истории окружающей среды настолько часто, что уже навязла в зубах. Речь идет о добрых старых временах, после которых минуло уже 9 тыс. лет. Почвы в горах Аттики были тогда гораздо плодороднее, и было там «много леса», «от которого и сегодня видны отчетливые следы». Отчего исчез лес, Платон не говорит. Имеет ли он ввиду как нечто общеизвестное, что это дело рук человеческих? Дословный текст этого не содержит. Там говорится о «многих разрушительных наводнениях за девять тысяч лет»; они унесли с собой почву – и лес тоже? – так что от Аттики остались ныне «как бы только кости изможденного тела» (см. примеч. 113).
Но постоянное обращение к пассажу Платона объясняется тем, что в известной нам античной литературе нет других столь выразительных жалоб, где были бы ссылки на связь между сведением леса и закарстованием. В отличие от Нового времени с его «лесными» жалобами, письменное наследие Античности не богато тревожными сигналами по поводу вырубок леса, хотя деревья и тогда ценились высоко. Одно из немногих указаний на масштабные вырубки лесов принадлежит Эратосфену и сохранено Страбоном[137]. Эратосфен говорит о том, что равнины Кипра прежде были покрыты густыми лесами, но затем эти леса поредели, потому что в дереве нуждались плавильные заводы и судостроение. Однако главная мысль этого текста другая: «Хотя здесь потребляли невероятные массы дерева, но никоим образом и никаким человеческим изобретением лес не мог быть сведен полностью». Еще на исходе Античности Аммиан Марцеллин писал, что Кипр может построить за счет собственных ресурсов целое торговое судно. Видимо, не многие греческие острова в то время были в состоянии это сделать, так что здесь видны признаки благополучия высокоствольных лесов (см. примеч. 114). Британский историк Рассел Мейгс (1902–1989), автор наиболее фундаментального исследования о «деревьях и лесах» античного Средиземноморья, придерживался мнения, что, каковы бы ни были площади лесов в античный период (точных сведений о них у нас нет), но в соответствии с потребностями людей того времени леса им должно было хватить до конца Античности. Он имел в виду, что сцену античной истории нужно представлять себе куда более лесистой, чем современные ландшафты (см. примеч. 115). Если это так, то вопрос о сведении лесов смещается ближе к сегодняшнему дню.
Но может быть, проблемы вообще нет? Бродель, настолько очарованный, по его собственному признанию, «величественной неподвижностью» Средиземного моря, что «долговременность» (longue duree) описанных им форм жизни граничит с безвременьем, склонен видеть за текстами источников вечно неизменный или почти неизменный ландшафт Средиземноморья, где доход с земли всегда был довольно скудным по сравнению с более тучными северными регионами (см. примеч. 116).
Гораздо более резко критикует «теорию разоренного ландшафта» английский историк леса Оливер Рекхем, проводивший исследования на Крите. Он подвергает сомнению все расхожие толкования. Средиземноморский ландшафт вовсе не везде так экологически неустойчив, как принято считать с давних пор: Крит, например, зарекомендовал себя в целом довольно крепким. Турист имеет полное право радоваться пейзажу: ландшафт, который его окружает, за исключением вмешательств самого последнего времени, вовсе не изуродован, он такой, каким был с незапамятных времен. «Леса» античных авторов – это вовсе не высокоствольные леса в североевропейском понимании. За этим словом может скрываться даже маквис, а почву маквис удерживает лучше, чем иной высокоствольный лес. И вообще, вырубка лесов не автоматически ведет за собой эрозию и опустошение: на осветленных склонах произрастает немало растений. Овцы и козы тоже не всегда вредны для леса, при желании люди вполне могут уследить за ними. В Греции, по крайней мере, была традиция присматривать за овцами и козами. И не надо забывать: когда над животными еще не надзирали люди, они паслись «по собственному усмотрению» и размножались настолько, насколько позволяли им кормовые ресурсы. «Крит подвергался “перевыпасу” в течение 2 млн лет», – этим ироничным замечанием Рекхем отвечает на теории перевыпаса в Средиземноморье. Не коза, а пришедший много позже бульдозер стал подлинным агентом эрозии (см. примеч. 117).
Почвенная археология и пыльцевой анализ преподнесли одну отчетливую и удивительную новость, по крайней мере для греческих провинций, – в типичных случаях первые заметные явления обезлесения и эрозии имели место в доисторическое время, точнее – в эпоху раннего земледелия. Затем эрозия также шла не постоянно, а продвигалась толчками, с большими перерывами между ними, причем следующий толчок случился в послеантичную эпоху (см. примеч. 118). Если следовать этим данным, то интенсификация культуры не всегда сопровождалась усилением эрозии. Как раз убыль населения, упадок террас и рост нерегулируемого выпаса периодически приводили к оползням почвы в горах.
Тем не менее очевидно, что в очень многих регионах Средиземноморья, особенно горных, исчезновение лесов и эрозия стремительно шагнули вперед в XIX и XX веках, так что искать глубочайший перелом в истории окружающей среды гораздо логичнее в этих эпохах, чем в далекой древности. Если так, то самый серьезный в истории дестабилизатор отношений между человеком и природой – это современный рост численности населения в совокупности с развитием хозяйства и технологий. Джону Р. МакНиллу удалось после скрупулезной проверки подтвердить современное происхождение вырубок в пяти далеко отстоящих друг от друга горных провинциях: Таврских горах на юге современной Турции, горах Пиндос на севере Греции, Луканских Аппенинах в Южной Италии, испанской Сьерра-Неваде и Эр-Риф на севере Марокко. Хотя он оставляет открытым вопрос, насколько репрезентативны эти регионы, но будь то в Сирии или на Кипре, в Анатолии или Тичино, в Северной Африке или на Сицилии, масштабные потери лесов доказуемы только с XIX века и очень похоже, что до этого времени здесь росли обширные леса. Бродель описывает, что он, работая с дотошностью детектива, наткнулся на доказательство того, что расхожее и разделяемое им самим представление о Сицилии не могло быть правдой. Сицилия, бывшая когда-то «закромами» Средиземноморья, вовсе не была в упадке с XVI века – ее экономико-экологическая деградация в действительности произошла несколькими столетиями позже. Греки любят перекладывать вину за потерю своих лесов на турок, однако даже греческий национальный герой Колокотронис[138] сетовал на то, что горы на Пелопоннесе, еще покрытые лесом во времена турецкого владычества, после освобождения от него за короткое время оголились. Новые исследования показывают, что с момента обретения независимости степень лесистости Греции упала с 40 до 14 % (см. примеч. 119). То, что многим путешественникам в XIX и XX веках казалось проблемой далекого прошлого, на самом деле было проблемой их настоящего!
Дорогой строевой лес в центральном Средиземноморье стал дефицитом уже в Античности, а тем более – в Средние века: об этом можно судить по указаниям на импорт леса. Основным центрам торговли, таким как Египет, Аттика и Рим, приходилось закупать лес и для нужд судостроения, но у метрополий имелись средства для таких закупок: этим объясняется ничтожное количество жалоб на нехватку дерева в Античности. Зато создается впечатление, что в Средние века дефицит строительного леса стал ощутимым гандикапом для исламских государств, тем более что христианские державы неоднократно объявляли эмбарго на поставку леса в исламский мир. Если на море Западная и Северо-Западная Европа оставили государства Ближнего Востока далеко позади, то, видимо, не последнюю роль сыграли в этом лесные ресурсы. Однако дефицит высокоствольных лесов нельзя отождествлять ни с экологическим, ни с энергетическим кризисом, ведь и для защиты почв, и в качестве источника дров вполне пригодны низкоствольный лес и заросли кустарников. В Месопотамии многое из того, что в других местах делают из дерева, делалось и вовсе из тростника (см. примеч. 120).
Давно продолжаются споры о Средиземноморской эрозии: в какой мере этот процесс был естественным, а в какой – антропогенным (см. примеч. 121). Во многих случаях однозначного ответа не находится. Но именно здесь кроется главное: вызываемые человеком изменения среды во многих местах усиливают природные процессы. Предполагается, что когда после завершения последнего оледенения климат стал меняться от холодного и влажного к современному средиземноморскому, то сначала продолжали расти леса, отвечавшие прежним условиям. Воздействие человека, видимо, ускорило приспособление к новому климату и усилило эрозию, которой и без того были подвержены склоны средиземноморских гор. Как ни малоприятно это сегодня звучит, но последствия человеческих действий наиболее тяжелы тогда, когда эти действия осуществляются «в гармонии с природой», совпадают с естественными тенденциями!
Заслуживает фиксации еще один пункт: создается впечатление, что в отличие от Западной и Центральной Европы, лес в Средиземноморье лишь в исключительных случаях становился основой власти. Аристотель упоминает лесных сторожей, но не считает нужным задерживаться на этой теме. Ранние указания на высокую значимость леса, в особенности на его роль в поддержании гидрологического режима присутствуют, как мы сегодня знаем, преимущественно там, где подобные воззрения служили обоснованием политических полномочий. Так было, например, в Венеции и в начале Нового времени в Провансе (см. примеч. 122). Может быть, средиземноморские архивы хранят многочисленные и еще неизвестные сведения, однако пока преобладает ощущение красноречивого молчания источников о больших отрезках истории средиземноморских лесов. Это молчание – признак отсутствия ответственных инстанций, которые могли бы, используя жалобы на дефицит леса, обосновать право на государственное вмешательство. Правда, для леса отсутствие подобных инстанций не всегда трагично, в условиях Центральной Европы лес растет и без лесника. Может быть, именно поэтому лесная политика в Средиземноморье была не так привлекательна, как на Севере: продемонстрировать свои достижения на горных склонах было не так легко, как в тех дождливых районах, где для процветания лесов достаточно было только получить властные полномочия и изгнать из своих лесов других лесопользователей.
8. ЛЕС И ВЛАСТЬ В ЕВРОПЕ: ОТ СВЕДЕНИЯ ЛЕСОВ ДО ЭРЫ ЛЕСНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
Правда ли, что наша культура началась в борьбе с лесом? Вальтер фон дер Фогельвейде при виде вырубленных лесов ощущает груз прожитых лет: «С кем прежде мы играли / теперь и стар, и хвор / мир стал мне незнакомым / и выкорчеван бор»[139] (die minegespilen waren / die sint traege und alt. / bereitet ist das velt, / verhouwen ist der wait). Выкорчевки лесов Высокого Средневековья считаются если не самыми значимыми, то самыми масштабными изменениями ландшафта в истории Центральной и Западной Европы от оледенения до наших дней. Правда, современные исследования несколько снизили их драматизм: пыльцевой анализ показывает, что сведение лесов Высокого Средневековья было лишь кульминацией и завершением процесса, начавшегося за тысячи лет до этого, с приходом в эти края земледелия. Однако пока преобладало подсечно-огневое земледелие, вырубки в основном вели не к уничтожению леса, а к смене преобладающей породы и широкому распространению бука. Еще в послеантичную эпоху на обширных немецких пространствах шло лесовосстановление, его кульминация относится к VII веку (см. примеч.123). Лишь с полным переходом к подлинной оседлости и многопольной системе земледелие стало постоянным. Большая часть лесов, которые рубили в то время, уже давно были осветлены и освоены под поля древними полубродячими земледельцами.
Ничего особенного здесь нет, подобным образом вели себя земледельцы во всем мире. Однако необычно то, что сведение леса в эпоху своей кульминации обрастает правовыми формами, подлежит управлению и подробной документации. В этом – колоссальный контраст со скудостью источников в большинстве регионов мира! Вырубка леса дает поселенцу свободу, точнее, определенные, по большей части временные свободы от податей. Однако эти свободы предполагают, что на сведение леса необходимо получить разрешение властей, и что лес становится территорией права. Конечно, были и «дикие» вырубки – откуда бы взялся такой лесной кадастр и такой всеохватный контроль, который смог бы их предотвратить? Как всегда, письменные источники содержат далеко не все. Но и исследования поселений указывают, что большая часть деревень, история которых восходит к процессу сведения лесов, закладывалась планомерно, по нескольким определенным моделям. Там, где вырубка лесов была способом распространения власти на дальние леса, в которых имущественные отношения еще оставались неясными, отношения между феодалами доходили «до настоящего соревнования» в корчевании лесов (см. примеч. 124).
Правда ли, что для людей того времени лес был врагом, что с ним нужно было бороться? Такое можно услышать часто. Но не надо представлять все леса той эпохи как девственные чащи. Уже тогда было немало светлых пастбищных лесов, важных и ценных для крестьян как места выпаса и откорма свиней. Уже в Капитулярии Карла Великого 795 года наказ о рубках леса дополняется оговоркой, что леса, «где они необходимы» (ubi silvae debent esse), запрещается чрезмерно рубить и повреждать.
Далее, видимо, в разъяснение, речь идет об охоте и откорме свиней. Предписание предполагает, что людям известно, где должен сохраняться лес. Действительно, деревни с приречными наделами-гуфами[140] – поселения, возникшие вслед за сведением лесов на юге Нижней Саксонии, – не выходили за пределы плодородных лёссовых почв. Права на рубки леса, которые в Высоком Средневековье французские короли передали монастырям Иль-де-Франс, содержали распоряжения об охраняемых лесах и лесополосах (см. примеч. 125).
Прежде всего лес поставлял дрова. Автор французского лесного регламента 1610 года Сен-Йон считал, что в Средиземноморье с его более теплым климатом лесам не нужно уделять такое внимание, как на Севере, где из-за суровой зимы «древесина – это как бы половина жизни» (см. примеч. 126). Действительно, на Севере древний ужас перед зимними холодами оживал сразу, как только ощущалась нехватка дерева, а радостное потрескивание огня под звуки воющей снаружи метели символизировало домашний уют и благополучие. Ежегодное наступление зимней стужи почти неизбежно порождало менталитет предусмотрительности. С жителями более южных регионов природа обходилась не так сурово. Вероятно, это сыграло не последнюю роль в том, что экологическое сознание с его склонностью к планированию и тревогой о будущем приходит в основном с севера!
Во многих регионах кампания по сведению леса закончилась примерно к 1300 году, во всяком случае до прихода Великой чумы и падения численности населения. Были к тому времени уже исчерпаны все лесные почвы, которые худо-бедно можно было распахать? Вероятно, отчасти да, но Марк Блок полагает, что сверх этого люди поняли – в интересах сохранения собственной жизни им нужно беречь оставшиеся леса. Уже в апогее лесорубной кампании и словно в ответ на нее стали появляться установления по охране леса. Затем пришла чума, и вызванный ею спад демографического давления и активности рубок на целое столетие сделал охрану леса менее актуальной. Процесс обезлюдения, опустения деревень[141], достигший кульминации в Позднем Средневековье, особенно сильно затронул поселения, основанные в ходе сведения лесов. В горных ландшафтах, таких как Золлинг или Рён, оказались заброшенными до 70 % деревень; о них еще долго напоминали одинокие запустевшие церкви. В Рейнхардсвальде, где сегодня в лесу покоятся остатки 25 деревень, ровные ряды дубов напоминают о том, что когда-то очень давно их здесь аккуратно высадили для создания лесопастбища (см. примеч. 127).
Описывая 1340-е годы, немецкий географ и эколог Ханс-Рудольф Борк отмечал на лёссовых почвах юга Нижней Саксонии «катастрофическую», «просто захватывающую дух» эрозию, какой не было со времен оледенения. Ее непосредственную причину он усматривает в экстремально дождливом сезоне 1342 года. Однако можно исходить из того, что условия для «катастрофы» были созданы вырубками леса на крутых горных склонах. После этого установился относительный покой, длившийся более 400 лет, вплоть до эпохи аграрных реформ. Вероятно, пастбищное хозяйство, которое в процессе опустошения деревень распространилось по горным склонам, было более щадящим для почв, чем плуг (см. примеч. 128).
В Позднем Средневековье произошел крупный переворот: не вырубки леса, а сам лес стал теперь основой власти, во Франции – восходящей королевской, в Германии – зарождающихся территориальных княжеств. Свои притязания на господство над лесами монархи и владетельные князья заявляли уже не через сведение леса, а через его охрану. Этим объясняется уникальное обилие документов по истории леса во Франции и Германии. С XVI века суверены и их юристы представляли свое господство над крупными лесами как нечто само собой разумеющееся, как издревле принятое право, хотя на самом деле речь шла о новой конструкции, выстроенной на весьма шатком фундаменте традиций (см. примеч. 129). Хотя право монарха на охоту, закреплявшее за ним лесные земли, существовало с Раннего Средневековья, и в этом смысле связь между лесом и властью в германо-кельтской Европе очень стара, однако первоначально это право не включало в себя контроль над лесопользованием. Лесопользование стало интересовать власть только в Позднем Средневековье. В Германии большую роль сыграло развитие горного дела. Поскольку горнякам требовались колоссальные количества леса, то право на горные разработки, впервые провозглашенное в 1158 году Фридрихом I Барбароссой[142] в Ронкальских постановлениях, включило в себя и доступ к лесам.
Примерно с 1500 года, эту дату можно назвать довольно точно, немецкие владетельные князья один за другим начали издавать лесные установления, многие из которых распространялись не только на их частные леса, но и на леса всей страны. Это привело к затяжным конфликтам с сословными представительствами на местах. С 1516 года, в эпоху Франциска I, серия лесных указов, маркировавшая начало эры энергичной королевской лесной политики, издается и во Франции. Из Священной Римской империи начиная с XVI века до нас дошло «неслыханное количество лесных установлений»: «Стало воистину хорошим тоном издавать лесные постановления как можно чаще». Нет сомнений в том, что фюрсты[143] открыли охрану лесов как важнейшее средство политической власти. Спорные притязания фюрстов на высшую власть над всеми лесами страны их юристы легитимировали при помощи старых прав на охоту и горное дело, а также права высшего суверенного надзора над крестьянскими Марковыми лесами[144]. Однако еще более активно они использовали собственные утверждения о том, что стране угрожает общий дефицит дерева. Из всех обоснований только это было понятным и принятым, господское право на охоту вызывало у крестьян ненависть. В эпоху, когда общественное мнение благодаря книгопечатанию, реформации и коммуникационным сетям гуманистов становилось властью, фюрстам имело прямой смысл оправдывать свои вмешательства в жизнь граждан общим благом (см. примеч. 130).
Впрочем, чистым фантомом угроза дефицита дерева, несомненно, не была. Рост численности населения и «огневых ремесел» – металлургии, стекольного дела, солеварения, обжига черепицы и кирпича действительно приводили к частым локальным проблемам в снабжении. Но эти проблемы не были абсолютными. В целом в Германии лесов вполне хватало, так что снабжение было в первую очередь вопросом транспорта и распределения. В то время резко пошел вверх плотовой и молевой[145] сплав, все больше рек и ручьев освобождали от естественных препятствий и оборудовали для сплава. Около 1580 года герцог Юлий Брауншвейг-Вольфенбюттельский, обустроивший для плотового сплава реку Окер, побил непокорный город Брауншвейг аргументом, что теперь он за один гульден может построить больше, чем его отец за 24. Зато масштабный плотовой сплав ухудшал самообеспечение тех мест, чей лес «сплавляли» в дальние регионы. Кроме того, нехватка дерева казалась тем страшнее, что самыми первыми вырубались легко доступные леса, а именно их видели горожане. Поэтому угроза дефицита леса становилась все более удобным политическим инструментом, и не только в Германии, но и на большой части Европы. Размахивая этим пугалом, можно было надежнее укрепить территориальное господство и обосновать штрафы за нарушения лесного законодательства. Кроме того, трудности в снабжении лесом служили правительствам рычагом для того, чтобы делать деньги из прав на горные разработки и держать на короткой узде горняков. Фюрсты ссылались на дефицит дерева. Но, налагая ограничения на лесопользователей, они, руководствуясь собственным фискальным интересом, вносили немалую лепту в то, чтобы сделать лес дефицитом. Во Франции Жан-Батист Кольбер, могущественный министр Людовика IV, предупреждал: «Франция погибнет от нехватки леса». Его лесоохранная политика была направлена в первую очередь на снабжение лесом флота (см. примеч. 131).
Как влияла вся эта политика начала Нового времени на сами леса? Ответить на этот вопрос нелегко, споры продолжаются по сей день. Так, во Франции противостоят друг другу два объемистых труда: Мориса Девеза и Андре Корволь. Девез видит во французских королях, даже если их действия не всегда приводили к успеху, спасителей от дефицита дерева, наступившего уже в XVI веке. Для Корволь «табуизирование» высокоствольных лесов является в высшей степени символической демонстрацией силы со стороны королевской власти, а утрата лесов служит лишь «легендой» (см. примеч. 132).
В Англии, как полагает Рекхем, вопреки всем жалобам о печальной судьбе лесов Нового времени, королевские леса принадлежали к «самым устойчивым и самым успешным из всех средневековых институций». И это при том, что в Англии королевская власть над лесами вызывала особую ненависть. Она восходила к эпохе Вильгельма Завоевателя, то есть к тому времени, когда еще невозможно было использовать дефицит леса как политический инструмент, и основной ее чертой была узурпаторская жестокость. Эта власть была печально известна такими жуткими наказаниями, как ослепление и кастрация и казалась откровенным выражением охотничьей страсти короля-тирана, еще не прикрытой заботой об общем благе. Недаром английским национальным героем стал Робин Гуд – мятежник, боровшийся против лесных привилегий норманнских королей. Однако и он, даже именно он, нуждался в охране лесов. Ограничения королевской власти с подписанием Великой хартии вольностей (1215) отразились и на королевских лесах, выведя вперед другие интересы. Было ли это для лесов безусловно пагубным? Рекхем справедливо подчеркивает, что суждения о том, что происходило в древности с английскими лесами, будут много оптимистичнее, если включить в рассмотрение низкоствольные леса (coppices). Такие леса были необходимы крестьянам и представителям «огневых ремесел». Тем не менее в Англии лес никогда не пользовался такой любовью, как в Германии, и это отразилось на облике ландшафта (см. примеч. 133) – в современной Англии туристу бросаются в глаза безлесные склоны. Чувство, что на горах по самой их природе должен расти лес, британской традиции не свойственно. В то время как в Англии, а также во Франции высокоствольный лес является символом монархии и аристократии, в Германии, причем именно в эпоху Французской революции, он стал символом общего достояния, нуждающегося в защите от частной корысти.
Историю лесных установлений можно писать как историю их нарушений, при издании новых установлений часто ссылались на то, что предыдущие уже не функционируют. Служащие лесных ведомств часто не были заинтересованы в соблюдении запретов, ведь они жили за счет штрафов. Город Бёблинген, выступая против вюртембергского лесного установления 1532 года, заявил, что не нуждается в государственном форстмейстере для «ухода» за городским лесом: «нас и наших потомков это дело касается несколько больше, чем других» (unns unnd unsern nachkommen ist die sack etwas mer angelegen, dan andern). Пусть де кто-нибудь сравнит их лес с государственными лесами – и тогда будет ясно, какой из них более нуждается в «уходе» (см. примеч. 134). Когда Франциск I задал вопрос монахам-картезианцам, как могло получиться, что их леса прекрасно сохраняются, а королевские – сильно нарушены, он получил ответ: все дело в том, что у монахов нет государственных лесных смотрителей. Кроме того, в XVI веке еще не было точных лесных карт и полноценных лесотаксационных описаний, так что служащие лесных ведомств толком не знали тех лесов, которые им полагалось охранять. В то же время в условиях Западной и Центральной Европы было достаточно всего лишь ограничить пользование – и лес мог полноценно восстанавливаться. Интересы охоты, которые в значительной степени определяли лесную политику фюрстов (если только «охотничий дьявол» не уступал «горному дьяволу» – охоте за благородными металлами), должны были приводить к ограничению лесопользования, чтобы не пугать диких животных. В XVIII веке в лесных установлениях учащаются указания по посадке искусственных лесов.
Восстановление европейских лесов шло не только благодаря лесным установлениям, но и наоборот, за счет их нарушений и конфликтов вокруг леса. Если крестьяне не спешили очищать лес от «мертвой древесины», а на указание фёрстера[146] возражали, что валежник удобряет лесную почву, то с экологической точки зрения они были правы. Если они придерживались плентерного хозяйства (Plenterwirtschaft), то есть выборочных рубок, и по мере надобности рубили отдельные деревья вместо того, чтобы вырубать единым махом целые леса, то это «беспорядочное» лесопользование, презираемое лесоводами как «мародерство», на самом деле способствовало естественному омоложению леса. Браконьеры снижали численность охраняемых егерями диких копытных, создавая условия для роста лиственных деревьев и смешанных лесов. В сравнении с другими лесными регионами мира четко видно, как в Центральной Европе, несмотря на все хищничества, развивалось практически действенное лесное сознание. Не последнюю роль в его становлении играли споры и разногласия, решавшиеся правовыми и лесохозяйственными методами. Молчаливое, небрежное уничтожение лесов на протяжении столетий в таких условиях представить себе нелегко.
Главную роль при этом играло то, что лесное сознание, формировавшееся сверху, соединялось с другим, шедшим снизу – из городов и крестьянских лесных товариществ. Споры и конфликты вокруг леса могут быть в определенных условиях губительны для него, а именно если все стороны, чтобы продемонстрировать свои обычные права, состязаются между собой в рубках и разграблении. Но если конфликты получают правовое оформление, а их разрешение институционализировано, что как раз и наблюдалось в Центральной Европе, то они обостряют лесное сознание и приводят к соревнованию уже за то, кто будет лучшим защитником леса. Крестьяне нередко и с полным правом отвечали на упреки фюрстов в чрезмерных рубках и разбазаривании дерева встречными обвинениями. Крестьяне были далеко не такими «древоточцами» и «лесными кровососами», какими их представляли княжеские лесные смотрители. В «Двенадцати статьях» Крестьянской войны 1525 года, причины которой не в последнюю очередь следует искать в лесных конфликтах, восставшие крестьяне заверяют, что требуемый ими возврат лесов общинам не приведет к уничтожению этих лесов, поскольку выбранные общиной «депутаты» будут надзирать за рубками (статья 5). Еще в XVIII веке члены марок в Золлинге справедливо возражали своему суверену, который в оправдание собственного вмешательства упрекал их в уничтожении леса, что у них есть собственный дровяной устав и что их лес находится в хорошем состоянии (см. примеч. 135).
В основном с Позднего Средневековья, с обострением междоусобиц вокруг уже сократившихся лесных площадей, во многих регионах появились лесные товарищества (Waldgenossenschaften). Их основной стандарт соответствовал натуральному хозяйству и принципу «лес должен оставаться лесом». Запрещалось корчевать лес и продавать древесину чужим людям. Потребности устанавливались в соответствии с деревенской иерархией. С XV века новые поселенцы часто уже не получали постоянный пай в лесной марке, даже если использовали его de facto. Такой социальный надзор над лесом осуществлялся обычно в согласии с владетельными князьями, ранние варианты их лесных установлений вобрали в себя правовые нормы Марковых товариществ. Какие бы ни шли споры, но между властью и крестьянами существовала общность интересов, и вплоть до жесткого разделения сельского и лесного хозяйства в XIX веке нельзя было и помыслить о том, чтобы полностью вытеснить из леса крестьян. Хотя Крестьянская война в Германии и закончилась кровавой победой фюрстов, но шок от страшного восстания надолго вошел в их кровь и плоть, и с тех пор они стали осторожнее в произвольном присвоении прав на лес. Тирольские марковые товарищества в 1847 году, после более чем 500-летней тяжбы против графа Тирольского, а затем одного из Габсбургов, добились победы и права собственности над своими лесами! Во французских королевских судах шансы крестьян, как правило, были слабее. Но даже там, как полагает Ален Рокле, изучавший историю лесов Нормандии, можно «без преувеличения» сказать, что «старый порядок (Anden regime) был эрой крестьянского леса». Правда, мнения здесь расходятся (см. примеч. 136).
Как влияло на лес крестьянское хозяйство? Крестьянам нужен был пастбищный лес для выпаса скота, низкоствольный лес для заготовок дров и строевой лес, в котором можно было рубить высокие деревья для строительных нужд. С точки зрения «биоразнообразия» крестьянские леса достойны внимания, ведь они были намного богаче видами, чем чистые высокоствольные насаждения, столь высоко ценимые лесным хозяйством. По общей площади преобладали, видимо, пастбищные леса. Оценка воздействия выпаса на лес и окружающую среду – давняя, известная и мучительная проблема, вызывающая дебаты во всем мире и обремененная грузом противоположных интересов. Однако тот светлый лес с богатым подлеском, который крестьяне предпочитали для выпаса скота и заготовки веточного корма, вряд ли можно считать экологически нарушенным. С точки зрения экологии есть основания для переоценки роли крестьян в истории леса.
9. ГДЕ НАЧИНАЛОСЬ ОСОЗНАНИЕ КРИЗИСА – ГОРОДА И РУДНИКИ
Водоснабжение и перебои в снабжении лесом доставляли больше всего хлопот городам и горнопромышленным регионам. Там же впервые заявили о себе те проблемы вредных выбросов и избавления от отходов, которые вышли на первый план в индустриальную эпоху. Здесь же относительно рано и энергично люди начали вырабатывать стратегии борьбы с жизненно опасными проблемами окружающей среды. Прежде всего это происходило там, где город и горное дело были связаны воедино и при этом могли действовать в значительной степени автономно.
В доиндустриальную эпоху на промышленные выбросы особенного внимания не обращали. Дым помогал избавляться от паразитов, так что вполне вероятно, что его считали скорее благом, чем злом. Но нельзя было не заметить вредоносность выбросов, содержащих мышьяк, даже если в альпийских металлургических регионах полагали, что ничтожные дозы мышьяка повышают мужскую силу. Столь же очевиден был вред от ртути. Уже Парацельс в словенском городе Идрия наблюдал, как работавшие там рудокопы под воздействием паров ртути превращались в трясущихся больных. Еще один известный горный яд – свинец. Когда в 1765 году жители Кёльна потребовали остановить соседнее свинцово-плавильное предприятие, «чтобы их не выгоняли из домов и не травили в домах», то им, по-видимому, удалось добиться удовлетворения своих требований (см. примеч. 137). И позже, в эпоху индустриализации, жалобы на загрязнение среды приводили к успеху в первую очередь тогда, когда относились к «классическим» высокотоксичным веществам.
В случае каменного угля тревогу вызывало то, что при его сжигании, в отличие от дерева, в дыме содержалась сера. Замечено это было очень рано, а возмущение общества впервые вызвало в Лондоне. Джон Ивлин[147] в своих многократно переиздававшихся дневниках-предостережениях «Фумифугиум» (1661) гневно обрушивался на «этот адский смог» (that infernal Smoake), источник всех болезней Лондона – города, в котором все беспрерывно кашляет, сопит и отплевывается, и чей страшный чад напоминает Ивлину Этну и преддверие ада. Основную вину он возлагал на фабрики и на каменный уголь. Он ратовал за возвращение к древесному топливу, а его сочинение «Сильва или рассуждение о лесных деревьях» стало самым известным в английской истории призывом к посадке лесов (см. примеч. 138). Но Лондон был в то время уникумом, а никак не типичным примером, и именно в этой роли он вызывал ярость Ивлина. Ивлин ставил в пример лондонцам даже Париж!
Среди всех городских экологических проблем, как до индустриализации, так и в первый ее период, главной проблемой обычно было водоснабжение. В этом смысле Венецию нельзя считать исключением. Во многих городах была своя «малая Венеция» – система ручьев и мелких каналов, которые приводили в движение мельницы, снабжали водой прачечные и наполняли городской ров. Например, в Болонье создание такой системы было стимулировано расцветом шелковой промышленности, весь город пронизала сеть мельничных каналов, запускавших в ход прежде всего шелкопрядильни, так что при нехватке воды возникал конфликт между шелковыми и мукомольными мельницами. Для стабильного водоснабжения мельниц обычно требовались водоемы – запруды, но с ними появлялся страх перед малярией. Разбросанные по городу водные резервуары были необходимы и для тушения пожаров – главной опасности для всех городов! Поэтому во многих городах при строительстве водных сооружений нужно было постоянно балансировать между взаимоисключающими интересами. Конечно, это не всегда делалось с необходимой предусмотрительностью. Дефицит источников для доиндустриальной эпохи говорит о том, что о серьезном системном планировании не может быть и речи. И каналы для подведения воды, и каналы для сточных вод прокладывались шаг за шагом, часто без управления со стороны городского совета (см. примеч. 139).
Питьевую воду горожане долгое время получали, как правило, из частных или соседских колодцев. Однако на исходе Средних веков отчетливо возрастает роль общественных источников, как и вообще гидростроительная активность коммун. Городские колодцы, часто оформленные как произведения архитектурного искусства, становятся конкретным воплощением общего блага, охраняемого городскими властями. В XIV веке в немецких городах начинается «эпоха водяных искусств»: централизованного снабжения с водокачками, водонапорными башнями и водопроводами (см. примеч. 140).
Сегодня легко забывается, что когда-то не только Венеция, но и многие другие города нередко страдали от наводнений. Города нуждались в реках как в транспортных путях, и потому большинство древних городов располагались на берегах если не морей, то рек. Но во время таяния снега или длительных дождей река становилась опасной. Отдельные проблемы уже тогда выходили за пределы коммунального уровня принятия решений. Такие загрязнители вод, как ремесленные предприятия, особенно кожевенные и красильные, должны были располагаться ниже города по течению реки, но в период экономического роста экстернализация сточных вод рано или поздно входила в коллизию с интересами других водопользователей.
В гигиеническом отношении древние города с их плотной застройкой могут восприниматься лишь как затяжной кризис. Для избавления от фекалий не было чистоплотных решений. После санаций (реконструкции и модернизации), проведенных в Новое время, на грязь и зловоние древних городов постоянно ссылаются как на убедительное доказательство бескультурья и притупленности чувств людей того времени. Однако в последнее время картина средневекового менталитета подверглась в этом отношении изменениям. Тогдашние носы по своей чувствительности не сильно отличались от современных, зловоние – ни в коем случае не конструкт эпохи модерна. Более того, «дурной воздух» в древней этиологии играл несравнимо большую роль, чем в современной медицине. Безусловно, в Средние века людям хотелось иметь отхожее место с проточной водой для смыва, избавлявшее от дурных запахов. Тот, кто мог себе это позволить и располагал надлежащим водным источником, уже тогда устраивал себе «ватерклозет». Об этом свидетельствует крупное несчастье, случившееся в 1184 году во дворце Эрфуртского епископа: когда под весом толпы, собравшейся по поводу королевского визита, рухнуло одно из междуэтажных перекрытий, люди провалились в сточные воды под зданием, и некоторые из них захлебнулись в протекавшей под дворцом реке! (См. примеч. 141.)
Было общим местом, что воздух города дарил свободу[148], но не был ни благоуханным, ни здоровым. Владельцы сельских поместий при наступлении эпидемий бежали из городов. Смертность в городах нередко превышала рождаемость, и часто города выживали лишь благодаря постоянному притоку людей из деревень. Иоганн-Петер Зюсмильх – ученый, в XVIII веке заложивший основы немецкой демографии, называл города «подлинным бедствием для государства», и не только за исходящую из них аморальность, но и за их вред для здоровья. Хуже всего дело обстояло в самых крупных городах: доктор Гуфеланд[149] в 1796 году проклинал их, называя «открытыми могилами человечества» (см. примеч. 142).
Остается открытым вопрос, почему горожане уже в древности не принимали энергичных мер по санации своих городов, тем более что их жизнь подлежала самым разнообразным правилам. Очевидно, основная проблема состояла в том, что большая чистоплотность потребовала бы большего расхода воды, а пока люди носили воду в кувшинах из колодцев, было совершенно естественным ее экономить. Если бы все горожане, подобно епископу, ставили свои уборные над городским ручьем, он вскоре превратился бы в сточную канаву. Но возможно, была и другая причина: скапливавшиеся в домах экскременты были потенциальным удобрением – ценностью, которую многие домовладельцы не желали вывозить вон без уважительной причины. Пока человек владел землей и сохранял хотя бы долю крестьянского менталитета, он предпочитал иметь собственную навозную кучу или углублять уборную. Но тогда можно было дойти до грунтовых вод и заразить колодцы. Правда, об этих коварных подземных потоках люди могли в то время разве что догадываться. Вывод немецкого историка Ульфа Дирлмайера (1938–2011) содержит как минимум частичную правду: «Не леность и равнодушие вредят пригородным грунтовым водам и поверхностным водоемам, а сознательные и эффективные методы устранения отходов, безопасные для ближайшего окружения домов…» Сначала преобладала тенденция держать проблему избавления от отходов в пределах дома и ближайших соседей, полностью она стала функцией коммун лишь в Новое время. В средневековом Базеле, где рвы для сточных вод называли Dolen, соседи объединялись в Dolen-сообщества. В Штутгарте, где Dolen достигали глубины в человеческий рост, они, напротив, обслуживались за счет города (см. примеч. 143). Канализационные проекты индустриальной эпохи стали прямым продолжением прежней доиндустриальной традиции.
Какую роль играли города в истории леса? Снабжение древесиной сильно зависело от того, стоял ли город на реке, по которой шел массовый плотовой или молевой сплав. Транспорт леса по воде легко попадал под городскую юрисдикцию. Но тогда возникала конкуренция с другими городами, расположенными на той же реке. На воде лес становился товаром, более или менее подчиненным свободному рынку. Поэтому городу предпочтительнее было использовать пригородные леса, на которые распространялись старые права и не имелось серьезных конкурентов. Но перевозка леса по суше была очень трудна и имела смысл только на коротких расстояниях. Многие города средневековой Священной Римской империи, включая Верхнюю Италию, владели собственными лесами или приобретали их. Правда, эти леса не только поставляли дрова, но и не в меньшей степени служили пастбищами. Ценный строевой лес выдерживал и более дальние перевозки. Этим объясняется, что леса в окрестностях старых городов часто производили жалкое по современным меркам впечатление.
Историки лесов и лесного хозяйства обычно пренебрегают лесным хозяйством городов (см. примеч. 144). Но такая оценка пристрастна и делается с точки зрения земельных лесных администраций, измерявших ценность лесов по их коммерческой стоимости и производству строевой древесины. Городские леса использовались преимущественно по принципу натурального хозяйства, то есть потребности горожан имели приоритет перед экспортом. Это относится даже к такому городу, как Нюрнберг, одному из ведущих торговых и промышленных центров старой Империи, который – крайне необычно для торгового города! – не владел судоходной и сплавной рекой и в снабжении лесом полностью зависел от двух близлежащих имперских лесов, на пользование которыми и на контроль над которыми добился обширных прав. Даже такой город не осуществлял в своих лесах, как ожидалось бы сегодня, целенаправленную политику поддержки промышленности, а уже с XIV века, наоборот, выдавливал из них пользователей промышленного масштаба. После 1460 года Нюрнберг – настоящий оплот металлообработки, располагал свои зейгеровальные предприятия[150], на которых получали серебро и медь, в Тюрингенском лесу, чтобы сохранить имперские леса вокруг города. Более того, в 1544 году город запретил заготовки дерева в имперских лесах латунным, проволочным, плавильным заводам и другим промышленникам, «кто использовал много огня», и вплоть до XVIII века постоянно возобновлял этот запрет.
Королевские запреты на сведение лесов начала XIV века издавались под давлением городов и служили средством «вернуть доверие крупных городов как партнеров Короны против набирающих силу владетельных князей». Французские регенты в своей лесной политике также проявляли иногда такое уважение к интересам городов, что формировали с ними единый союз против промышленности. В 1339 году Дофин распорядился разрушить кузнечные и плавильные печи в одной из долин Дофине, чтобы обеспечить лесом Гренобль. В целом количество письменных свидетельств о защите городских лесов, так же как и о защите вод, заметно возрастает в Позднем Средневековье. Это объясняется не только давлением самих проблем, но и тем, что в это время повсюду возрастает стремление городских властей к регламентации (см. примеч. 145).
Отношения города с его окрестностями, безусловно, содержали элементы кризиса. Но надо помнить о том, что, в отличие от великих азиатских метрополий, доиндустриальные европейские города всей своей структурой были настроены не на гигантский рост, а на самоограничение. Этому соответствовали не только городская стена, но и основной принцип старого города – сообщества личностей, стремившегося к расширению лишь в определенных условиях и на определенное время, ведь оно старалось избегать конкуренции. В таких условиях ограниченность ресурсов была элементом не кризиса, а стабилизации уже существующих структур. Поэтому города, вопреки всему, обладали экологической устойчивостью. По-настоящему крупные города развивались как города-резиденции: их рост обусловлен прежде всего политикой, а не экономикой. «Протоиндустриальный» экономический рост осуществлялся скорее в сельской местности, чем в городах, и соответствовал децентрализации природных ресурсов. В доиндустриальной Западной и Центральной Европе город, как правило, далеко не так деспотически господствовал над сельской местностью, как в высоких культурах Азии. Проблемы снабжения лесом в целом производили выравнивающий эффект: они тяжелым бременем ложились на крупные города, но благоприятствовали лесистым периферийным регионам. Рост энергоемкой промышленности регулярно порождал волны ужаса в связи с нехваткой леса. Большинство городских властей «деревянного века» сочли бы абсурдом искать счастье своих городов на пути безудержного роста «огневых ремесел»!
В Центральной Европе было особенно много городов горняков и городов солеваров. Но их рост в большинстве случаев держался в узких границах. Вместе с тем градообразующая сила соляного, горного и металлургического дела помогала включению этих отраслей в социальные структуры. Даже тирольский Швац, который ок. 1500 года был «матерью всего горного дела» и горнорудным центром «взрывоподобной» экспансионной динамики, сохранял свои средние размеры, а позже и вовсе сократился (см. примеч. 146). Судьба всех таких городов зависела от массового снабжения дровами, поэтому в обеспечении лесом они были настоящими специалистами. Город солеваров Швебиш-Халль получал лес для солевых сковород молевым сплавом по реке Кохер из соседнего графства Лимбург. Прибытие леса было главным событием в жизни города, и в выгрузке на берег активно участвовало все население. Когда в 1738 году городской совет, ссылаясь на угрозу дефицита леса, выступил за строительство дорогостоящей градирни[151], глава солеваров отверг этот аргумент примечательными словами: «жалобы по поводу нехватки леса», «древни как мир», от этой «шарманки, играющей больше двухсот лет», у некоторых уже «уши болят». «Леса в Лимбурге как стояли, так и стоят, и Дровяной Бог еще жив…» Нужно только договориться с жителями Лимбурга, чтобы «леса снова было в избытке» (см. примеч. 147).
Для других центров солеварения, не имевших в достатке собственных лесов, например Люнебурга, снабжение лесом тоже было вопросом городской внешней политики. Люнебург мог пережить то, что его окрестности потеряли свои леса на нужды солеваров и превратились в пустошь, ведь по водным путям он в избытке получал лес с северо-востока. Кроме того, местные соляные растворы были очень насыщенными, так что затраты на дрова были здесь ниже, чем в других местах. Другие соляные города, владевшие собственными лесами и целиком зависевшие от них, относительно рано стали их беречь. Баварскому соляному городу Райхенхаллю, вероятно, принадлежит исторический приоритет! В 1661 году канцлер Райхенхалльского совета в обращении к старосте солеваров дал наказ, который содержал формулировку устойчивого лесного хозяйства, ставшую впоследствии классической: «Господь сотворил леса для соляного источника, чтобы они могли быть столь же вечными, как и он / и человеку следует придерживаться того же: пока старый (лес) весь не выйдет, молодой должен вновь подрасти для рубки». Вправду ли Райхенхалль в то время практиковал устойчивое лесное хозяйство, по сей день остается спорным, но есть признаки того, что «дефицит леса» там случался исключительно в результате конфликтов с соседним Зальц-бургом. Альпийские соляные города отстаивали принцип: «лес должен оставаться лесом», а альтернативой в этом случае было альмовое хозяйство горных крестьян. Кроме того, солевары выступали против бука, который нельзя было транспортировать молевым сплавом, и поддерживали хвойные леса. О том, что такой лес был более экологически устойчив, чем альмы горных крестьян, можно спорить!
В общем и целом планомерно «устойчивый» экономический подход лучше просматривается в соляных городах. В соответствии с долговечностью соляного источника и устойчивым спросом на соль, они были настроены на равномерную, непрерывную деятельность в течение многих поколений. В горняцких городах, многие из которых были подвержены частым и резким подъемам и спадам, устойчивый подход менее заметен (см. примеч. 148).
Неизбежно ли добыча металлов в «деревянный век» приводила к уничтожению леса и тем самым закладывала мину под саму себя? Этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные споры. Особенно остро проблема дров стояла в производстве железа, поскольку температура его плавления (1528 °C) много выше, чем у большинства металлов, а тенденция к массовому производству была очень сильна. Тревога по поводу того, что железоделательные заводы эксплуатируют леса сверх меры, распространилась повсеместно как минимум в XVIII веке. Во Франции многие общины вели в то время борьбу против железных заводов, считая их ненасытными «дровожорами». Это было связано с общим, распространившимся по всей Европе страхом перед нехваткой леса. В предреволюционной Франции, да и не только там, страхи доходили до настоящей лихорадки. «Нехватка леса! Подорожание леса! Это общая жалоба почти для всех больших и малых государств Германии», – заверял в 1798 году немецкий лесовод Кристиан Петер Лауроп. В раннеиндустриальной Англии инженеру Джону Уилкинсону, первым применившему кокс для плавления железа, пели хвалебную песнь: «Казалось, что леса в старой Англии не будет, и железа не хватало, потому что каменный уголь дорого стоил, но пудлингование и штамповка победили эту беду / Так что пусть теперь шведы и русские убираются к дьяволу». Шведы и русские – поставщики леса. Угроза дровяной катастрофы входит в легенду о становлении эпохи угля (см. примеч. 149).
Такая картина истории долгое время бытовала, не перепроверяясь. Затем Оливер Рекхем подверг ее осмеянию и издевкам: по его мнению, историки, предполагавшие, что владельцы металлургических заводов вместе с лесами подрывали собственный жизненный фундамент, позабыли, что хозяева предприятий не были самоубийцами и «что деревья вырастают вновь». Лес сохраняют именно тогда, когда в нем есть нужда. Кроме того, черной металлургии не требовался высокоствольный лес: для изготовления древесного угля лучше всего подходил быстро растущий и легко восстанавливающийся низкоствольный лес с оборотом рубок в 10–20 лет. Действительно, если учитывать низкоствольные леса, то Англия и в XVIII веке не была такой безлесной, как можно часто услышать. Лишь постепенно каменный уголь получил преимущество в цене перед древесным. Самый знаменитый пример тщательно продуманного и экологически устойчивого низкоствольного хозяйства, в котором комбинировалось снабжение древесным углем региональных металлургических заводов, земледелие и поставки дубового корья кожевникам, являют собой хауберги Зигерланда[152], получившие правовую основу через нассауское дровяное установление 1562 года (см. примеч. 150).
Насколько успешно функционировало снабжение лесом, существенно зависело от того, были ли окрестные крестьяне финансово заинтересованы в транспорте леса и в какой степени они зависели от этого заработка. В горных регионах, трудных для земледелия, проживало немало людей, не имевших других источников дохода. Но именно там угроза необратимых нарушений лесных ландшафтов была самой сильной, поскольку лесные администрации, находившиеся на службе у горных предприятий, часто предписывали проведение сплошных рубок, чтобы как можно быстрее и проще собрать необходимую массу леса. Затем этот лес по деревянным лесоспускам и ручьям, оборудованным для молевого сплава, спускали в долину. Проплешины, возникшие после сплошных рубок, на крутых альпийских склонах нередко не зарастали столетиями (см. примеч. 151). Плентерное хозяйство, то есть селективная рубка, даже облагалось штрафами!
Как обстояло дело с устойчивостью самого горного дела, и как это видели современники? От Античности до раннего Нового времени и даже позже было распространено мнение, что металлы, подобно растениям, растут (что вполне согласуется с представлением о глубинах земли как материнском чреве) и восстанавливаются, если горняки дают земле покой. Не знали четких границ между органическим и неорганическим миром и алхимики. Агрикола к ним не принадлежал и трезво зафиксировал то, что было более чем хорошо известно из истории горного дела: «Рудные жилы, в конце концов, внезапно прекращают давать металлы, в то время как поля имеют обыкновение приносить урожаи всегда» (см. примеч. 152). Возможно, люди уже тогда понимали, что переход от земледелия к добыче металлов означал переход к невозобновимым ресурсам. Устойчивость в данном случае могла состоять только в том, чтобы продлить срок добычи, разрабатывая низкосодержащие руды, вместо того чтобы выбросить их в отвалы и немедленно взяться за высокоценные жилы. К такой устойчивости стремился и Агрикола.
Ощущение, что горное дело – шаг через опасный порог, очевидно, очень старо и распространено по всему миру. Плиний Старший писал об испанских горняках, разрушавших горы и поворачивавших реки: «Как победители взирают они на крах природы». Особенный гнев вызывает у него жажда золота и сопутствующее ей зло, а также железо, которое, превращаясь в оружие, приносит людям смерть. «Сколь невинна, сколь счастлива, более того, сколь великолепна была бы жизнь, если бы мы желали лишь того, что находится на поверхности земли». Этот вердикт остается основным мотивом анафемы горному делу вместе с обвинением в том, что оно наносит раны природе. Землетрясения, по Плинию, – «выражение негодования священной родительницы нашими деяниями» (см. примеч. 153).
Около 1490 года из-под пера Паулуса Ниависа[153] в продолжение античной традиции выходит Мать Земля. В зеленом одеянии, обливаясь слезами и кровью, она жалуется Отцу Богов на оскверняющее ее горное дело. К ее плачу присоединяются Наяды: горняки в бесстыдстве своем разрушают и раскапывают источники. Фортуна, которой принадлежит последнее слово, не оспаривает вред, наносимый природе, но говорит, что человек теперь не может иначе, он перекапывает горы, но расплачивается за это своим благополучием (см. примеч. 154). Агрикола начинает трактат о горном деле и металлургии (1556), 200 лет остававшийся хрестоматией в этой области знаний, с подробной речи в защиту горного дела от его противников, которых он представляет не менее умело и речисто, как будто бы тогда шла крупная дискуссия «за» и «против». В своих разъяснениях он придерживается в основном античной традиции и предпочитает обходить стороной актуальные лесные проблемы.
Два вида горных работ, последствия от которых были наиболее тяжкими, то есть добыча железной руды и каменного угля, в доиндустриальную эпоху были побочными занятиями крестьян и осуществлялись в основном не подземным способом, а в открытых ямах, глубиной ненамного больше человеческого роста. Может быть, поэтому такой глубокий перелом в истории окружающей среды сначала не воспринимался как таковой. А может быть, ментальным переломом стала уже добыча золота с ее безудержной алчностью, и античные авторы были правы?
Плиний сообщает, что Римский сенат запретил поиск золота в Италии. Золотая лихорадка бушевала в завоеванных регионах, прежде всего в Испании. Горняцкие регионы начала Нового времени переживали также приступы «горной лихорадки», сильнее всего – в некоторых колониях. Но главной движущей силой динамика безграничных потребностей стала лишь в эпоху модерна. В «деревянный век» горное дело в целом не развернуло такой динамики роста, чтобы оторваться от социального окружения – разве что в колониальном Потоси в Боливии, но никак не в европейском Госларе[154]. Жизнь человека еще так не зависела от металлов, даже плуги долгое время делались из дерева. Железо долгое время больше ассоциировалось со смертью, чем с жизнью: отсюда и «ненависть к железу», распространенная, если верить Мирче Элиаде[155], вплоть до Индии, древней страны железа (см. примеч. 155). В Центральной Европе XVIII века, и в это время даже сильнее, чем ранее, было нормой выдерживать металлургические предприятия «в пропорции к лесам», хотя, конечно, можно спорить о том, что это означало в каждом конкретном случае.
Подводя итоги: именно потому, что в Центральной и Западной Европе снабжение лесом горных и металлургических предприятий в течение сотен лет неплохо регулировалось, а экологические проблемы в какой-то мере преодолевались, этот сектор экономики смог развернуть такую динамику, которая, в конце концов, в синергии с другими линиями развития победила все и вся. Здесь кроется коварство частичного преодоления экологических проблем. Частичный успех легко прикрывает незаметно подкрадывающиеся кризисы и таким образом отключает традиционные силы торможения, которые до того худо-бедно, но поддерживали баланс в отношениях между человеком и природой.
IV. Колониализм как водораздел экологической истории
Существуют разные виды колониализма с различными последствиями для окружающего мира: с одной стороны, торговый, закрепляющийся только в портовых городах на морских побережьях; с другой – переселенческий, проникающий в страну более глубоко. Главная проблема торгового колониализма состоит в том, что он подчиняет колонизированные земли чуждому управлению и нарушает элементы саморегулирования натурального хозяйства. Переселенческий колониализм не всегда приносит с собой эту угрозу. Поселенцы нередко (и с успехом) стремятся к независимости от метрополии. Зато они часто гораздо более жестоко притесняют коренное население, подавляют его образ жизни и методы ведения хозяйства, чем колонизаторы, заинтересованные только в торговле и снятии прибавочной стоимости. С проникновением чужеземных поселенцев обрывается традиция передачи от поколения к поколению локального опыта. В самом благоприятном случае, если необходимость исторического эмпирического знания ясно осознается, сбор сведений об окружающей среде организуется заново, исследовательским путем. Для экологической истории значимы не только умышленные действия колониализма и империализма. Не меньшую роль играют и их непредвиденные, нечаянные последствия – «биологические инвазии», распространение многих видов далеко за пределы исходных местообитаний. Триумфальное шествие человеческих империй было также триумфальным шествием крыс, насекомых и микробов.
Римскую империю, прообраз всех западных империй, с XIX века подозревают в том, что она ускорила собственную гибель, разрушив окружающую среду. В 1864 году Джордж Перкинс Марш, посол Соединенных Штатов во Флоренции, опубликовал книгу «Человек и природа»[156], навеянную впечатлениями от уничтожения лесов как в Италии, так и в Америке. Для него было очевидным, что «жестокий и не скрываемый деспотизм» античного Рима есть causa causarum[157] деградации средиземноморского ландшафта. В наше время исследователь процессов опустынивания Хорст Г. Меншинг пишет как о доказанном факте, что Рим, продвигая хлебные культуры в семиаридные регионы Северной Африки, форсировал эрозию и опустынивание. Подтверждением служат для него римские руины в сегодняшней пустыне, а также заключения по аналогии из современного опыта (см. примеч. 1).
«Латифундии погубили Италию» (Latifundia perdidere Italiam) гласило известное обвинение Плиния Старшего. Плиний имел в виду, что земледельческое сословие Древнего Рима вследствие вечных войн было вытеснено крупными землевладельцами. Не факт, что этот процесс безусловно означал экологический коллапс. Но можно предположить, что все усилия ученых-аграриев напрасны, если почву обрабатывают рабы и арендаторы, совершенно не заинтересованные в том, чтобы сохранить богатства почвы для будущих поколений. Кроме того, вместе с латифундиями распространялось отгонное животноводство, а пастухи вряд ли считались с нуждами земледельцев, так что поля оставались без удобрений. Примерно с 200 года н. э. вечной проблемой Римской империи стали заброшенные поля (agri deserti). Возможно, основным мотивом бегства с земли был уход от растущих налогов. Тем не менее трудно объяснить это бегство, если не предположить, что доход с земли упал, ведь вряд ли в позднеантичный период людей особенно влекли к себе города. То, что упадок Римской империи сочетался с деградацией сельского хозяйства, подтверждено многократно. А нашумевшая теория об изменении климата, опираясь на которую Эллсворт Хантингтон в 1917 году развязал дискуссию об экологических причинах упадка культур, не выдержала проверку временем.
За всем этим никогда нельзя забывать, что требующий объяснения феномен – это прежде всего долговечность Римской империи, а не произошедший в конце концов упадок ее! С римских специалистов по сельскому хозяйству брали пример еще аграрные реформаторы XVIII века. Во времена расцвета Римской империи кризисные явления в сельском хозяйстве обострили понимание того, как важно сохранять плодородие почв (см. примеч. 2).
1. ИМПЕРИЯ МОНГОЛОВ И «ОБЪЕДИНЕНИЕ МИРА МИКРОБАМИ»
Империализм отчетливо кризисного характера входит в историю окружающей среды с Империей монголов Высокого Средневековья. Это были конные кочевники, сопровождаемые стадами овец и коз, из-за чего угроза перевыпаса была у них более высокой, чем у арабских кочевников-верблюдоводов. Поскольку господство монголов во Внутренней Азии никогда не закреплялось институционально, не существовало и высшей инстанции, которая могла бы взять на себя управление в вопросах обращения с окружающей средой. В Китае монгольские завоеватели признавали китайские административные методы, но не позволяли китайской культуре полностью себя абсорбировать. Значительные площади полей они превратили в пастбища. Но когда Чингисхан вскоре после нападения на Китай задумался о том, не стоит ли поголовно истребить китайцев и превратить весь Китай в поле для игрищ конных кочевников (во всяком случае, так пишет один китайский историк XIV столетия), то мудрому китайскому советнику удалось отговорить его от этого чудовищного плана: он подсчитал прибыль от налогов в случае, если Китай не будет разрушен (см. примеч. 3).
Наверное, самый страшный вред Китаю монголы нанесли неумышленно: формирование их империи способствовало приходу в Китай чумы из Внутренней Азии. Если под властью монголов население Китая сократилось приблизительно с 123 до 65 млн, то главной причиной этого была, видимо, эпидемия чумы. И если в 1347 году чума достигла первого европейского города (крымская Кафа, ныне – Феодосия), а оттуда за несколько лет разошлась по всей Европе, то непосредственными носителями ее были татары Золотой Орды, вышедшие из частей войска Чингисхана, а в более широком смысле – заметно оживившаяся под властью монголов торговля на Великом шелковом пути (см. примеч. 4).
Распространение чумы, как и других заразных болезней – это следствие объединения мира, размывания границ традиционных сред обитания. Таким образом микробы проникают в экосистемы, в которых против них не могло быть выработано иммунитета. Пока торговля имела в своем распоряжении лишь доиндустриальные средства транспорта, она не могла быстро и полноценно использовать новооткрытые всемирные связи. Зато куда проворнее в своем размножении и расселении по свету оказались некоторые микроорганизмы. Ле Руа Ладюри предложил в качестве макроисторической концепции идею «объединения мира микробами» (Purification microbienne du monde). Таким образом он хотел прояснить роль эпидемий в истории Старого и Нового Света с XIV века (см. примеч. 5). В то время когда жизнь большинства людей еще протекала в узко очерченном географическом пространстве, а выход за его пределы осуществлялся медленно и с большим трудом, великие эпидемии уже предвосхитили будущее и стали прообразом катастроф, основанных на стремительном и всемирном распространении их причин. В истории глобализации экологических проблем чума играет роль предтечи и дурного предзнаменования.
Несколько сбивает с толку тот факт, что страшные эпидемии чумы, по всей видимости, свирепствовали в Средиземноморье уже с VI по VIII век, начиная с так называемой юстинианской чумы, впервые появившейся в Константинополе в 542 году. В отличие от чумы Позднего Средневековья, эта эпидемия не вошла в коллективную память, даже историки Нового времени часто забывали о ней. При этом она, вероятно, имела еще больший размах, чем чума XIV века. Многое говорит за то, что она сыграла большую роль в упадке Средиземнорья и смещении центров силы, чем Великое переселение народов. Как замечает автор книги по истории эпидемий МакНилл, накатывающие друг за другом волны чумы опустошали значительную часть Римской империи уже со II века нашей эры (см. примеч. 6). Если это так, то расширение мира, осуществленное Pax Romano[158], уже было оплачено ценой эпидемий.
Правдоподобно ли с точки зрения эпидемиологии, что волны чумы следовали за расширением торговых путей и распространением человеческого господства? Или возбудитель чумы может попадать в незащищенные экосистемы и случайным путем – благодаря отдельным организмам-носителям? Многие данные подтверждают первое допущение: основным хозяином возбудителя чумы была, как известно, черная крыса, обитающая только вблизи человеческого жилья, включая корабли. Поскольку она и сама умирает от чумы, то возбудителю, чтобы не угаснуть со смертью своих носителей, требуется некоторая концентрация грызунов и их местообитаний. Он может переноситься и напрямую от человека к человеку. В густонаселенных и тесно связанных друг с другом европейских регионах, скорость распространения чумы возрастала. Другие заразные болезни, которые, как тиф или дизентерия, распространяются через питьевую воду, еще более зависимы от скученности людей и патогенной окружающей среды (см. примеч. 7).
Еще один волнующий вопрос направлен на то, не связана ли чума с экологической историей как-то еще, более глубоко. Бросается в глаза, что в Европе чума разразилась примерно в то же время, когда на большей ее части люди были близки к исчерпанию пищевых ресурсов: на это указывают периодический голод, общее ухудшение качества питания и то, что вырубки леса и расчистки земель под поля дошли до участков с тяжелыми для обработки почвами. Резкая убыль населения вследствие чумы стабилизировала баланс между человеком и природными ресурсами более чем на столетие. Некоторые историки видят в пришествии чумы механизм саморегулирования макроэкосистем. Вначале болезнь в равной степени косила бедных и богатых; но по прошествии столетий она стала «социальной эпидемией», от которой сильнее всего страдали беднейшие слои общества, тем более что они не имели возможности бежать в загородные поместья. Дефо называл лондонскую чуму 1665 года «избавлением», она унесла «30–40 тыс. как раз тех людей, которые, останься они в живых, стали бы по бедности своей невыносимым грузом». В XVI и XVII веках, когда чума стала эндемичной болезнью Константинополя, ее эпидемии случались в Европе чаще, чем в Средние века. Взаимосвязь волн чумы с ведущими потоками дальней торговли и передвижениями армий становится еще более четкой (см. примеч. 8).
Для истории среды важны не только причины чумы. Как минимум, не менее важны для нее противочумные меры. Сначала чума изобличала бессилие медицины, но продолжающийся в течение всего Нового времени процесс гигиенизации западного мира и политизации гигиены – скорее всего, важнейший источник действенного экологического сознания – был в значительной мере вызван к жизни травматическим опытом эпидемий. Тот «процесс цивилизации», сопровождаемый повышением порога стыда и отвращения, который столь сложно разъясняет Норберт Элиас[159], проще всего объяснить страхом перед заражением и «дурным воздухом», терзавшим людей задолго до того, как были открыты бактерии (см. примеч. 9). Чувство, что наиболее здоровая жизнь – это одинокая жизнь в зеленой природе, получает таким образом тривиальное и рациональное основание.
В ментальных и медико-политических реакциях на чуму Европа отличалась от исламского мира, принимавшего болезнь более фаталистично – как ниспосланную Аллахом судьбу. Особый путь Европы с ее экологическим сознанием проявился не только в лесных установлениях, но и ранее – в реакциях на великие эпидемии. Правда, принимаемые меры сотни лет оставались не слишком успешными. Пока главными действующими лицами были торговые города, нельзя было широким фронтом воплотить в жизнь жесткие карантинные меры. Лишь когда инициативу перехватили владетельные князья, и Габсбургская монархия в 1728 году организовала на Балканах широкий противочумный кордон, наметился некоторый прогресс. Хотя некоторые историки полагают, что удивительно резкое исчезновение чумы из Европы в XVIII веке объясняется не мерами профилактики, а тем, что черную крысу вытеснила крыса серая. История эпидемий сохраняет элемент загадочности и непредсказуемости (см. примеч. 10).
2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАОКЕАНСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА
Роль колониализма раннего Нового времени в мировой экономике нередко переоценивают. Количество людей и объем товаров, которые с того времени пустились в плавание по мировому океану, до XVIII века оставалось – если смотреть в целом – крайне несущественным; и кажется сомнительным, что открытие Америки на самом деле придало экономике глобальное измерение. Однако много быстрее, чем европейцы, по американскому континенту сумели распространиться травы и сорняки, микробы и крысы, кролики и овцы, коровы и лошади. В новых для себя мирах они заняли обширные пространства, где не было их естественных врагов, зато были неограниченные кормовые ресурсы. Если эпохальный характер колониализма раннего Нового времени в масштабах традиционной истории выглядит не слишком убедительным, то с точки зрения истории экологической он обретает новый смысл.
Одну из его версий представляет Альфред У. Кросби в своей книге «Экологический империализм» (1986). Речь идет о фундаментальной концепции экологической истории, оказавшей очень сильное воздействие на умы во всем мире (см. примеч. 11). Этот эффект базировался не в последнюю очередь на том, что Кросби совершил удачный ход: с одной стороны, он объяснил европейское завоевание Америки реализацией экологических законов, а с другой – сумел удовлетворить распространенную в третьем мире потребность обвинять в собственных несчастьях первый мир.
Кросби описывает широкую дугу, включая в поле своего рассмотрения 1000 лет всемирной истории, от 900-х до 1900-х годов, от заселения Исландии до высокого империализма. Он анализирует, почему экспансионные усилия европейцев первые 500 лет были серией неудач, а затем – цепью беспримерных успехов. Наиболее сильное впечатление по соотношению затрат и прибыли производит контраст между крестовыми походами и завоеванием Америки. С одной стороны, 200-летние безумные битвы крестоносцев, итоговый результат которых оказался нулевым, а с другой – стремительное победоносное шествие конкистадоров с последующим покорением гигантских пространств Нового Света, при котором, за исключением отдельных эпизодов, не случилось ни единого возврата к господству индейцев. Разгадка в принципе проста: в первом случае природа выступала против европейцев, во втором – на их стороне. И не только та природа, что встретила их в дальней стране, но и та, которую они – отчасти умышленно, отчасти неумышленно – принесли с собой: сельскохозяйственные растения и животные, а также сорняки, вредители и бактерии. Нечаянно «прихваченные» с собой мелочи оказались даже более эффективными.
Причины экологического отставания Нового Света – казавшегося, правда, многим европейцам воплощением необузданной дикой природы – Кросби объяснял историей нашей планеты. После того как американский материк отошел от евразийско-африканского континентального массива, он начал отставать от Старого Света в многообразии видов и процессах естественного отбора, способствовавших выработке иммунитета. Колонизация восстановила исходное экологическое единство континента Пангея и произошла, таким образом, в известном смысле в согласии с природой. Именно поэтому она стала историей столь грандиозного успеха, даже если потребовала при этом ужасных жертв и, в конце концов, сократила общее число видов во всем мире.
Кросби может подтвердить перенос многих видов и вытеснение ими видов автохтонных. Однако описывая победу и поражение экосистем, он представляет читателю в значительной степени сконструированную историю, исходящую из того, что Старый Свет и Новый Свет существуют как более или менее компактные гигантские экосистемы поверх всех экотопов и экологических ниш. Если же, напротив, представлять мир как совокупность множества экологических микрокосмов, то допущение об общей экологической отсталости Нового Света не оправдано. При чтении Кросби почти забывается, что в действительности не так мало американских видов, оказавшись в Европе, продемонстрировали большие способности к выживанию и внесли сумятицу в экосистемы Старого Света. Рекорд принадлежит картофелю, но в этом списке и кукуруза, и табак, и фасоль, и помидоры, и дугласия, и австралийский эвкалипт. Не забудем и возбудителя сифилиса, и виноградную филлоксеру, уничтожившую в XIX веке большую часть европейских виноградников. Кстати: сельскохозяйственные растения и животные Европы происходят в основном из Азии, однако их приручение и расселение вовсе не способствовало господству Азии над Европой. Многие виды принесли европейцам даже большую выгоду, чем самим азиатам. Индейцы также были вполне способны извлекать выгоду из проникновения европейских видов, известнейший пример этого – чрезвычайно успешный симбиоз отдельных индейских племен с лошадью, чему тщетно пытались помешать испанцы. Овцу индейцы в XVII веке также интегрировали в свое хозяйство (см. примеч. 12). Параллель между политической и экологической историями выглядит у Кросби чересчур гладкой.
Охотнее всего Кросби задерживается на островах: Мадейра, Азоры, Новая Зеландия – в их небольших изолированных пространствах европейская флора и фауна способны полностью развернуться за небольшой период времени. На больших континентах ситуация иная, они не так легко поддаются европеизации. У Александра Гумбольдта, посетившего Америку через 300 лет после Колумба, не сложилось впечатления, что ее природа подчинена иноземному влиянию или разрушена. Если книга Кросби может научить чему-то практическому, то только одному: что глобализация, пусть она и означает злой рок для большой части человечества, есть экологически неизбежный и необратимый процесс, при котором лучше всего, при всем возмущении его несправедливостью, встать на сторону победителей. Но к счастью, экология в планетарном масштабе не является такой тесной сетевой структурой, как идеально-типический мировой рынок в эпоху электроники.
Кросби специализировался на исторических исследованиях инфекционных болезней, и на уровне эпидемиологии его концепция, видимо, наиболее верна, хотя понятие «империализм» здесь наименее осмыслен. Принеся с собой возбудителей смертельных заразных болезней, против которых у индейцев не было иммунитета, колонизаторы самым быстрым и решительным образом изменили естественную историю Нового Света и невольно создали вакуумные зоны, лакуны, где могли расселиться впоследствии и они сами, и гигантские стада их овец и коров. Насколько велико было население Америки до прихода европейцев – вопрос бесконечных споров, при этом оценки колеблются от 10 млн, как считали в 1930-х годах, до 100 млн и выше, как думали в 1960-х. В тенденции подтверждаются слова Бартоломе де Лас Касаса[160], что в регионах, куда продвигались испанцы в первые 50 лет после 1492 года, люди кишели, «как в улье». Если Колумбу показалось, что он находится в «раю», то, по мнению американского географа Уильяма М. Деневана, рай этот был населен людьми, и не был похож на тот, о каком мечтают любители дикой природы. Успех конкистадоров значительно превзошел успех крестоносцев не потому, что они попали на мало населенные земли. Куда вероятнее, что многое в «дикой природе», пленявшей романтиков XIX века, возникло лишь как следствие эпидемий и сокращения населения. Немало признаков – таких как нехватка дров у северо-восточных индейцев или орошаемые террасы в Мексике и Перу – указывают на то, что обширные пространства Америки были заселены очень плотно, до пределов пищевых ресурсов (см. примеч. 13).
Самым важным содержимым «биологических коллекций», умышленно привезенных европейцами в Новый Свет, были крупные домашние животные. Военное превосходство испанцев основывалось в основном на наличии лошадей. Вместе с лошадьми и волами пришел плуг. У жителей Америки его не было, потому что некого было в него запрягать. Коровы и овцы превратили огромные пространства в пастбища. В первые столетия после Колумба выпас был таким же безудержным, как и завоевание Америки в целом, и не знал тех ограничений, какие были установлены для пастухов в европейских земледельческих странах. Следствием этого было разрушение почвы и растительности с последующей эрозией. Однако это еще не конец истории, были и контрмеры. На плантациях Вест-Индии в XVIII веке было замечено, что плуг способствует развитию эрозии, после чего его вновь заменили на мотыгу (см. примеч. 14).
Особенно подробно эти процессы изучены в Мексике. Элинор Г.К. Мелвилль собрала множество подтверждений безудержного перевыпаса земель Мексиканского нагорья в XVI веке. Ее работа остается наиболее значимым региональным исследованием на основе теории Альфреда Кросби. Но уже в конце XVI века последствия перевыпаса стали ощутимы для скотоводов, и размер стад резко пошел на убыль. Перевыпас не относится к тем экологическим бедам, которые подкрадываются медленно и незаметно для своего виновника. Когда пастухи теряют возможность перегонять стада на новые земли, им рано или поздно приходится сокращать их поголовье, приводя его в соответствие с емкостью пастбищ. Политика испанской Короны и Церкви, направленная на защиту индейских общинных земель и связанных с ними прав на воду от алчности испанских землевладельцев, внесла немалый вклад в сохранение множества индейских земледельческих культур, которые были разрушены или близки к разрушению лишь много позже, уже в постколониальное время. На значительных территориях страны вплоть до XX века сохранялось традиционное натуральное хозяйство индейцев с посадками кукурузы и бобов. В бедственном положении оно оказалось лишь с наступлением «Зеленой революции» (см. примеч. 15).
В ходе колонизации Мексика лишилась значительной части своих лесов: во-первых, в связи с созданием обширных пастбищ, а во-вторых, на нужды предприятий по очистке сахара. Тем не менее вызывает сомнение, что ранний период колонизации в этом отношении резко отличался от доколумбовой эпохи. Уже первый мексиканский вице-король хорошо осознавал, как опасна для его столицы потеря лесов. Добыча драгоценных металлов, самой большой колониальной ценности для Испании, немало зависела от дерева. Наиболее опасные крупномасштабные вырубки начались в Мексике, видимо, лишь в постколониальный период, и тогда же стало понятно, какими лесными богатствами располагала Мексика прежде. В 1899 году консул Франции в Мексике называл торговлю тропической древесиной «лучшим в мире бизнесом». В 1990-е годы страна, по словам главы Государственной службы окружающей среды, имела самый высокий процент обезлесения в Латинской Америке. Жесткие природоохранные меры, запрещавшие любые виды пользования в первичных лесах, теперь вошли в противоречие с индейским национально-освободительным движением сапатистов[161]. Для той части Северной Мексики, которая в 1848 году вошла в США, вторжение новой цивилизации означало экологические изменения такой неизмеримой глубины, что по сравнению с ними эру испанского господства можно считать продолжением американской древности. Сегодня происходит переоткрытие относительной разумности испанской колониальной политики. Сегодня говорят, что жители засушливой Кастилии неплохо понимали те условия, в которые они попали в Мексике, по крайней мере лучше, чем янки, стремившиеся любой ценой превратить степи в поля (см. примеч. 16).
Наряду с выпасом скота огромную роль в изменении ландшафтов Нового Света сыграло хозяйство плантаций. Старейший и наиболее широко распространенный вид колониальной экономики, самым скверным образом соединяющий в себе социальную и экологическую вредоносность, – плантации сахарного тростника. Ни одно другое культурное растение не оказало такой мощной поддержки крупному капиталистическому землевладению и рабству в колониях, как сахарный тростник. Он же является самым страшным виновником обезлесения, и не только вследствие ненасытной эксплуатации плодородных почв, но и из-за заводов по очистке сахара, «пожиравших» несметное количество древесины. Именно они были причиной того, что производство сахара окупалось исключительно на финансово стабильных предприятиях. До XV и XVI веков, то есть до расцвета сахарного производства на Мадейре, «сахарным» островом Европы был Кипр. Насколько безнадежна была проблема дров в почти безлесном Средиземноморье, понятно уже по тому, что в XV веке один кипрский специалист по очистке сахара пытался экономить древесину за счет использования яиц. Остров Мадейру, само название которого означает «лес», сахарный тростник лишил большой части его знаменитых лесов. При уборке урожая сахарного тростника пенек стебля остается в земле и пускает новый побег, что делает невозможным севооборот с другими культурами, которые способствовали бы восстановлению почвы и расширяли спектр питания. Наряду с дефицитом дерева это было, видимо, главной причиной, почему разведение сахарного тростника из регионов Средиземноморья было переведено на солнечные земли колоний. «Кроме высокого плодородия лесных почв, пройденных подсечно-огневым земледелием, разведение сахарного тростника на расстоянии 4000 миль или трех месяцев пути от европейских рынков не имело логически объяснимых преимуществ». В Бразилии, ставшей одним из ведущих мировых поставщиков сахара, еще в начале Нового времени тростник выращивали чисто хищническим методом подсечно-огневого земледелия, при котором постоянно расчищаются новые земли, а истощенные почвы забрасываются. Но только в индустриальную эпоху, когда сахар из предмета роскоши превратился в товар массового потребления, разведение сахарного тростника приобрело такой размах, что не только разрушило природу островов, но и полностью изменило облик многих ландшафтов на континентах. В эпоху модерна сахар как одно из наиболее распространенных наркотических веществ стал своего рода историческим субъектом. Динамика потребления, как никогда прежде, стала творить и всемирную, и экологическую историю: целая конфигурация новых источников удовольствия, таких как сахар, ром, чай, кофе и какао продвигала вперед колонизацию вместе с ее плантациями (см. примеч. 17).
Специалист по истории Бразилии пишет в XIX веке как об общеизвестном факте, что сахарный тростник способствовал господству аристократии, в то время как кофейное дерево было, «так сказать, растением демократическим», его можно было успешно разводить и в мелких хозяйствах. Кофе предпочитали сажать вместе с другими растениями, например, в Бразилии с кукурузой и бобами, для защиты молодых кофейных деревьев. Таким образом, выращивание кофе хорошо сочеталось с натуральным хозяйством и известным биоразнообразием. Но как только кофейные деревья достигали определенной высоты, они начинали подавлять рост других растений. Вследствие «суеверия», что «кофейные кусты» якобы хорошо растут только на «девственных лесных почвах», в Бразилии постоянно и без всякой необходимости рубили первобытные леса и под кофейные плантации тоже. Сохранению лесов служило дерево какао, нуждающееся для хорошего роста в защите более высоких деревьев. В Гане с прекращением производства какао исчез важный мотив к охране лесов (см. примеч. 18).
Пожалуй, только в XIX веке, в связи с индустриализацией, паровой машиной и железной дорогой, колониализм преодолел границы континентов и приобрел всемирное влияние. Только массовый экспорт мяса в Европу мог превратить аргентинское ранчо в гигантское предприятие. Многие страны третьего мира были охвачены динамикой индустриальной эпохи даже позже, лишь в постиндустриальный период. Колониальные правительства имели обыкновение консервировать существующие социальные структуры, пока они были для них полезны или как минимум безопасны. Сторонники прогресса критиковали их за это, но оценки экологов могут быть и другими. В колониальное время индейцы бассейна Ла-Платы с успехом отстаивали свои традиции разведения кукурузы и использования палки-копалки и сопротивлялись посадкам пшеницы и введению плуга. Только когда Аргентина обрела независимость, гаучо беспрепятственно повели против индейцев войну на уничтожение. Сведение тропических лесов достигло современных катастрофических масштабов только во второй половине XX века, в эпоху послевоенной конъюнктуры и деколонизации, грузового транспорта и бензопилы, массового экспорта для целлюлозной промышленности и взрывного роста численности населения. Еще во времена Альберта Швейцера, как описывает он сам, рубка и перевозка деревьев на Огове[162] были мучительно трудны: лес, удаленный от дороги или реки больше, чем на километр, практически не подлежал транспортировке (см. примеч. 19).
В Азии примерами экстремального обезлесения служат Таиланд и Непал – страны, которые никогда не были колониями, а в Америке – Гаити, где в результате французской революции чернокожие рабы сумели добиться независимости – уникальный в истории случай! После этой победы массы людей с равнинных плантаций переселились в горы, но устойчивой террасной культуры там не создали. Богатейшая когда-то колония стала примером экстремальной эрозии (см. примеч. 20). Эфиопия, бывшая колонией очень недолго и еще в 1950-е годы считавшаяся замечательно плодородной и многообещающей страной, после страшного голода 1982–1984 годов стала символом экономико-экологического обнищания: по-видимому, вследствие распространения «системы вол– плуг» в экологически хрупких регионах (см. примеч. 21).
В некоторых регионах Центральной Африки, таких как Родезия[163], колониальные власти в конце XIX века нанесли большой ущерб тем, что, поддавшись влиянию охотников на крупную дичь, запретили охоту на этих зверей местным жителям. Следствием стало распространение мухи цеце – симбионта крупных млекопитающих и переносчика возбудителя сонной болезни. То, что одно здесь связано с другим, было уже тогда хорошо известно людям, знакомым с бактериологией, и по вопросу, не стоит ли вновь разрешить охоту на крупную дичь, разгорелись ожесточенные споры. Если колониальная власть волей-неволей подтолкнула распространение симбиоза крупных зверей и мухи цеце, то это было не привнесением чуждой природы, а лишь расселением эндемиков. В Африке, как и в Америке, самые стремительные и самые тяжелые для человека последствия колониализма происходили в мире микробов. Но и здесь нельзя все вместе подвести под общий знаменатель «разрушение природы». Как показало одно исследование на озере Танганьика, доколониальное хозяйство коренного населения включало агро-садовую профилактику (agro-horticultural prophylaxis) против мухи цеце, в то время как колониальная политика охраны диких животных приводила к «потере контроля над окружающей средой» и отдавала «природе преимущество над человеком». История господства не во всех своих аспектах является историей покорения природы! Муха цеце, из-за которой люди старались селиться вдали от мест скоплений животных, вызывала симпатию и у охотников на крупных зверей, и у защитника этих зверей Бернгарда Гржимека. Пока чернокожие считались частью природы, а не homo sapiens в полном смысле, белые люди не воспринимали их присутствие в резерватах как нечто инородное. Это менялось тем сильнее, чем больше европейцы понимали, что и африканцы по-своему вторгались в природу. Возникшая вследствие этого конфронтация между природными парками и коренным населением, которая продолжилась и после деколонизации, была неблагоприятна для развития экологического сознания в Африке (см. примеч. 22).
3. ГЕНЕЗИС ГЛОБАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА: КОЛОНИАЛЬНЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ИСТОКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЭПОХИ МОДЕРНА
Как реплика на «Экологический империализм» Кросби читается «Зеленый империализм» Ричарда X. Гроува. Гроув видит истоки современного экологического сознания в колониализме. Он начинает издалека и представляет читателю яркую, полную неожиданностей фундаментальную историю. Не в копоти лондонских клоак (как часто предполагают), а среди далеких пальм, на экзотических островах, под впечатлением уходящего рая зарождалось экологическое сознание. Именно там люди впервые увидели собственными глазами или полагали, что увидели, как связаны между собой стремительное сведение леса, иссякание родников, иссушение почвы и ухудшение климата. С островов Святой Елены и Сент-Винсент, а прежде всего с острова Маврикий новое сознание около 1800 года пришло в Британскую Индию. Попав туда, оно не осталось всего лишь добрым намерением, напротив, экология стала для политики влиятельным «лобби», «истеблишментом» научной экспертизы (см. примеч. 23). Особенно действенно оно было в политике охраны лесов. При этом речь шла преимущественно не о древесине, а об экологическом, прежде всего климатическом, значении леса. Инициатива принадлежала врачам и ботаникам, питомниками политической экологии стали ботанические сады. Власть этого эколобби покоилась на господстве над дискурсом посредством всемирной интеллектуальной сети, простиравшейся вплоть до немецких лабораторий и кабинетов, и на страхе колонизаторов перед тропическими болезнями.
В значительной своей части история Гроува не только эмпирически очевидна, но и логична. Встреча европейцев с тропическими лесами и населяющими их народами, нагими «дикарями», придала идеалам райской природы и неиспорченного естественного человека магическую притягательную силу: без этого опыта немыслим энтузиазм любителей природы, того же Руссо. Биология и «страсть к разведению деревьев» получили сильнейший импульс от знакомства с экзотической растительностью. Вместе с тем в колониях, прежде всего на островах, люди гораздо ближе, чем в Центральной и Западной Европе, столкнулись с цепными экологическими реакциями. Отчасти это было обусловлено природными условиями, а отчасти – тем, что разграбление леса, дичи и почв шло в колониях куда более стремительно и беспощадно, чем в метрополиях. В большинстве центрально– и западноевропейских регионов эрозия долгое время остается незаметной, и за вырубками лесов не следует стремительной и необратимой потери почвы. Там, где осадки равномерно выпадают в течение всего года, связь между лесом и водным балансом со всеми вытекающими из нее проблемами не так бросается в глаза. Исследования эрозии и дезертификации получили импульс из Северной Америки, а также тропиков и субтропиков, и только в XX веке люди заметили, что те же проблемы свойственны и Центральной Европе (см. примеч. 24).
Именно в колониях постоянная тревога европейца о собственном самочувствии относилась к климату и его последствиям. В Античности, с Геродота и Гиппократа, встреча с чуждым окружением заставляла человека думать о влиянии среды на людей; заокеанские открытия и завоевания Нового времени дали этим размышлениям сильнейший толчок. Мышление при этом часто следовало античным образцам; однако когда европеец как завоеватель вторгся в новые для него миры, то перед ним острее, чем прежде, встал обратный вопрос – как он сам влияет на окружение. Эксперименты с разведением европейских видов в колониях и экзотических видов в Европе породили новый вид практического экологического знания. Так, в Новой Зеландии в XIX веке люди опытным путем поняли, что для хорошего роста клевера нужно запускать на луга шмелей-опылителей (см. примеч. 25).
Особую роль играли острова: их изолированные микромиры служили своего рода лабораториями для изучения экологических закономерностей. Колонизированные острова – показательные примеры и для Кросби, и для Гроува. На небольших островах лес мог быть сведен без остатка, и никакие заносы семян с близлежащих территорий не могли его восстановить. Животных здесь также можно было истребить быстро и окончательно. Одним из первых примеров стал дронт, птица додо – легендарный нелетающий крупный голубь с острова Маврикий, вымерший еще в XVII веке. На Маврикии люди уже в начале XVIII века поняли, какой роковой ошибкой является вырубка лесов в местах, где пышная зелень лишь обманчиво прикрывает хрупкость вскормившей ее почвы (см. примеч. 26).
Судьба такого крупного северного острова, как Исландия, заселенного викингами около 900 года, в XIX веке была открыта в качестве наглядного пособия по разрушению окружающей среды. Вильгельм Рошер причислял остров к «великолепнейшим образцам природы, оскверненной уничтожением лесов». Исландия кажется хрестоматийным примером экологического порочного круга, который начинается с вырубок леса, продолжается перевыпасом и приводит к разрушению почв, в данном случае еще усиленному ветровой и водной эрозией. Здесь, на краю Арктики, похолодание климата, видимо, еще ухудшило и без того трагическое положение населения, численность которого упала с 80 тыс. в XII веке до 30 тыс. и ниже в XVIII веке. Исходные, первые в истории интересы направлялись на плодовые и кормовые деревья и полностью игнорировали березовые редколесья Древней Исландии. Безусловно, вырубки леса и выпас овец далеко не всегда приводят к разрушению почвы, что видно на примерах Англии и Ирландии, но растительность Древней Исландии не была готова к такой нагрузке. Исландские поселенцы прежде имели дело с экосистемами другого типа и упустили момент, когда они сами еще могли бы приспособиться к той природе, которую им не удалось приспособить к привычному для них хозяйству. Политические условия, видимо, также внесли свою лепту в то, что перед угрозой экологической деградации исландцы повели себя как парализованные: потеряли свою автономию сначала в пользу норвежцев, затем – датчан, и около 1700 года 94 % исландцев были бедными арендаторами с очень ограниченными возможностями. Чтобы оплатить аренду, им приходилось обрабатывать поля каждый год, так что они не могли позволить себе ни пар, ни залежь для восстановления почв. В этом отношении судьба Исландии также подпадает под рубрику «колониализм» (см. примеч. 27).
Совершим теперь перелет на другой конец планеты: на остров Пасхи – заброшенный клочок суши с могучими каменными изваяниями, свидетелями былых амбиций, возможно, сыгравших в его судьбе роковую роль. Этот пустыннейший из всех обитаемых островов мира считается сегодня хрестоматийным примером экологического самоубийства путем уничтожения лесов, предостережением всему космическому кораблю «Планета Земля»! Уничтожение леса должно было происходить на глазах у людей: площадь острова так хорошо просматривается, что, срубая дерево, нельзя было не видеть, что оно – последнее. Или это история не самоубийства, а убийства? Судя по споро-пыльцевым диаграммам, остров был почти безлесным уже тысячи лет назад. Однако голландский адмирал Якоб Роггевен, открывший остров в 1772 году, обнаружил на нем развитое сельское хозяйство с разнообразными плодовыми культурами. Обезлесение и здесь не обязательно означало деградацию, тем более что были еще и пальмы. Видимо, упадок начался лишь в последующие годы из-за кровавой гражданской войны, закончившейся в 1862 году, когда большую часть населения вывезли с острова перуанские работорговцы, а остров превратился в одно большое овцеводческое ранчо (см. примеч. 28).
Убедительные примеры для некоторых элементов теории Гроува находятся вне того времени и пространства, которое разбирает он сам, – таковы африканские резерваты для диких животных, которые создавались с конца XIX века под давлением лобби любителей охоты на крупного зверя и при поддержке естествоиспытателей, или тревожные сигналы из Северной Америки, спровоцированные хищнической эксплуатацией лесов и полей. Империализм Нового времени, проникавший в глубины континентов со своими паровыми машинами и железными дорогами, тоже обладал своего рода экологическим сознанием: это было осознание конечности глобальных ресурсов, обострявшееся по мере стирания с карты мира белых пятен и стимулировавшее конкуренцию за ресурсы. Вальтер Ратенау[164] в 1913 году предупреждал о приближении дефицита ресурсов и о том, что мир уже поделен: «Горе нам, что мы практически ничего не взяли и не получили». Уже в конце XVIII века страх перед дефицитом дерева был стимулом британской политики в Индии (см. примеч. 29). Или такая тревога о ресурсах не имеет ничего общего с современным экологическим сознанием? Уверенности в этом нет, экологическое оправдание политики насилия в будущем может усилиться.
История Гроува о колониальном происхождении «энвайронментализма»[165], как и многие хорошие истории, предлагает читателю лишь частичную правду. Подтверждения того, что пережитые в колониях первые экологические тревоги имели серьезное практическое действие, малочисленны и невнятны. Даже Пуавр, главный свидетель Гроува в пользу «маврикианского» происхождения экологически мотивированной политики охраны леса, управлял этим островом лишь около девяти месяцев (см. примеч. 30) и без долговременного эффекта. Впрочем, и он был прежде всего физиократом[166], нацеленным на рост аграрного производства. Британская лесная политика в Индии в XIX веке вращалась в основном вокруг тикового дерева, а не вокруг сохранения эколого-климатических функций леса. Собственное здоровье британские колониальные чиновники в тропической Индии спасали в высокогорных курортах Hill Stations, так что не из-за этого они занимались лесной политикой. Здесь, как и в других местах, лесоразведение получало научные импульсы из Германии, а не из колониальных ботанических садов. А пионерная роль Германии в лесном хозяйстве объясняется как раз тем, что Германия не имела колоний и вынуждена была обходиться собственными лесными ресурсами. Многие их приводимых Гроувом доказательств кажутся «экологическими» в современном смысле только потому, что вырваны из контекста. Даже если то здесь, то там можно усмотреть экологические взаимозависимости, то речь все же шла прежде всего о повышении прибылей сельского и лесного хозяйства, часто также об «акклиматизации» полезных растений на новых местообитаниях, но не о сохранении существующих экосистем (см. примеч. 31).
К главным свидетелям Гроува принадлежат также кругосветные путешественники: отец и сын Форстеры, Александр фон Гумбольдт и Чарльз Дарвин. Здесь просматривается преемственность: Георг Форстер пробудил восхищение тропиками у Гумбольдта, а тот, в свою очередь, – у Дарвина. Все они служат завораживающими примерами того, как под впечатлением от экзотических миров способность к целостному восприятию природы, наблюдению бесконечных взаимозависимостей человека и животных, растительности и форм рельефа превращается в подлинную страсть и пробуждает в человеке ненасытную любознательность. Все эти исследователи были противниками рабства и разграбления колоний. Но без колониализма их путешествия не были бы возможны. Гроуву кажется, что «гумбольдтианская экологическая идеология», в особенности его идеи о ценности леса для сохранения влажности почв и воздуха, оказала решающее влияние на естествоиспытателей Британской Ост-Индской компании. Но при этом нельзя забывать, что главное у Гумбольдта – безграничное восхищение пышным разнообразием тропической флоры и фауны; а тревога о сохранении природы в ходе ее освоения человеком – лишь второстепенные замечания. Латиноамериканская природа казалась ему неисчерпаемой, так, он не понимал, зачем индейцы контролируют рождаемость (см. примеч. 32).
У Форстера и Гумбольдта страх перед исчерпанием ресурсов имел немецкие корни – это был страх, типичный для жителей страны, которая не могла спастись от дефицита поставками из колоний. В Новой Зеландии Форстер был огорчен тем, что там не было «ничего, кроме леса», и удовлетворенно переводил взгляд на участок земли, где лес уже вырубили матросы. А в путешествии по низовьям Рейна, которое он вместе с Гумбольдтом совершил в 1790 году, его, напротив, охватило темное предчувствие, что когда-нибудь северные регионы с их холодной зимой из-за нехватки дров станут необитаемыми, и стужа погонит замерзающие европейские народы к югу. Гумбольдт в революционном 1789 году, когда со всех сторон доносились тревожные сигналы о скором дефиците леса, видел «наступающую со всех сторон нужду». Практическую ценность своих кругосветных путешествий он видел в том, чтобы, изучив бесконечное многообразие растительности, открыть человечеству новые источники питания. Конечно, его восхищала дикая природа, но вместе с тем он был движим мыслью сделать ее более полезной для человека. То же относится и к Форстеру, порицавшему европейцев за то, что они пренебрегали собачьим мясом, между тем как природа, по его словам, создала плодовитую, бегущую следом за человеком собаку явно для его пропитания! (См. примеч. 33.)
Кросби предваряет первое издание «Экологического империализма» замечанием Дарвина, сделанным под впечатлением от резкой убыли коренного населения Австралии: «Кажется, что куда бы ни ступала нога европейца, коренных жителей начинает преследовать смерть. Куда бы мы ни обратили взоры – на просторы Америки, Полинезию, предгорья Доброй Надежды или Австралию, – результат один и тот же». Еще одно подтверждение колониального происхождения современного экологического сознания? Но зная контекст этого замечания, осознаешь, что Дарвин регистрирует это вымирание хотя и с человеческим сочувствием, но и с жестоким удовлетворением. В его глазах процесс этот свидетельствует никак не об упадке, а скорее о творческой способности природы, проявляющей заботу о выживании наиболее жизнеспособных видов. Дарвиновский закон выживания наиболее приспособленных (Survival of the fittest) – это та сила, которая во всем мире работает на европейца, а в особенности – на британца. Послание Дарвина состояло в первую очередь в признании человека частью природы, поэтому для него не было принципиальной разницы между истреблением биологических видов человеком или естественными врагами. Оба явления – от природы необходимый, а не разрушающий природу процесс. Сохранение видов, по логике Дарвина, не имеет смысла (см. примеч. 34).
Наверное, самая популярная экологическая шутка Дарвина – о заслугах кошек перед Британской империей: кошки ловили много мышей, не давая им поедать зерно, и таким образом улучшали питание британской армии. Но эта экологическая цепочка была отлично знакома любому крестьянину.
Колониальный мир, несомненно, служит живительным источником того, что мы сегодня понимаем под экологическим сознанием. Это и сейчас заметно по тому, какие страсти вызывает в экологических кругах сведение тропических дождевых лесов, тогда как масштабные и не менее экологически опасные рубки бореальных хвойных лесов вряд ли когда-нибудь станут объектом сильных эмоций (см. примеч. 35). Дождевые леса на Амазонке стали для индустриальных стран Севера олицетворением находящейся под угрозой окружающей среды – ведь с этими лесами исчезала их мечта о рае. Но эта идущая от колониализма традиция, хотя и связанная зачастую с антиколониальными настроениями, имеет принципиальную проблему: речь идет об экологическом сознании сверху и издалека, сознании ученого, путешественника или эксперта по вопросам колоний. Как только оно становится властью, ему грозит столкновение с коренным населением – с тем, как оно само воспринимает собственные интересы. Поскольку стабильную охрану окружающей среды трудно реализовать вопреки местным жителям, такой ход развития опасен для экологической политики. В истории колоний нет недостатка в примерах, когда страстное восхищение природой и глубокое постижение естественной истории идут рука об руку с бесцеремонным и беспощадным разрушением окружающей среды.
Нельзя спорить с тем, что широкий взгляд на мир принес человечеству новые, воистину грандиозные знания. Многое лучше видится на большом расстоянии и при возможности сравнения. Расширение горизонта благодаря покорению колоний и прямо, и косвенно сыграло очень существенную роль в том, что наука о природе стала духовной силой с международной сетью и мощным институциональным фундаментом. Возник новый вид знания, который оставил далеко позади античную традицию и за которым уже нельзя угнаться с помощью местного опыта. Однако с умыслом или без такового, но это знание соединилось с интересами осознающих собственную власть администраций и с таким типом науки, который игнорировал «скрытое знание» местного населения.
4. КОЛОНИАЛИЗМ И ПОСТКОЛОНИАЛИЗМ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ИНДИИ
В Индии, как и во многих странах, лейтмотивами экологической истории могут служить лес и вода. Однако самые ранние источники известны сегодня лишь из эпохи Великих Моголов (XVI–XVII века), а непрерывная источниковая база существует и вовсе только для эры британского колониального владычества. Вопросы к экологической истории направлены в основном на последствия чужеземного господства, поэтому вполне логичным будет рассмотреть Индию в контексте колониализма.
Состояние источников и уровень исследований для доиндустриальной Индии несопоставимо хуже, чем для Китая. Тем сильнее соблазн сконструировать экологическую историю Древней Индии с идеологических позиций. Авторы единственного на настоящий момент общего обзора «экологической истории Индии» трактуют доколониальное время в целом, хотя и со множеством отступлений, как эпоху гармонии между человеком и окружающим миром, а последующий период – как эру глубокого нарушения сложившегося баланса. На этом фоне господство моголов не означает резкого перелома. Изданная еще до «эры экологии» история сельского хозяйства в Могольской Индии, напротив, трактует индийскую историю как тысячелетнюю «упорную борьбу с природой» – против леса и пустошей (см. примеч. 36).
Вплоть до XIX века Индия была для европейцев страной чудес. Сегодня она из воплощения богатства превратилась в воплощение бедности. Прежняя картина вызывала в воображении образ райской природы, новая – разрушенной. Как объяснить такой контраст? Меняется ли только европейское восприятие, или экологическая история новой Индии и вправду есть история краха? Уже французский путешественник Франсуа Бернье, в XVII веке посетивший Бенгалию и считавший ее самой плодородной в мире страной, описал тамошнюю крестьянскую бедноту как массу несчастных людей, из которых местные администрации выжимали последние соки, так что те не способны были ни почувствовать свою землю, ни задуматься о сохранении ее плодородия. В отличие от Китая, в Могольской Индии налогами облагали не обрабатываемую землю, а получаемый урожай: это подавляло всякое стремление к интенсификации сельского хозяйства, но вместе с тем тормозило рост численности населения (см. примеч. 37).
Как империалисты, так и антиимпериалисты долгое время считали британское господство единственным переломом в истории Индии, уже в его начале гремели страстные обвинительные речи Эдмунда Бёрка[167] о том, что Англия была для Индии большим злом, чем монголы, и превратила ее из «рая» «в рыдающую пустыню». Более поздние исследования, напротив, принесли мнение о «маргинальности британского влияния» и «преемственности исторического развития». Присутствие англичан в этой огромной стране оставалось точечным: действие Империи осуществлялось прежде всего так, как умели использовать иноземную власть в своих интересах местные власти и сборщики налогов. Безусловно, британцы ослабили индийское натуральное хозяйство, поддерживая в интересах экспорта посадки хлопка, сахарного тростника и индигоферы красильной[168]. Тем не менее разница с колонизацией Америки очень велика: в Индии не было насильственно введено плантационное хозяйство, там сохранилась традиционная структура индийской деревни. Даже чай до второй половины XIX века выращивали в чайных садах, плантации появились позже (см. примеч. 38). Навязать индийскому субконтиненту европейскую макроэкосистему было невозможно. Даже здешние микробы не встали на сторону европейцев, а постоянно угрожали им болезнями и смертью.
Другие особенности экологической истории Индии обнаруживаются в сравнении с Китаем. В первую очередь это касается ирригации. Здесь сильнее всего проявляется принципиальное отличие истории Индии от истории Китая: дефицит государственного единства и преемственности и отсутствие развитой бюрократической традиции в доколониальную эпоху.
В некотором отношении Индо-Гангская равнина предоставляла столь же идеальные возможности для создания крупных ирригационных систем, как долины Нила, Евфрата и Хуанхэ. Сэр Проби Томас Котли, в 1830-е годы руководивший строительством Гангского канала, считал североиндийские равнины «регионом, самой природой предназначенным для искусственного орошения». Впрочем, столь однозначной эта естественная предопределенность не была. В Бенгалии земледелие было возможным и без крупных гидравлических сооружений: деревни имели свои колодцы, а летний муссон приносил дожди в самое нужное для роста злаков время. Правда, он был не особенно надежен, случались и засушливые годы. Собственно, для индийцев это был еще более сильный стимул к созданию крупных водных резервуаров, чем для китайцев (см. примеч. 39).
Инженер-гидравлик XX века приходит в восторг от Индии и называет ее «страной ирригационных чудес». «По разнообразию методов ирригации эта страна далеко опережает даже Китай». Однако столетиями не прерывавшаяся преемственность вплоть до XIX века была свойственна в основном Южной Индии, с ее традиционными деревенскими прудами (tanks) и сельскими колодцами, воду из которых отводили на поля с помощью водокачек, приводимых в действие двумя мужчинами. Такая система орошения не нуждалась в государственной власти (см. примеч. 40). Распад Могольской империи, который часто считается началом трагедии Индии, не должен был нанести вреда экономике и экологии индийской деревни.
До эпохи британского господства связь между водой и властью в Индии была далеко не такой тесной, как в Китае и Египте. Примечательно, что высокоразвитые ирригационные системы Мохенджо-Даро, города древней Индской цивилизации, не имели продолжения. Ни строитель плотин, ни укротитель речной стихии не стал центральной фигурой индуистской мифологии – вместо них прославляют бога Индру – освободителя рек. Правда, в Ригведе говорится, что индоарийские иммигранты изменили течение рек, чтобы орошать поля. «Артхашастра», древний индийский трактат по искусству управления государством (предположительно III век до н. э.), наставляет правителя облагать искусственно орошаемые земли более высоким налогом, и этому совету в индийской истории часто следовали. Это побуждало власть расширять площади ирригационных систем, однако снижало популярность подобных проектов среди подданных. Хотя отдельные правители тоже строили честолюбивые ирригационные планы, но подобные властные стратегии даже отдаленно не играли в Индии такой роли, как в Китае. Исходя из опыта Китая, где императоры связали долины Хуанхэ и Янцзы Великим каналом, можно было бы ожидать, что и индийские вожди проявят не меньшие амбиции и попытаются соединить между собой Ганг и Инд. Но для этого требовалась организация, а ее не было. Даже о каналах могольских императоров, на остатки которых постоянно натыкались британские гидростроители, литературные источники дают лишь примечательно невнятную картину. Поддержание работы многих каналов зависело от крестьян. Уже около 1600 года Бернье заметил, что оросительные системы разрушались, поскольку никто не был готов к работе над каналами. Тем не менее британские строители каналов в начале своей деятельности опирались, видимо, на индийский опыт (см. примеч. 41).
Тойнби считал заиливание индийских каналов признаком культурного упадка. Но с точки зрения экологии возможны и другие акценты. Традиционное орошение с помощью колодцев имеет свои достоинства. Испарение оставалось минимальным, сильного засоления почвы удавалось избежать. Уже в эпоху моголов области, где земледелие полностью зависело от искусственного орошения, были особенно подвержены кризисам. Великие работы по строительству каналов, которые с XIX века стала вести Британская империя, имели высокую цену: значительные потери воды, засоление, малярия. Оборотную сторону большого гидростроительства разглядели очень скоро – и не только отдельные эксперты, но и затронутое им население. Для британского колониального режима эти проекты, по ту сторону всей пользы и всех затрат, были поводом показать себя как систему, основанную на науке и прогрессе. Говорилось, что полукочевникам нужно лишь дать канал, чтобы они превратились из скотокрадов в образцово-показательных земледельцев. В Европе колониальные власти подвергались критике за то, что они так мало делали для орошения Индии, ведь таким образом они становились виновниками голода. Нередко им даже ставили в пример могольских императоров! Распределение воды на уровне конечных потребителей во многих местах уходило от британского управления, здесь правили местные власти. Крупные гидротехнические сооружения ослабляли самоуправление деревень: этого эффекта не предвидело британское правительство, нуждавшееся в деревнях в качестве инстанций (см. примеч. 42).
Намного ярче и богаче «гидравлическая» история острова Цейлон (Шри-Ланка). Именно там, а не в Индии, достигла кульминации южно-азиатская гидростроительная технология доиндустриальной эпохи.
Центральная провинция государства, город Анурадхапура, история которого восходит к V столетию до н. э., лежал в северной, засушливой части острова, и там невозможно было разводить рис без искусственного орошения из водохранилищ, в том числе крупных. Нидэм считает, что крупнейший из этих резервуаров тысячи лет оставался самым большим искусственным водоемом мира! Свой последний взлет эта гидравлическая цивилизация пережила в XII веке нашей эры, но уже в XIII веке ее ждал крах. В более поздние времена политические центры Цейлона переместились дальше от засушливой зоны. С тех пор орошение и на этом острове стало соответствовать индийскому типу локальных водоемов, накапливавших воду в период муссона (см. примеч. 43).
Еще один великий лейтмотив экологической истории – лес. В Индии он более заметен, чем в Китае. Началом истории здесь, как и в других местах, служит эра подсечно-огневого земледелия, уничтожившего лес на большой части долины Ганга. Индоарийские мифы прославляют сжигание леса со всеми дикими зверями, творимое Агни, Богом Огня. Впрочем, они содержат и иной опыт – с исчезновением леса реки пересыхают, а в сезон дождей превращаются в разъяренные потоки. Первый царь Ману, как следует из индуистских текстов, корчевал леса; десятому царю, напротив, пришлось спасаться от Великого потопа. Говорят, после смерти Будды трудно было купить дров, чтобы предать его тело огню! (См. примеч. 44.)
В отказе от убийства животных, введенного буддизмом и джайнизмом, можно было бы увидеть отражение опыта, насколько вредна безудержная война с лесами и дикими животными. Эдикт императора Ашоки, принявшего буддизм, запрещает сжигать леса без нужды или для уничтожения животных. Однако древнеиндийские традиции защиты леса не вполне отчетливы. Ясно только, что здесь, как и везде, особенно высоко ценились плодовые деревья, прежде всего манго, а на побережьях – кокосовые пальмы. Существовала ли в Древней Индии связь между лесом и властью? Автор «Артхашастры» вполне понимает ценность леса и указывает, что на обширных землях страны можно выращивать леса. Поскольку воплощением индийской верховной власти был слон, то так называемые слоновьи леса находились под особой защитой. Согласно указанию «Артхашастры», человека, который поджег «слоновий» или какой-либо другой полезный лес, в наказание тоже нужно было сжечь. Но древнеиндийские религиозно-правовые тексты Дхармашастры содержат определение: «Кто первый вырубит для себя участок земли, тот и будет им владеть». Именно сведение леса дает человеку власть и собственность! Нужно помнить и о том, что в Индии вплоть до Нового времени и даже позже крупные леса были царством не только диких животных, но и вольных лесных и горных народов, то есть миром, ускользавшим от верховной власти. Для бедноты лес служил последним убежищем в голодные времена. Для правителей доиндустриальной эпохи леса были лишь частично управляемым и доступным ресурсом. Один из немногих эдиктов по охране леса, дошедших до нас из доколониального времени, исходит от вождя маратхов Шиваджи (ок. 1670 года), возглавлявшего борьбу против Великих Моголов. Но из него нельзя вывести традицию институционализированной защиты леса. Британский лесной инспектор немецкого происхождения Брандис (см. ниже) обнаружил локальные традиции охраны леса исключительно в образе священных рощ и княжеских охотничьих заказников (см. примеч. 45).
Лишь под управлением британцев связь между лесом и властью получает институциональное оформление. С самого начала лесная политика Британской Индии была отмечена глубоким противоречием: коммерческое разграбление лесов становится еще более систематическим, однако возрастает и понимание его роковых последствий, в некотором отношении оно проявляется в Индии даже раньше, чем в британской метрополии. В эпоху наполеоновских войн основной целью лесной политики было получение тиковой древесины для нужд флота. Качественный корабельный дуб уже стал в Европе дефицитом, и в этой ситуации, вопреки сопротивлению лондонских верфей, часть линейного судостроения с успехом переносится в Бомбей, где существовала местная традиция судостроения. Однако поскольку верфям нужна была древесина определенного качества, то повышение спроса на нее еще не влекло за собой крупномасштабные вырубки. Они начинаются лишь с середины XIX века в связи со строительством железных дорог и массовым производством шпал, на которые уходили в основном североиндийские леса из сала (шореи исполинской) и деодара (гималайского кедра). В 1861 году обращение своих земляков с лесами резко критикует такой тяжеловес, как Хью Фрэнсис Клегхорн, один из основателей лесной администрации Британской Индии: по его словам, из всех европейских наций англичане менее всего осознают ценность лесов, и это небрежение продолжается еще и в США, где переселенцы безжалостно вырубают леса. Клегхорн, врач и ботаник (1820–1895), в 1856 году назначенный первым хранителем лесов в Мадрасе, ценил леса не только за древесину, но и в не меньшей степени за их влияние на климат и благополучие человека (см. примеч. 46).
На протяжении всей истории самыми первыми и самыми мощными стимулами к сохранению и посадкам лесов были потребности флота. Так было и в Британской Индии, где важную роль сыграли предостережения барона Франца фон Вреде, имевшего немецкое происхождение, и где в 1806 году Ост-Индская компания первой назначила должность хранителя лесов (Conservator of the forests). Но после окончания наполеоновских войн эта первая инициатива ушла «в песок». Вновь подтвердилось то, что констатировал когда-то Адам Смит: «общество торговцев», каким была Ост-Индская компания, не может поступать иначе, нежели «при любой возможности предпочесть меньшую и временную прибыль монополиста большому и стабильному доходу суверена». Ситуация изменилась только, когда в 1858 году, после восстания сипаев, управление владениями Ост-Индской компании взяла на себя Британия. В 1860 году был учрежден индийский Лесной департамент (Forest Department) – «первая и наиболее совершенная лесная администрация колониального мира». В 1862 году в Центральное правительство Британской Индии был приглашен в качестве консультанта по вопросам леса Дитрих Брандис – немецкий ботаник и лесовод, защитивший докторскую степень в Бонне и с 1858 года руководивший лесной администрацией Британской Бирмы. В 1864 году он был назначен генеральным лесным инспектором (Generalforstinspektor) и в течение десятилетий оставался ведущим специалистом индийского лесного дела. Под его же руководством главным направлением лесного хозяйства стала тиковая древесина. Однако главное значение деятельности Брандиса, актуальное по сей день, состояло в другом. Еще работая в Бирме, он понял, что выращивание тика нужно и можно комбинировать с «бродячим» земледелием коренных жителей, осуществляя лесопольное переложное хозяйство. Под его управлением периодически устанавливался социальный и экологический баланс между натуральным хозяйством коренного населения и коммерческими интересами британцев. Однако эта гармония, зависящая от общего политического климата, была недолгой. Брандис осознавал, что успешной и долговременной охрана лесов может быть только тогда, когда в ее осуществлении участвуют местные жители. Ориентируясь на немецкие общинные леса, он и в Индии хотел придать деревенским лесам официальный статус, но реализовать это намерение ему не удалось. Дальновиднее многих своих преемников он был и в том, что высоко ценил очень важный для коренного населения бамбук и придал ему статус лесной культуры, хотя, с точки зрения других лесоводов, бамбук был не деревом, а всего лишь сорной травой (см. примеч. 47).
Лесная политика создавала проблемы не только там, где она не срабатывала, но и там, где она имела временный успех. Если охрана леса осуществлялась вопреки интересам коренных жителей, вынужденных отказаться от своих традиционных пользований, то они становились врагами лесов. Конфликт между натуральным хозяйством местных жителей и коммерчески ориентированным лесным хозяйством с его ставкой на древесину был и остается всемирно распространенным феноменом, не исключая Центральную Европу. Но в колониях конфликт обостряло и политизировало то, что хранители леса были воплощением иноземного господства. Поджоги лесов становились разновидностью сопротивления. «Политические» лесные пожары, от которых страдали прежде всего хвойные лесопосадки, достигли кульминации в Индии в 1921 году (см. примеч. 48).
После того как Индия добилась независимости, непопулярная в стране защита леса на 30 лет была заброшена, хотя колониальная лесная администрация продолжала функционировать. Коррумпированные лесники действовали как пособники безоглядного разграбления лесов. Поскольку государство хотело удешевить лес для промышленных нужд, стимул к транжирству был высок, а к уходу и посадкам леса – ничтожен. В 1960-е годы был введен метод сплошных рубок, особенно опасный в условиях тропиков. Первые десятилетия независимости были для окружающей среды, вероятно, более тяжелым временем, чем последние периоды колонизации, в частности, вследствие взрыва численности населения. Тем более эпохальное значение имеет перелом настроения, который произошел у части сельского населения, в первую очередь по южному краю Гималаев, в 1970-х годах: люди поднялись уже не против охраны лесов, аза нее. Мировую известность получило движение Чипко, участники которого, вернее, участницы (потому что ими были в основном женщины) протестовали против коммерческих рубок. Естественно, речь шла не об экологии ради экологии, а о традиционных лесопользованиях сельских жителей. Важный импульс пришел также из осознания взаимосвязи леса и водного режима. Цитируют слова старика из племени мунда: «Леса – как глаза, их ценность понимаешь только тогда, когда их уже потерял». На склонах Гималаев защитная роль леса была особенно очевидной (см. примеч. 49).
Участники индийского движения за независимость, ратовавшие за прогресс, имели обыкновение упрекать британцев в том, что они затормозили индустриализацию Индии. Ганди, называвший европейскую цивилизацию «сатанинской», напротив, подобных обвинений не выдвигал. Идеализируя индийскую деревенскую общину, он был, в сущности, не так далек от британского социального романтизма. Индийский историк – сторонник прогресса, наоборот, полагает, что неизменность индийской деревни имела для страны «куда более губительные последствия, чем любая инвазия». Как бы то ни было, но колониальному господству нельзя инкриминировать систематическое разрушение традиционной сельской культуры. Дает ли экология повод к частичной реабилитации просвещенного колониализма? Может быть, в отдельных пунктах – да, однако нельзя быть уверенным в том, что традиционное деревенское хозяйство вправду обладало тем неистощительным характером, который приписывают ему эконостальгисты. Явное и фундаментальное отличие индийского сельского хозяйства от китайского заключалось в небрежении удобрением: человеческие экскременты были табуизированы, а коровий навоз служил топливом. Уже это объясняет, почему индийское сельское хозяйство с его традиционными методами не было способно к такой интенсификации, чтобы выдержать рост численности населения. Глубокий перелом произошел лишь с приходом «Зеленой революции» 1970-х годов, когда появились более урожайные сорта зерновых, минеральные удобрения и мотопомпы. Но повышение урожайности сопровождалось большим увеличением расхода воды и сверхэксплуатацией грунтовых вод, из-за чего стали иссякать колодцы и пустеть деревни. Не были приспособлены индийские институции и к проблемам сточных вод в масштабах индустриального общества. Могольский император, очень ценивший качество воды, больше всего любил пить воду из Ганга. Сегодня это немыслимо: большая часть индийских рек превратилась в сточные канавы (см. примеч. 50).
5. ЭКОЛОГИЯ ЯНКИ И ЭКОЛОГИЯ МУЖИКА
Уже в конце XVIII века Индию и Латинскую Америку оставляют позади США. С этого времени именно они становятся предостерегающим примером безоглядного расхищения леса, дичи и почвы. В 1775 году, за год до провозглашения независимости Америки, в Лондоне анонимный автор выпустил книгу «Американское земледелие», содержавшую генеральное наступление на новоанглийских фермеров. «Американские плантаторы и фермеры, – пишет анонимный англичанин, – это самые большие разгильдяи во всем христианском мире». Что бы они ни делали, они оставляют за собой разоренные земли. Повсюду повторяется одна и та же песня: колонисты, соблазнившись изначальным изобилием земли и плодородием почвы после недавних раскорчевок, забывают все правила доброго земледельца, их хозяйство «абсурдно». Они выгоняют свой скот в лес, не собирая навоза: сеют все время только кукурузу – этот «великий кровосос», не соблюдая севооборота. Вместо того чтобы восстанавливать плодородие почвы, они, исчерпав один участок земли, просто переходят со своим плугом на следующий, уничтожая все новые и новые леса и не думая о том, что дерево понадобится в будущем. Это мнение разделяли не только европейцы. Бенджамин Франклин сетовал: «Мы – плохие фермеры, ведь у нас очень много земли». Джон Тейлор из Вирджинии, один из основателей США, предавал анафеме хозяйство «янки», называя его «убийством почвы», то есть используя примерно те же слова, какие позже произносил Либих. Сам Джордж Вашингтон жаловался: «Мы уничтожаем землю, как только ее осваиваем, мы рубим и рубим леса, пока они еще есть, и идем все дальше на запад». И он, и многие другие его современники уже поняли на опыте, как обедняют почву постоянные посадки табака – этого изысканнейшего товара, экспортом которого занимались в XVIII веке южные штаты.
За табаком последовал хлопок. Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева» (1939) пишет как об общеизвестном факте, что без севооборота хлопок изматывает почву, «высасывает из нее всю кровь». Если «король Хлопок» в XIX веке способствовал военному объединению южных штатов, то это объяснялось не только его доминированием, но и его экологической лабильностью. Из-за обеднения почв, усугубленного расширением монокультуры, южным штатам было жизненно необходимо сохранить для хлопка и всей связанной с ним рабовладельческой структуры открытый доступ к Западу. Это привело к гражданской войне (см. примеч. 51).
В 1926 году историк сельского хозяйства Эйвери Крэйвен, опираясь на обстоятельные исследования, назвал одним из главных факторов истории Виргинии и Мэриленда и даже Америки в целом истощение почвы. В то время как его учитель Фредерик Джексон Тёрнер, автор знаменитой «теории фронтира»[169], воспел жизнь пионеров на границе с Диким Западом как источник молодости американизма, Крэйвен видел движущую силу экспансии в оскудении разоренной пионерами земли: «Натиск на Запад» (Drang nach Westen) как бегство от экологического кризиса! Часть его аргументом основана скорее на идеально-типических представлениях, чем на эмпирических результатах: «граничные сообщества» (Frontier communities), по Крэйвену, «по природе своей закоренелые грабители почв». На границе не существовало долгосрочного хозяйства, этот менталитет оставался в умах даже тогда, когда сама граница уже смещалась далее к западу, и он же вызывал ненасытную жажду освоения земель, создававшую постоянное давление на границу. Теория Крэйвена относится прежде всего к тем регионам и тем периодам, где и когда постоянно выращивали табак, кукурузу и хлопок. Однако точная эмпирическая проверка ее затруднительна, тем более что «истощение почвы» (soil exhaustion), как признает и сам Крэйвен, – понятие неоднозначное (см. примеч. 52).
В первые периоды освоения Америки, когда путь на Запад еще не был свободен, пионеры поневоле перенимали многие сельскохозяйственные практики у индейцев. Европейское сельское хозяйство пробивало себе путь в Новом Свете не так легко, как можно ожидать из теории Кросби, не во всем природа становилась на сторону янки (см. примеч. 53). Даже постоянное продвижение и расчистка земель, в принципе, отвечали индейскому подсечно-огневому земледелию в том виде, в каком пионеры застали его у ирокезов. Земледелие с переносом полей и без унавоживания почвы не всегда экологически разрушительно, по крайней мере до тех пор, пока людей не так много и земли у них достаточно. Ситуация изменилась, когда это полукочевое хозяйство соединилось с капиталистической корыстью, ориентацией на рынок, введением монокультуры и демографическим давлением. Тогда между экологически неустойчивыми элементами сельского хозяйства и американской экспансионной динамикой возникла синэргия. Позже, в эпоху коммерческих удобрений, вся проблема была переформулирована из экологической в экономическую: речь шла уже не о восстановлении естественного плодородия, а о том чтобы сделать почвы пригодными для выращивания определенных культур, а это было вопросом денег и искусственных удобрений.
Процесс, сочетавший истощение почв и экспансию, вступил в критическую фазу после того, как пионеры перешагнули Аппалачи, а затем Миссисипи, и вторглись в экологически неустойчивые степные ландшафты Великих равнин. Лишь после этого их глазам открылись гигантские просторы Запада. Зато за ними уже не было далей, куда можно было двигаться после того, как все новооткрытые земли были бы заняты и истощены. Первыми, кто пересек Средний Запад, были не плантаторы, а скотоводы со своими стремительно растущими стадами. Экологическая катастрофа наступила для них довольно скоро – после того, как экспансия достигла своих естественных пределов. В ковбойском менталитете не было места заботам о завтрашнем дне. Уже в 1880-е годы, всего лишь через 10–20 лет после того как ковбои покорили Великие равнины, скотоводство вследствие безудержного перевыпаса потерпело крах. После нескольких шедших друг за другом холодных зим землю покрыли тысячи трупов оголодавших и замерзших коров и быков. Причины этого фиаско можно было искать в дефиците имущественных прав (property rights), и объяснить недостаток предусмотрительности тем, что многие фермеры не имели закрепленных прав собственности на свои пастбища. Но в рузвельтовском Новом курсе возобладала точка зрения, что Великие равнины есть общее достояние, требующее государственного контроля. В 1934 году Конгресс США принял решение о создании Национальной службы выпаса (National Grazing Service) для предотвращения перевыпаса и истощения почвы (см. примеч. 54).
Тогда же произошел еще один серьезный кризис, связанный с продвижением пионеров на Среднем Западе: в 1934 году началась эра «пыльного котла» (Dust bowl) – опустошительных пыльных бурь. Феномен массового исхода потерявших свои земли фермеров (exodusters) вошел в американскую литературу и кино. Пыльные бури стали травмой, ознаменовавшей целую эпоху в американском экологическом сознании, и послужили стимулом к исследованиям почвенной эрозии во всем мире. Газета «Fortune» писала, что катастрофа пыльного котла стала кульминацией «всей трагической истории американского сельского хозяйства, корни которой скрыты в самом первом злоупотреблении почвой» (см. примеч. 55).
Позже, когда хлебные регионы Среднего Запада благодаря более влажным годам и искусственному орошению вновь стали давать богатые урожаи – правда, со все большим применением минеральных удобрений – оказалось, что вызванные пыльными бурями нарушения не были необратимыми. Так какая же катастрофа породила «пылевых беженцев» – экологическая или, скорее, экономическая и социальная? Джон Стейнбек в своем классическом романе о беженцах «Гроздья гнева» представил их, согнанных с земли мелких и средних фермеров, добросовестными и заботливыми хозяевами, чья солидарность могла бы спасти и их самих, и Америку. Всю вину за случившиеся с ними беды Стейнбек возложил на крупных капиталистов-аграриев и связанные с ними банки. Однако многие другие считали, что жертвы пыльных бурь сами виноваты в своих несчастьях. Американский критик и журналист Генри Луис Менкен, считавший образцом солидного крестьянства «пенсильванских немцев» (Pennsylvania Dutch), называл «пылевых беженцев» «фермерами-мошенниками», которые, разграбив почвы, хотели подвергнуть той же процедуре налогоплательщиков (см. примеч. 56).
Очевидно, существует не единственная история «пыльного котла», а целый ряд возможных историй[170]: можно интерпретировать пыльные бури как наказание за первородные грехи сельского хозяйства янки и безудержную жадность, но можно видеть в них наказание за недостаточное рвение в модернизации. Для одних частей Великих равнин можно было рекомендовать крупные ирригационные проекты, для других – возвращение к пастбищному хозяйству, теперь под государственным управлением. Но не все были согласны признать пыльный котел основанием для масштабной государственной интервенции в духе Нового курса. Джеймс С. Мэлин – редкий пример историка, оказавшего влияние на формирование экологических теорий, – собрал обстоятельные указания на то, что для Великих равнин пыльные бури – совершенно нормальное, наблюдаемое с незапамятных времен, природное явление, они переносят частицы почвы, но не разрушают ее. Мэлин жаловался на то, что поиск доказательств и фактов в этом направлении блокирует «пропаганда для оправдания гигантских программ по управлению природными ресурсами». Он и его сторонники считали, что нет никакого смысла возвращаться к якобы естественному экологическому оптимуму Великих равнин, поскольку исходное состояние здесь давным-давно изменено индейским огневым хозяйством. И нет весомых причин, почему бы белым людям не использовать Равнины для своих надобностей, как это до них делали индейцы (см. примеч. 57).
Но этот отпор экологическому фундаментализму еще не означал, что хозяйственные методы на американском Западе обещали долгосрочный успех. С позиций сегодняшнего дня технократический оптимизм Нового курса с его гордостью за гидроэлектростанции долины Теннеси лишь сбил с истинного пути нарождавшееся экологическое сознание. В последнее время заявляет о себе точка зрения, что самая страшная экологическая проблема Запада состоит не в засухах и пыльных бурях, а в скоропалительных проектах по борьбе с ними. Речь идет о гигантских водохранилищах и ирригационных сооружениях, несущих угрозу грунтовым водам и чрезвычайно сомнительных как с экологической, так и с экономической точки зрения. Когда-то, в XIX веке, крупные железнодорожные компании и работавшие на них журналисты вели настоящую пропагандистскую войну против распространенного тогда убеждения, что безлесные пространства Запада представляют собой сплошную пустыню. Эти земли – все, что угодно, но только не пустыня, в будущем они станут житницей, центральным ландшафтом нации. Теперь, наоборот, серьезно обсуждается, не будет ли оптимальным признать этот ландшафт пустыней. Согласно одному из расчетов, из-за экстремально высокого испарения в жарких пустынных регионах для их орошения требуется в 10 тыс. раз больше воды, чем в более влажных местах! (См. примеч. 58.)
Примером, противоположным практике разграбления почв, служили группы немецких переселенцев, которые и в американских условиях – а жили они в очень разных регионах от Пенсильвании до Техаса – сохранили принципы центральноевропейского сельского быта, в том числе менталитет оседлости, и придавали большое значение качественному удобрению, соблюдению севооборота и бережному обращению с лесом. Перед глазами американских ученых-аграриев также был европейский идеал баланса между полем, лесом и пастбищем. Однако гордостью американских фермеров был и остается забор (fence), а не навозная куча (см. примеч. 59). Типичный дом американского фермера построен, в отличие от крестьянского дома старой Европы, без расчета на будущие поколения.
В России, где был примерно такой же переизбыток земли, как в Северной Америке, а мужик, то есть крепостной крестьянин, был мало заинтересован в культуре обращения с почвой, господствовал отчасти архаичный, отчасти колониальный стиль обращения с почвами, в некоторых отношениях сравнимый с американским. В отдаленных регионах, особенно новоосвоенных, вплоть до XX века пренебрегали и удобрениями, и севооборотом. После того как почва истощалась, ее оставляли и распахивали новые земли. Животноводство, за исключением овцеводства, в общем было развито слабо. Русский историк Ключевский говорил о своеобразном таланте древнерусского крестьянина «истощать землю». Но может быть, 10-летней или даже более долгой залежи хватало для восстановления плодородия? Если с точки зрения современной экономики повсеместная инерция и вялость были кошмаром, то это вовсе не означало их вредоносности для окружающей среды. Экологическая история России еще практически не изучена. Правда, четко просматривается тяжелый экологический ущерб, который был нанесен освоением земель южнорусского степного пояса с XVII века. Обширные, когда-то плодородные земли вследствие эрозии потеряли свою ценность для земледелия. В Черноземье с его изумительным плодородием почвы вообще не удобрялись: навозом здесь топили, как в Индии и Внутренней Азии. Особенно бесконтрольным и эксцессивным было подсечно-огневое земледелие в Сибири (см. примеч. 60). На свой лад, но огромная Российская империя склонялась примерно к той же модели истощительного хозяйства, как и Северная Америка. Обеим мировым державам XX века не хватало традиций практического почвенного сознания, несмотря даже на то что в науке о почвах Россия стала мировым лидером.
Метафизический природный романтизм, напротив, присущ американской культуре не меньше, чем Старому Свету. Однако страстная любовь американцев к дикой природе била мимо целей устойчивой экономики. Энтузиазм в отношении «нетронутой» природы не помогал ни сажать лес на вырубках, ни контролировать сами рубки. Лесной житель и отшельник Генри Торо[171] проповедовал крайнюю степень индивидуализма, а вовсе не регулирование. Лесная романтика и крупномасштабные рубки в США существовали параллельно, так же как романтика индейской жизни и геноцид индейцев. Токвиль[172] полагал, что американские леса вызывали столь романтические чувства потому, что все знали – в скором времени их не будет (см. примеч. 61).
Тем не менее романтизм дикой природы не остался бездейственным. Его практическим воплощением стало движение национальных парков, родившееся в США и разошедшееся по всему миру. Правда, во многих случаях оно соответствует колониальному типу охраны природы, насаждаемому из метрополий вопреки воле местных жителей. Не только хозяйство янки, но и американский тип экологического сознания продолжает в какой-то мере колониальные традиции.
6. К ВОПРОСУ ОБ ОСОБОМ ПУТИ ЕВРОПЫ В ИСТОРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛОНИАЛИЗМА ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ
О том, какие именно особенности доиндустриальной Европы позволили ей в Новое время обогнать другие части света, спорили и рассуждали очень много, однако согласия так и не достигли. Первое время секрет искали в более раннем и успешном развитии экономики и науки, промышленности и технологий. Однако до начала Нового времени немало преимуществ имел Китай. В период холодной войны, когда господствующей доктриной под руководством США стала идеология «свободного мира», особым качеством Запада считалась свобода – политическая и духовная. Однако традиция свободы в ее современном понимании имеет не слишком глубокие исторические корни. Еще более поздний тренд был направлен на поиски особых качеств Европы в сфере связей, институций и правовых норм. Здесь фундамент кажется более солидным. На первом месте – частное имущественное и наследственное право: его истоки уходят далеко в доиндустриальную историю, вплоть до Античности. Но и в незападных цивилизациях существовали долгосрочные права пользования – если не де юре, то де факто.
Экологическая история проливает новый свет на многое. Такие этнологи, как Марвин Харрис и Джаред Даймонд, подобно Кросби и Эрику Л. Джонсу, указали на то, что по сравнению с Америкой, Африкой и Австралией природа наделила Евразию решающим преимуществом: многообразием видов растений и особенно животных, пригодных для доместикации и введения в культуру (см. примеч. 62). И вовсе не летаргическая вялость лишила этого преимущества другие народы. Дело в том, что большинство видов диких зверей не поддается одомашниванию. Значительное число доместицированных животных позволило Европе задолго до индустриальной эпохи опередить культуры Древней Америки, а до некоторой степени также Индии и Китая, в освоении источников энергии. Правда, с экологической точки зрения это не автоматически означает преимущество: воловья упряжка и тяжелый плуг гораздо опаснее для почвы, чем мотыга и лопата, а выпас скота повреждает лес и растительный покров. Кроме того, в отношении культурных растений азиатские регионы сначала опережали Запад.
Тем не менее нетрудно объяснить, почему со временем Европа опередила Ближний Восток – родину земледелия: на значительной части Европы экологические условия гораздо более стабильны, чем на Ближнем Востоке, опасность истощения почв, эрозии, остепнения и засоления здесь несравнимо ниже. Там, где весь год более или менее равномерно выпадают осадки, не нужны рискованные ирригационные системы наподобие тех, которые на Ближнем Востоке вызвали кризис земледелия на высшей точке его расцвета. Еще один важный фактор, в котором задействованы как природа, так и общество, – на большой части Европы успешнее, чем в других частях планеты, могла осуществиться экологически благоприятная комбинация земледелия и животноводства. Повсюду, где распространен кочевой образ жизни, пашни и пастбища социально разделены. Земледельцы не получают выгоду от разведения столь полезных верблюдов. Набеги кочевников часто ослабляли земледельцев. Там, где нет леса, помет животных часто используют как топливо. Кроме того, в жарких регионах навозные кучи вызывают неприятие еще и как рассадник инфекций. На почвах, не выдерживающих тяжелый плуг, отсутствует главный стимул к содержанию крупного скота. И еще одно: пасторальный, то есть пастбищный, элемент европейского сельского хозяйства оставлял гораздо больше пространства для экологических резервов, чем интенсивное рисоводство Восточной Азии. Хотя здесь требуется осторожность – не стоит идеализировать равновесие между полем, лесом и пастбищем в Европе!
Комбинация земледелия и выпаса – вопрос не только природных условий, но и социальных и правовых структур, официальных и неофициальных социальных институтов, от трехпольной ротации до феодальных сборов. Это подводит нас к вопросу о том, существует ли особый экологический путь Европы на институциональном уровне. В действительности на это есть немало указаний. Основополагающее условие истории Европы проявляется и здесь. Речь идет о знаменитом «единстве в многообразии» – множественности источников власти и права в совокупности со все более активной коммуникацией и стремлением к правовому решений конфликтов, вопреки всем стычкам и войнам. Безусловно, европейские правовые традиции не со всех точек зрения были экологически благоприятны. С точки зрения африканцев, уважение к правам собственности, глубоко укорененное в европейской и особенно английской правовой традиции, намного лучше защищает индивидуальные свободы от государства, чем общественное достояние от частных вторжений (см. примеч. 63). Везде, где охрана окружающей среды не сводится полностью к сохранению множества отдельных мелких хозяйств в интересах частных лиц, а требует защиты общественного достояния от частной корысти, она отрицательно сказывается на защите личных свобод.
Однако Европа обошла большинство регионов мира и в развитии надлокальных, территориальных и национальных институтов и лояльностей. Европейский процесс легализации, то есть оформления всего и вся в виде прав и обязанностей, повлиял на сферу не только частной, но и общественной жизни. Идет ли речь о salus publica Древнего Рима, bonum commune средневековой схоластики или gemeine beste Германской империи – защита общественного достояния имеет в европейском правовом мышлении давнюю традицию, даже если определение «общественного интереса» считалось столь же сложным, как восхождение на северную стену Эйгера[173]. Однако и то, что это определение никогда не закреплялось раз и навсегда, а всю историю оставалось предметом обсуждения, не означает ничего дурного.
Не способствовала охране окружающей среды и недостаточная развитость права частной собственности в других регионах. Как говорят о решении экологических и сельскохозяйственных проблем в Сирии: такие «задачи, с которыми может справиться своими силами один человек или одна семья», как, например, уход за деревьями в роще или углубление колодца, решаются, «как правило, превосходно». «Организованные общественные действия, напротив, понимания у сирийцев не находят». Примерно то же относится и ко многим другим регионам. Даже про китайцев с их тысячелетней государственной преемственностью Линь Юйтан[174] еще в 1930-е годы утверждал, что де факто лояльность распространяется здесь исключительно на семью и граница ее проходит уже перед соседским порогом. По его мнению, китаец поддерживает в своем доме чистоту, но мусор выметает под дверь соседа (см. примеч. 64).
В начале Нового времени лояльность к государству и в Европе была скорее идеалом, чем реальностью. Эффективное внедрение ее стало успешным лишь в процессе формирования национальных государств и бюрократизации. Но и этот процесс сам по себе нельзя считать экологически благоприятным. Еще и в Новое время проблемы окружающей среды часто было легче всего решить на местном уровне; действия более высоких инстанций часто носили лишь символический характер. «Хорошо организованная деревенская община могла гораздо лучше обеспечить сохранение леса согласно своим нуждам, чем финансово слабая власть с большими претензиями на слишком малой территории». Подобные традиции сельского управления наличествовали во многих европейских регионах; их юридическое оформление осуществлялось на нескольких уровнях, как устно, так и письменно. Но так или иначе, Европа в целом гораздо лучше остального мира была оснащена для тех случаев, когда для решения экологических проблем требовалось вмешательство надсемейных инстанций (см. примеч. 65).
Лучшей иллюстрацией всего этого служит история леса. Отсутствие источников о нарушениях лесов в большинстве неевропейских регионов доколониального периода очень красноречиво. Оно свидетельствует о том, что там не было инстанций, которые специализировались бы на наказании за такие нарушения. Связь между лесом и властью предстает как феномен именно Центральной и Западной Европы, сравнение с остальным миром доказывает это с поразительной четкостью. Не стоит абсолютизировать экологические заслуги подобной связи, ведь нередко та самая власть, которой полагалось охранять лес, становилась крупнейшим его потребителем. Однако не только она извлекала выгоду из легализации лесопользования; таким образом обретали защиту против засилия верхов и другие лица и инстанции, имевшие доступ к лесным ресурсам. Именно здесь кроется главное: разнообразные лесопользователи могли отстаивать свои права на лес с помощью легальных средств. Постоянное выяснение отношений обостряло глаз и учило различать мельчайшие детали происходившего в лесах, а это способствовало развитию лесного сознания со всеми вытекающими из него практическими последствиями.
В искусстве устойчивого сельского хозяйства первенство во многих отношениях принадлежит китайцам, в течение тысячелетий они совершенствовали его и достигли в этом больших высот. Однако в защите леса и комбинации земледелия с животноводством расстановка сил была иной. Есть и еще один уровень самоуправления, менее формальный и более интимный, на котором европейские регионы, видимо, с давних пор имели важное для экологического баланса преимущество перед высокими культурами Восточной Азии и других густонаселенных регионов. Речь идет об ограничении прироста населения благодаря таким институтам, как поздний брак, снижение числа браков согласно средневековой заповеди «нет земли – нет брака», дискриминация незаконнорожденных детей, контрацептивные сексуальные практики и, вероятно, скрытые детоубийства, в особенности девочек. В XVII веке впервые регистрируется «западноевропейская модель позднего брака и относительно высокий процент безбрачия», в XVIII веке Франция, в то время ведущая европейская держава, становится страной – законодательницей контрацепции. Ограничение числа детей было уже не только ответом на гнетущую нужду, а все больше служило средством стабилизации уровня жизни (см. примеч. 66).
Каковы же были на этом фоне последствия колониализма для европейских метрополий? Относилось ли к Европе то описанное Гроувом экологическое сознание, которое получило развитие в кругах колониальной администрации? Рассмотрим сначала Испанию – первую колониальную державу Европы, а затем Англию – ведущую мировую державу наступившего империализма.
В Испании непосредственным следствием колониальной экспансии был расцвет отгонного животноводства, получившего в то время полную свободу от былых ограничений. Колониализм привел к тому, что экономическая политика Испании переориентировалась с натурального хозяйства на внешнюю торговлю, причем в такой степени, что это подорвало жизненные основы страны. Экспорт ценной мериносовой шерсти приносил Британии максимальный доход, и поэтому Места[175] с момента своего учреждения в 1273 году постоянно получала государственную поддержку за счет нужд земледелия. «Напрасно местные общины огораживали принадлежавшие им поля. Пасущихся овец сопровождали судьи, и в силу привилегий Месты любые споры решались в пользу овцеводов» (см. примеч. 67).
В XVI веке привилегии Месты встретили сопротивление кортесов, испанских сословно-представительных собраний, в XVIII веке последовала резкая критика со стороны физиократов, которым в конце концов удалось добиться ее запрета. После этого Места стала считаться проклятием Испании, «чудовищной узурпацией» и «самым страшным бичом», «какому когда-либо и где-либо подвергалось сельское хозяйство». Именно на нее возложили ответственность за упадок испанской экономики и оскудение ландшафта. В последнее время 3 млн овец, ежегодно «опустошавших» Кастилию, упоминаются в качестве примера экологического «самоубийства» региона через перевыпас (см. примеч. 68). Правдоподобна ли такая картина?
Дуглас С. Норт, глава институциональной школы экономики, считает Месту воплощением роковой институции, негативным доказательством учения о ведущей роли институций. Но это суждение сделано с позиций экономического роста. С экологической точки зрения не все так однозначно. Испанское отгонное животноводство представляет собой особенно яркую иллюстрацию к проблеме постановки ценностей в истории среды. Пастбище как таковое ничем не хуже поля или леса, в отношении биоразнообразия и охраны почв оно даже может дать им фору. Многие пастбища вовсе не так необитаемы, как кажется издали. В историческом контексте испанское отгонное животноводство не выглядит экологическим самоубийством: для этого оно было слишком долговечным, в том числе и после запрета Месты. Уже в XVI веке численность овец пошла на убыль: признак того, что хозяйство стало постепенно входить в соответствие с емкостью пастбищ. Настаивая на сохранении залежей и тормозя тем самым интенсификацию сельского хозяйства, Места навлекла на себя проклятие аграрных реформаторов, но не обязательно экологов. Кроме того, после отмены привилегий Месты испанское отгонное животноводство стало более внимательным к интересам крестьян. Сегодня историк ошеломленно наблюдает, как оставшееся еще в Испании отгонное животноводство набирает популярность не только у природоохранников, но и у крестьян! Природоохранники называют его «великим походом за природу» и «наиболее экологичной формой животноводства», а крестьяне торжественно приветствуют отары овец, вновь пустившиеся в путь по своим древним маршрутам! (См. примеч. 69.)
Если сегодня экологическую историю Испании со времен Реконкисты[176], а иногда и ранее, считают трагической, несмотря даже на то что испанская флора по разнообразию видов занимает первое место в Европе, то аргументом для этого служит в первую очередь утрата лесов. Считается, что когда-то, в Средние века или еще до них, большая часть Пиренейского полуострова была покрыта лесами, тогда как сегодня обширные районы во внутренней части страны кажутся путешественнику с Севера почти пустыней. Напрашивается гипотеза о неслыханном для Европы экологическом фиаско, а вместе с ней приходит подозрение – может быть, колониализм послужил причиной не только упадка экономики, но и небрежительного отношения испанцев к окружающей среде? И в самом деле, Фердинанд и Изабелла наделили Месту привилегией рубить «небольшие деревья» на корм овцам. В XIX веке, в эпоху создания искусственных лесов, испанцы слыли заклятыми врагами лесов. Руководитель Лесной академии в Тарандте Карл Генрих фон Берг видел у испанцев, в особенности у кастильцев, «присущую этому народу ненависть к деревьям», позволявшую им спокойно наблюдать за тем, как тысячи коз «отвратительно обгладывают леса», и объяснял ее происхождение однобокостью интересов выпаса и земледелия. Джордж П. Марш находит подтверждения «вошедшей в поговорку ненависти испанцев к деревьям» уже в XVI веке и считает испанцев единственным в Европе народом, который не занимался ни охраной, ни созданием лесов и даже, наоборот, вел «систематическую войну против сада Божьего» (см. примеч. 70).
Очевидно, во многих случаях уничтожение лесов явно не управлялось сверху. В испанской истории также нет недостатка в королевских установлениях по защите леса. Как и в Центральной Европе, они появляются в XIV веке и достигают кульминации в XVI веке при Карле V и Филиппе II. Филиппа, любителя королевских лесов и фландрских садов, его биограф Генри Кэмен назвал даже «одним из первых экологических правителей»! (См. примеч. 71.) Но и в период расцвета лесной политики ее практическое воплощение, видимо, было ничтожным.
Вероятно, не только власть Месты, но и колониализм был виновен в том, что испанцы так мало ценили лесные ресурсы своей страны. Уже с XVI века Испания получала корабельный лес из Центральной Америки, в первую очередь с Кубы. Лишь в 1748 году, когда морское величие Испании уже давно ушло в прошлое, был издан «Приказ о защите и поддержке корабельных лесов» с подробными предписаниями о создании искусственных лесов, который в некоторых районах Кастилии встретил сопротивление. В XIX веке испанская лесная политика следовала немецким моделям, но именно в тот период либерализация лесного хозяйства привела к самым мощным в новой истории страны вырубкам (см. примеч. 72).
Однако история испанских лесов Нового времени состоит не только из поражений. С победой Реконкисты во многих провинциях появились отвергаемые исламом свиньи. Здесь, как и повсюду, откорм свиней стал сильнейшим стимулом к сохранению дубрав. К нему добавился мотив производства пробки из коры пробкового дуба. Мир этих дубрав резко отличается от мира овечьих пастбищ, в нем нет ни следа от испанской неприязни к деревьям. Кроме того, лесное хозяйство при составлении своих отчетов обычно обходит своим вниманием «маторраль» (matorral), кустарниковые заросли, похожие на французский маквис. Масштабам лесного хозяйства они не соответствуют, однако экологи ценят их сегодня больше, чем многие недавно посаженные искусственные леса. В 1985 году испанские защитники природы окружили живой цепью бульдозеры, которые должны были перекопать и подготовить к лесопосадкам поросшие маторралем участки! (См. примеч. 73.)
Германской части Европы сегодня приписывается особенно высокая степень лесного сознания. Тем сильнее бросается в глаза, что в Новое время, когда в Центральной Европе усилилось стремление к охране леса, из всех стран северо-запада именно Нидерланды и Англия, мировые колониальные державы, интересовались лесами меньше всего. Голландия стала одной из самых безлесных стран, зато в Германии «голландская» лесоторговля была крупнейшим в XVIII веке лесным бизнесом. У колониальных держав хватало средств для импорта леса из Центральной Европы, Скандинавии, Прибалтики, а также из-за океана. Судя по таможенным регистрам, объем леса, перевозимого в западном направлении через Датские проливы, с XVI до XVIII века вырос в 80 раз (см. примеч. 74).
В 1664 году в Англии была издана «Сильва» Джона Ивлина – самый известный в XVII веке призыв к выращиванию лесов. Более 100 лет эту книгу переиздавали, цитировали и переписывали под разными именами. Тем не менее на Британских островах посадки леса так и остались «скорее джентльменским хобби, чем серьезным бизнесом». С XVIII века английские поэты и художники-пейзажисты воспевали лес не меньше, чем немецкие романтики, но эта любовь принесла больше пользы паркам, чем сплошным высокоствольным лесонасаждениям. Правда, в то время в Англии, видимо, были еще широко распространены дровяные низкоствольные леса. Их устойчивость обеспечивалась характерным способом пользования – периодическими рубками с оставлением на корню ствола и крупных ветвей, дававших новые побеги. Лишь каменный уголь уничтожил мотив к сохранению низкоствольных лесов (см. примеч. 75).
К экологическим последствиям колониализма нужно отнести и импорт гуано из Перу, начатый Англией около 1840 года. С этого времени сельское хозяйство уже не стремилось к балансу между земледелием и выпасом скота. Дефицит удобрений, то есть недостаток природной устойчивости, можно было восполнить за счет гуано. Теперь стало возможным и триумфальное шествие ватерклозета, лишившего сельское хозяйство человеческих экскрементов. Но гуано восстанавливалось бесконечно медленнее, чем его добывали в те годы. В глазах Либиха британское сельское хозяйство было вершиной аграрного хищничества, а гуано лишь прикрывало давно наступивший экологический кризис (см. примеч. 76).
Остановимся и на огораживании открытых прежде полей для целей овцеводства и интенсификации сельского хозяйства[177]. Этот процесс начался в XVI веке и достиг кульминации во второй половине XVIII. Он тоже относится к последствиям колониализма (по крайней мере косвенным) и вызванного им усиления ориентации на внешнюю торговлю. До середины XVIII века огораживания проводились в основном соответственно частным соглашениям и вызывали недовольство со стороны государства. Но примерно с 1750 года этот процесс стал определяться актами Парламента и принял такие масштабы, что «в революционном темпе» изменил английский ландшафт. Высокие доходы от торговли шерстью и в Испании, и в Англии дали сильнейший толчок развитию овцеводства. В обеих странах социальные затраты на рост овечьих отар вызывали яростные споры, уже в «Утопии» Томаса Мора (1516) звучала жалоба на то, что овцы притесняют людей. Понятие «общественного блага» в Англии возникло как лозунг против огораживаний (см. примеч. 77). Однако экологические последствия шерстяного бума в Англии резко отличались от испанских: здесь, в условиях набирающего силу права частной собственности, он привел не к расширению коллективных пастбищ в ущерб земледелию, а наоборот, к сочетанию овцеводства и земледелия на ограниченном пространстве и с полной свободой действий землевладельца.
Прежние общинные поля с их обязательным севооборотом и обширными пастбищами, вероятно, наносили не такой вред плодородию почв, как утверждали авторы аграрных реформ. Тем не менее можно допустить, что экологический баланс благодаря огораживанию был в целом улучшен. Легче стало собирать столь ценное удобрение как овечий помет, а живые изгороди, ставшие еще более ярким элементом английского ландшафта, по сей день не только радуют любителей природы, но и служат источником древесины. Автор немецкой экономической энциклопедии Иоганн Георг Крюниц писал в 1789 году, что хотя англичане и вырубили все свои леса, но не ощущают дефицита дерева, так как все их поля окружены «живыми изгородями и деревьями». Правда, как замечали уже некоторые современники, интенсификация земледелия в некоторых местах повысила угрозу сверхэксплуатации почв. Прежде, когда ориентация была в основном на натуральное хозяйство, а не на рост, такая опасность была ниже. В целом коммерциализация английского сельского хозяйства привела к повышению специализации, а вместе с тем разделила земли на «пахотные» (arables) и «пастбищные» (pasturables). Немецкий специалист по аграрным реформам Таер критиковал такую систему за потерю большого количества удобрений. Экологические возможности огораживания были перечеркнуты тенденцией к разделению труда в сельском хозяйстве (см. примеч. 78).
Особый путь Европы в лесном хозяйстве с его направленностью на устойчивость не так заметен в Испании, Нидерландах и Англии, как во Франции, а прежде всего в Центральной Европе. Германия, среди прочего и потому, что она дольше других не имела колоний и полностью зависела от собственных ресурсов, стала родиной разведения высокоствольных лесов. Преимущества децентрализации в Германии были выражены ярче, чем в странах, ранее ставших национальными государствами. Здесь могли развиваться различные региональные теории и практики лесоводства, в то время как во Франции попытка введения централизованной лесной политики, начатая при Кольбере, имела менее серьезные перспективы. Дихотомия между «научным» лесоводством и локальным эмпирическим опытом в Германии была не столь резкой, как во многих других странах.
Итак, особенности развития Европы вывели ее вперед не только в экономическом, но и в экологическом отношении. Несколько нарушил эту картину колониализм, открывший границы для ресурсов. Но и преимущества Европы в сочетании с экономической динамикой несли в себе угрозу. Европейские условия гораздо лучше, чем условия других цивилизаций, смягчили и скрыли опасности экономического роста и тем самым способствовали полному высвобождению этой динамики. Только у экологически грубого, относительно устойчивого к кризисам сельского хозяйства могли появиться беспримерные в истории амбиции в получении урожая. Только в регионах с обширными лесами и стабильным лесным хозяйством металлургия смогла выйти на такой путь, который позволил ей расти вплоть до массового внедрения нового ресурса – каменного угля, открывшего, в свою очередь, перспективы нового роста. Только полноводные земли могли породить такой тип индустриальной цивилизации, для которого совершенно естественно потреблять гигантские объемы воды, а в тяжелые времена даже перебрасывать ее в засушливые регионы. Только страны с дееспособными коммунальными и региональными институтами, способными смягчить, если не ликвидировать, экологические последствия от развития промышленности, смогли так провести индустриализацию, что она не удушила саму себя, а набрала силу и популярность. Экологические пределы экономического роста были таким образом не устранены, но отодвинуты и завуалированы. Соответственно чувство относительной безопасности, которое сумели создать европейские институты в союзе с более или менее стабильными экологическими условиями, есть не более чем обманка. Обманчива и привлекательность «европейской модели» для остального мира. Пока мы мыслим исключительно в экономических категориях, мы можем сколько угодно считать Европу примером для подражания. Но с экологических позиций ясно, что многое в успехе Европы объясняется ее уникальными условиями и что для других стран попытки подражать ей могут оказаться дорогой в никуда.
V. У пределов природы
1. АТАКА НА ПОСЛЕДНИЕ РЕЗЕРВЫ
Понятие «индустриальной революции» стало старомодным, но не стоило его затаскивать. Безусловно, фабрики открыли новую эру. Одна из дефиниций произошедшего в то время уже утвердилась в экологической истории: переход от энергии Солнца к ископаемым источникам как центральное событие и суть всего процесса. Но хотя в конечном счете это главное, начиналась индустриализация не с угля. Роль, которую сыграл в индустриальной революции паровой двигатель, работавший на каменном угле, часто переоценивали. Впечатление от него было настолько сильным и стойким, что серьезно исказило понимание хода вещей. Но у истоков индустриализации стоит не новый энергоноситель. В задачи экологического историка не входит укрепление той картины истории, которая в 1950-е годы привела к ложным надеждам на ядерную энергетику. Даже в Англии, а тем более в континентальной Европе, индустриализация в начале своем опиралась в значительной степени на дрова, энергию воды, животных и человека и сопровождалась усилиями по максимально полному использованию возобновимых ресурсов. Не в последнюю очередь этим объясняются основные принципы той эпохи. Автор английских аграрных реформ Артур Юнг в 1773 году клеймит «чудовищный процент» залежей на Британских островах, называя его «позором для национальной политики» (см. примеч. 1).
Нужно ли думать, что сутью происходящего были тенденции развития капитализма? Такое объяснение недостаточно. Капитализм как таковой, а именно индивидуальное стремление к максимизации прибыли, не учреждает ни общество, ни культуру. Капитализм сам по себе скорее антисоциален и достаточно часто демонстрировал эту свою особенность. Чтобы стать частью системы, способной конституировать пространство, он нуждается в общественных и политических приложениях, а они в истории человечества были очень разными. Различия эти касаются и последствий для окружающей среды. В Европе капитализм, даже в городах, столетиями развивался в связке с феодальными структурами: богатые предприниматели в типичных случаях искали покоя и безопасности на купленной ими земле и уютно обустраивались в сельских поместьях. Еще в начале XVIII века владельцы частных капиталов не слишком увлекались затратными техническими инновациями, не любили вкладывать капиталы в дорогостоящие фабричные сооружения, предпочитая иметь как можно меньше фиксированного капитала. Строительство крупных мануфактур и мощных механизмов было скорее стилем честолюбивых суверенов, которые не вели точных расчетов доходов и расходов. И прежде всего от них же исходили честолюбивые устремления полного освоения всей территории.
Для «протоиндустриализации» XVIII и начала XIX веков была характерна тенденция ухода из городов, резко контрастировавшая с более поздней индустриальной агломерацией. Эта тенденция объяснялась прежде всего распространением природных ресурсов. В доиндустриальную эпоху количественный рост, переступив известные границы, неизбежно приобретал центробежные тенденции. Беспрепятственное продвижение протоиндустриализации полностью зависело от поддержки суверенной власти: ведь многие города старались подавлять развитие сельских ремесел в своих окрестностях. Увеличению численности сельской бедноты, неспособной прокормиться только за счет земли, способствовала государственная демографическая политика, нацеленная на рост населения: борьба против традиционных сословных брачных запретов, детоубийств, оспы и дискриминации незаконнорожденных детей.
Как замечает историк леса Адам Швапах, еще в XVIII веке в Германии имелись «огромные безлюдные пространства», принадлежавшие суверенной власти (см. примеч. 2). До этого времени из-за слабого развития транспортной сети большая часть Германии, Европы, да и мира была практически недоступна для надрегиональной торговли. Затем ситуация начинает меняться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Рост и уплотнение транспортной сети придали экономическим процессам, прежде связанным с конкретными городами и торговыми путями, всеобъемлющий характер. Показательно, что в том же XVIII веке начинается эпоха точного картирования местности. Экономические и технические процессы, поначалу несвязанные, все больше проникают друг в друга, возникают синэргетические эффекты. Первой кульминацией в процессе развития всеобъемлющих сетевых структур становится строительство железных дорог.
Особенно серьезные последствия для истории окружающей среды имел характерный для того времени натиск на последние резервы природы, стремление использовать все без остатка. До середины XVIII века авторы трудов о берегах Одера радовались обилию рыбы в его сырых низинах. Теперь прусские инженеры-гидравлики увидели в этих природных условиях вызов для себя – здесь должна быть дамба. Типичной целью стало освоение торфяников, болот и речных долин, в XVIII веке этим занимались от Пруссии до Папской области[178]. Вспомнив о том, что в это время происходило в Китае, можно признать атаку на последние резервы всемирной тенденцией. Несколько современных всемирных исследований относят экологические проблемы, возникшие вследствие освоения белых пятен аграрного ландшафта, примерно к 1700-м годам (см. примеч. 3). Уплотнение всемирных сетей усиливает синхронизм идущих процессов. Во многих частях Евразии эпохальной инновацией становятся кукуруза и картофель – важнейшие продукты американского аграрного импорта. Их выращивание приводит к тому, что почвы, прежде знавшие лишь экстенсивный способ хозяйства, используются теперь интенсивно. «Картофель дает нам мужество и надежду пережить неурожайные годы, – ликовал трансильванский педагог и реформатор Штефан Людвиг Рот. – Его цыганская природа и развитие под землей обещает нам помощь». В отличие от хлебных злаков, картофель не боится града, однако, как доказал ирландский голод, подвержен другим рискам. В Пиренеях и Альпах, а позже даже в Гималаях, появление картофеля способствовало росту плотности населения, что, в свою очередь, приводило к сверхэксплуатации лесов и лугов (см. примеч. 4).
Тяжелый плуг с железной полевой доской, который для Линна Уайта служит основанием относить аграрную революцию к началу Средних веков, широко распространился в Европе, вероятно, только в XVIII веке. Это могло стать причиной резкого усиления эрозии, наблюдаемого в тот период. Прежде недоступные питательные вещества почвы теперь оказались мобилизованы. Засеивание пара и залежи в ходе проведения аграрных реформ ликвидировало имманентно присущую традиционному сельскому хозяйству систему сохранения участков нетронутой природы, так что XVIII век стал переломной вехой и в истории сорняков (см. примеч. 5).
Новое наступление на природу повсеместно сопровождалось усилением мелиоративной деятельности – и орошения, и осушения, и строительства каналов. Пруссия осушала обширные болота, стремясь таким образом получить новые пашни. В Англии, Южной Франции и Средней Швейцарии орошение положило начало эре интенсификации сельского хозяйства. Доход с лугов вырос в 5 и даже 8 раз. Орошение лугов давало возможность увеличить поголовье скота на небольших пастбищах, а это, в свою очередь, приносило больше удобрений. В Центральной Европе с ее обильными дождями крестьяне были вполне в состоянии, как признавал даже один аграрный реформатор, самостоятельно закладывать системы дренажных канав, даже если это втягивало их во множество конфликтов и «порочный круг вечных ремонтных работ». Но более крупные проекты требовали участия государства. Если прежде пионерами политического гидростроительства были в первую очередь Венеция и Голландия, то с XVIII века склонность к гидравлике приобретает вся европейская политика. Правительства Франции строили каналы начиная с эпохи Людовика XIV, это были крупномасштабные престижные проекты, слишком долгосрочные для частных предпринимателей. «Триста лет проектирования плюс еще полстолетия реализации – почти нормальный срок для строительства канала», – замечает французский историк в контексте строительства Бургундского канала. Англия пережила приступ «каналомании» в начале индустриализации, перед тем как заболеть железнодорожной лихорадкой. Правда, затраты на строительство каналов держались здесь в пределах необходимого, а осуществляли его частные компании. Адам Смит считал, что строительство и эксплуатацию каналов вполне могли бы взять на себя акционерные общества, хотя в иных случаях он им не особенно доверял (см. примеч. 6). Еще один «канальный» бум, подземный, произошел уже в эпоху железных дорог. Речь идет о строительстве городских канализаций, которые в конечном счете обострили проблему ликвидации отходов до небывалого прежде уровня.
К этому добавлялась защита от наводнений. В 1711 году, после опустошительного наводнения, Большой совет кантона Берн принял решение перенаправить русло реки Кандер, впадавшей в Аре, в Тунское озеро. Строительные работы принесли драматический опыт общения со своевольной горной рекой, а когда река потекла в Тунское озеро, то наводнения стали грозить уже этому району. С того времени, как венецианцы перенаправили воды реки Бренты, это было первое в Европе мероприятие подобного рода. В сравнении с сегодняшним днем гидростроители еще были проникнуты невольным уважением перед мощью рек.
После 1800 года крупнейшим немецким гидростроительным проектом стала коррекция русла Рейна. Руководил ею инженер Иоганн Готфрид Тулла, закончивший Политехническую школу в Париже (Pariser Ecole Poly technique). Это был проект в духе Наполеона, начал его еще Рейнский магистрат (Magistrat du Rhin), основанный в Страсбурге благодаря Наполеону. В 1807 году Тулла учредил в Карлсруэ новую Инженерную школу, что стало началом крупномасштабного гидростроительства. «Исправление» (Rektifikation) Рейна он считал государственным делом, при выполнении которого нужно было «исходить из целого», вне интересов отдельных партий. На первом месте стояли защита от наводнений и получение дополнительных пахотных земель в долине Рейна. При этом с самого начала была ясна главная опасность – ускорение тока воды в спрямленном русле Верхнего Рейна увеличит угрозу наводнений ниже по течению. С 1826 до 1834 года Пруссия, Гессен и Нидерланды заявляли протесты против строительства, что тормозило проведение работ. Автор одного из них предрекал «жителям Среднего и Нижнего Рейна» «чудовищные последствия» от спрямления верхней части русла. Эти аргументы актуальны и сегодня: излучины рек «нужно понимать как благотворные сооружения природы, которые из-за частых застоев воды существенно смягчают ускорение скорости течения <при высоком уровне воды> и обмеление при низком и таким образом способствуют поддержанию судоходства». К тому же спрямление русла «нанесло бы невероятный ущерб рыболовству. Чем спокойнее течет река, чем больше в ней излучин, а вместе с ними и более глубоких мест, тем больше рыбы мы в ней найдем». Действительно, коррекция Рейна привела к упадку профессионального рыболовства. Но создается впечатление, что рыбаки в то время, после ликвидации их гильдий, не имели институтов самообороны. Иначе дело обстояло на Одере. Около 1750 года здесь также проводились работы по регулированию русла, и рыбаки, имевшие все основания для тревоги, обратились с прошением к королю. Здесь с 1692 года существовала процветающая гильдия «Щукодёров» (Hechtreier) – крупных скупщиков, обработчиков и продавцов рыбы. Новые веяния они восприняли как угрозу своему существованию (см. примеч. 7), но и им не удалось предотвратить освоение болотистых берегов Одера.
Когда в 1772 году Пруссия и Липпе начали совместные работы по спрямлению русла речки Берре, западного притока Везера, большая часть сельских жителей округа Херфорд заявила протесты, объясняя, что «весенние половодья, подобно животворным разливам Нила, одаривают наши земли цветами и ароматными травами». Луга по берегам Верре – «самые благородные, самые щедрые земли» во всем округе Херфорд. Городской врач Георг Вильгельм Консбрух, задумывавшийся о связях между окружающей средой и здоровьем, тревожился о том, что «запертая в узких рамках» река захочет «получить больше места» и будет сильнее разливаться, что и произошло впоследствии (см. примеч. 8). На Верре в мелком масштабе повторились проблемы Хуанхэ!
Прусский советник по строительству Иоганн Кристоф Шлёнбах, отвечавший за продвижение строительных работ на Верре, любые возражения считал проявлением упрямства и тупости. Но не все эксперты того времени с ним соглашались. Ведущий прусский инженер-гидравлик Иоганн Эсайяс Зильбершлаг (1721–1791) выступал за то, чтобы при работах по регулировке рек выслушивать аргументы всех затронутых сторон, и призывал не забывать, что реки, «подобно своенравным друзьям», «готовы к службе лишь настолько, насколько ты с ними деликатен. Если же подойти к ним слишком близко, то мести их не будет конца». Река как одушевленное существо! Дипломатия Зильбершлага напоминает мысли древнекитайских мастеров о том, что рекам, как детям, нельзя затыкать рты. В его глазах истинный эксперт всегда осторожен в обращении с реками. Зильбершлага многие поддерживали. В 1787 году, после катастрофического наводнения на Дунае, венская общественность была убеждена, что русло реки чересчур сужено проведенными незадолго до того работами по укреплению и защите берегов. К этому мнению присоединился и император Иосиф II. Иоганн Тулла, проводивший коррекцию Рейна еще без паровых экскаваторов, осуществлял свои проекты по принципу, чтобы регулируемая река сама прокладывала себе новое русло. Даже по меркам современных природоохранников эта работа носила бережный в экологическом отношении характер. «Процесс остепнения большой части Верхнерейнской низменности» начался лишь в 1920-е годы, когда Франция, опираясь на Версальский договор, приступила к строительству Большого Эльзасского канала (Reinseitenkanal), лишившего «остаток Рейна» значительной части вод. Памфлет 1879 года, критиковавший «противоестественное водное хозяйство Нового времени», отображал контраст между прежним типом регулирования рек, когда еще принимались в расчет различные интересы всех владельцев прибрежных земель, и современной практикой, учитывавшей только одну точку зрения (см. примеч. 9).
Способом сохранения благоприятной окружающей среды могла становиться не только самооборона заинтересованных лиц, но и взаимодействие разных интересов. И традиционные рыбаки, и хозяева водяных мельниц, и пивовары, и крестьяне, занимавшиеся орошением своих лугов, – каждый из них по-своему знал толк в поддержании чистоты и жизнеспособности воды. Недаром немецкий историк техники Гюнтер Байерль писал, что водяные интересы «рыбаков, мельников, землевладельцев, корабелов, пивоваров и проч. и проч.» в доиндустриальное время «были взаимной корректировкой» (см. примеч. 10). Конечно, нет уверенности, что такой баланс интересов всегда обеспечивал устойчивость, однако контраст с индустриальной эпохой, когда множество водоемов превратилось в водосборники для канализационных стоков, кажется колоссальным.
Основной принцип управления хозяйством в Центральной и Западной Европе XVIII и начала XIX веков сводился к тому, чтобы довести до высочайшего совершенства экономику, базировавшуюся на возобновимых ресурсах. Часто это означало повышение устойчивости. В основном это касалось сельского хозяйства, но постепенно распространилось и на леса, особенно в Центральной Европе. Правда, повышение аграрного производства нередко шло за счет лесов. И все же, с XVIII столетия в германских странах повсеместно интенсифицируются работы по защите и созданию новых лесов. Стремление к экономии древесины, «рациональному использованию дерева» (Menage des Holzes) красной нитью проходит через всю историю техники того времени. Часть этих проектов так и не вышла за пределы канцелярий, однако цены на дерево росли, и постепенно экономия дерева становилась частью повседневной жизни. Никогда еще общество так ясно не отдавало себе отчета в том, что все его здание базируется на деревянном фундаменте. В этом смысле становится понятным Зомбартово[179] понятие «деревянной эпохи». Порой перед глазами даже возникает призрак тотального «деревянного государства» со всеохватным контролем лесопользования и регулированием всех сторон жизни. Эту эпоху можно описывать как предысторию индустриализации, как развязывание идеи безграничного роста, однако при более близком знакомстве с ней не перестаешь удивляться тому, насколько естественным было для людей того времени представление о пределах роста, и как при малейшей угрозе дополнительной нагрузки на лес оживали страхи перед нехваткой дерева. Появление каменного угля также далеко не сразу произвело революцию в сознании. Меморандум, составленный в 1827 году двумя мастерами горного дела из Эссена, предостерегал от резкого количественного скачка в добыче угля: «поскольку у всего есть пределы» (см. примеч. 11).
Как справедливо замечает американский социолог Баррингтон Мур, нет никаких признаков, «что где-либо и когда-либо в мире большинство населения стремилось к индустриализации»; многочисленные свидетельства указывают скорее на обратное. Поланьи тоже считает, что «общество XVIII века… неосознанно» сопротивлялось «любой попытке… превратить его в простой придаток рынка». Это относится как к большой части высших слоев общества, так и к «маленькому человеку». Многие ремесленники и купцы, очевидно, предпочли бы сохранить олигополистические позиции на защищенном рынке, даже если при этом они не имели никаких перспектив на большое богатство. Политика бережливости, поиска баланса между хозяйством человека и природными ресурсами имела тогда множество сторонников и без современного экологического сознания, поэтому возникает вопрос, почему в Европе не сформировался стабильный альянс подобного рода. Один из возможных ответов состоит в том, что экологические интересы в то время были рассеяны по различным, иногда прямо противостоящим друг другу группам и инстанциям. Вера в то, что природа способна к саморегуляции, была распространена прежде всего среди либералов и критиков старых порядков. Силы, защищавшие идею относительной автаркии ограниченных пространств и, таким образом, располагавшие масштабом, в котором можно было бы добиться равновесия между человеком и природой, ей противостояли (см. примеч. 12). Восхищение природой, как правило, соединялось с призывом к «свободе», дерегуляции, в то время как беспокойство о нехватке дерева – с лесоводческими стремлениями к управлению.
В документах крупных потребителей древесины, контролируемых государством, например, металлургических предприятий, встречается формула, что производство нужно выдерживать «в пропорции к лесонасаждениям». Однако делать из этого вывод о стабильной гармонии между лесом и экономикой было бы преждевременно. Конечно, предпринимались усилия достичь точного равновесия. Но Эрих Янч[180] напомнил о том, что, вопреки популярной версии, равновесные состояния нестабильны: малейшего толчка достаточно, чтобы подорвать точно выверенный баланс (см. примеч. 13). Стабильность можно представлять исключительно как «текучее равновесие», восстанавливающееся после турбулентностей. Для этого необходимы резервы безопасности. Нокогда в XVIII веке удалось сбалансировать лес и экономику, резервов уже не было. Такие непредвиденные события как наполеоновские войны поглотили гигантские массы дерева и смешали все карты. Начавшийся в то время упадок Китая демонстрирует судьбу цивилизации, имевшей слишком мало экологических резервов.
Чем больше полномочий в сфере лесного хозяйства брало на себя государство, тем сильнее зависела от него охрана леса. Но роль государства для леса не однозначна, она скорее двойственна. Государство вытесняло из лесов сельских жителей, чтобы его собственные структуры рубили лес на все более обширных площадях. Торговля лесом играла серьезную роль в погашении государственных долгов, многократно выросших в XVIII веке. Если города с их традиционной сословной (altstndisch) экономикой накладывали все больше ограничений на промышленников, массово потребляющих дерево, то многие государства по соображениям фискального и политического характера наделяли горное дело и металлургию привилегиями. В дореволюционной Франции страх перед дефицитом дерева доходил до лихорадки, как и в Германии, и во многих регионах находил себе выход в нападениях на «древоглотов» от металлургии. Об этом свидетельствуют жалобы к правительству, в которых документированы настроения, позже вылившиеся в революцию (cahiers de doleances). Если бы Французская революция следовала первоначальным импульсам, она бы затормозила индустриализацию, идущую по пути все большего энергопотребления. Но поворот к военному империализму сделал рост металлургии делом национального масштаба, а в лице инженерной элиты Горного корпуса (Corps de Mines) металлургия получила могучее институционализированное лобби, открывавшее ей доступ к лесам. В свою очередь, в Пруссии в 1786 году глава департамента Горного дела и металлургии Хейниц высказывал обоснованные надежды, что король никогда не позволит, чтобы у металлургических предприятий «отнимали нужную им древесину», поскольку «военное государство» не может обойтись без металлургии (см. примеч. 14).
Появление категории «природа» в политических и экономических учениях того времени не всегда связано с напоминанием о пределах роста. Нередко она была элементом стратегий роста, например, в представлении о «природных богатствах» страны, которые еще предстоит разведать. И не забудем: природа, которую динамические силы того времени хотели изучить и использовать до последних пределов, – это не в последнюю очередь внутренняя природа человека. Как мог новый «естественный» человек примириться с установленными пределами роста? «Естественным» был дух свободы, он так же восставал против сеньориальных брачных запретов, как против ограничений на промышленность, налагаемых гильдиями, и таможенных барьеров, перекрывавших естественное течение рек. «Неестественны» были не только подавление сексуальности, но и контрацептивные сексуальные практики. В XVIII веке началась истерическая кампания против онанизма, кульминацией которой был Руссо, говорилось, что подобного рода действия – это «мошенничество над природой» (см. примеч. 15). В свете новых природолюбивых веяний прежние демографические методы управления отношениями между человеком и природой стали выглядеть отвратительными и противоестественными. Выражаясь в духе «Экологии разума» Грегори Бейтсона: тот традиционалистский менталитет, который принадлежит к гомеостазу экономики, основанной на ограниченно возобновимых ресурсах, то хладнокровие, которое не ищет все новых раздражителей и новых высот, в эпоху революций и крещендо отошли на задний план. Они еще жили, они даже были широко распространены, но утратили привлекательность.
Существует теория, что индустриализация победила потому, что указала путь спасения из острого экологического кризиса. Благодаря каменному углю она вывела из-под эксплуатационного гнета измученные леса, благодаря минеральным удобрениям восстановила плодородие истощенных почв. Зомбарт представлял индустриализацию как спасение от грядущей нехватки леса, Либих видел в своих минеральных удобрениях спасение от истощения полей и грядущего голода, для них обоих речь шла о жизни и смерти европейской цивилизации. От этой теории не так просто отказаться, многие свидетельства выглядят как ее подтверждения. В самом деле, в XVIII веке Западная и Центральная Европа были буквально наводнены мрачными прогнозами о будущности лесов и сельской альменды. Давид Рикардо[181], которого не впечатляли успехи аграрных реформ того времени, сформулировал закон падения нормы прибыли с земли при возрастающих затратах труда, и его пессимизм вскоре стал преобладать в политической экономии. Для такой страны, как Дания, лишившейся в XVIII веке практически всех своих лесов и тяжело страдавшей от ветровой эрозии, экологический кризис выглядит доказанным (см. примеч. 16).
Тем не менее, как показывает взгляд из далекого будущего, до пределов «системы, построенной на энергии Солнца» в XVIII веке было еще далеко, еще можно было многого достичь на основе возобновимых ресурсов. Ситуация кажется критической, только если исходить из непрерывного роста численности населения и промышленности. Одна из линий развития того времени сводилась к планомерному достижению все более совершенной устойчивости в отраслях экономики, базировавшихся в конечном счете на солнечной энергии, то есть в лесном и сельском хозяйстве. Индустриализация перечеркнула эти перспективные тенденции: гуано и искусственные удобрения сделали ненужными совершенствование севооборота и баланса между земледелием и скотоводством. Каменный уголь обесценил буковые леса – источник дров и древесного угля и способствовал тому, что в Центральной Европе стали сажать хвойные монокультуры, а в других местах относиться к лесам и вовсе с небрежением.
Но главным, скорее всего, было то, что совершенствование использования возобновимых ресурсов было связано с проблемами управления. Когда на множестве ручьев мельница теснилась к мельнице, а кузница к кузнице, и каждый метр, даже сантиметр воды были распределены, то при переброске и запруживании речных русел приходилось разбираться со все большим числом законов о воде, если подобные барьеры нельзя было преодолеть при помощи государственной поддержки. В таких условиях паровой двигатель, как бы он ни был технически сложен, в вопросах управления казался скорее шагом к упрощению. Аналогично обстояло дело и с каменным углем в то время, когда многие металлургические предприятия видели в новых лесопользователях угрозу своим привилегиям. Кризис доиндустриальной цивилизации только выглядит экологическим, по сути своей это был скорее кризис управления. Во всемирном масштабе ясно видно, что индустриализация началась не в наиболее кризисных регионах, а там, где экологические условия были особенно стабильны и даже все более стабильны.
Глазам современников индустриализация предстала в двух фазах: в первой она украшала окружавший их мир, а во второй – все сильнее уродовала его. Авторы путевых заметок, описывая первые индустриальные ландшафты, часто впадали в восторг: путешественник, помнивший местность еще до огораживаний (Markenteilung), восхищается тем, что на месте бывших пустырей теперь колышутся нивы, по берегам ручьев теснятся мельницы, повсюду пульсирует жизнь и трудятся усердные ремесленники. Георг Форстер, враг старого феодализма, «с неописуемым наслаждением» наблюдает за работой Аахенских суконных мануфактур (см. примеч. 17). Но с переходом к широкому использованию каменного угля картина меняется. Теперь над новыми индустриальными пейзажами высится лес чадящих фабричных труб, а вокруг разрастаются прокопченные до черноты рабочие районы, социальные и гигиенические условия в которых сулят неприятности. С каменным углем и развитием угольной химии острейшей проблемой воды и воздуха становятся промышленные выбросы. В «деревянный век» такого не было никогда.
Нужно все время помнить о том, как сильно изменилась ситуация: нуждающимся в защите общим достоянием теперь уже были не альменда или общинный лес, где надо было лишь согласовывать друг с другом интересы более или менее узкого круга пользователей, воздух и проточные воды, круг пользователей которыми уже никакому учету не поддавался. Вся окружающая среда как целое теперь нуждалась в защите от всех заинтересованных в ней лиц. К несчастью, этот переворот в экологической проблематике пришелся на тот период всемирной истории, когда господствующей доктриной стал экономический либерализм с таким понятием общего блага, какое устанавливается на рынке благодаря прояснению интересов. Человечество до сих пор испытывает трудности из-за практических последствий коренного изменения экологической ситуации, и подобная инерция не удивительна, если вспомнить историю прошедших тысячелетий.
Поскольку в эпоху угля промышленность сначала концентрировалась в крупных агломерациях, индустриальная экологическая проблематика еще более, чем доиндустриальные проблемы леса и сельского хозяйства, заявила о себе в первую очередь на уровне коммун. Масштаб и серьезность проблем люди осознавали с самого начала, но, как правило, города и государственные инстанции по надзору за промышленностью реагировали на них только ad hoc-распоряжениями[182]. Может ли современный историк осуждать их за это – вопрос спорный. Сегодня становится понятным, что даже в начале XIX века индустриализация еще не вызывала в природе общих необратимых нарушений. Не один участок, где зарождалась английская индустриализация, превратился сегодня в идиллический природный уголок. В сравнении с асфальтовыми пустынями, порожденными моторизацией XX века, железные дороги еще более или менее гармонично вписывались в ландшафт, а занятые ими площади по отношению к мощности перевозок были относительно ничтожны. Структуру экологической истории индустриального периода задавали не только подъемы экономики, но и характерные для конкретных эпох пределы роста и разнообразные протесты общества. Не только фабрики были знаковым явлением эпохи, но и великая тоска по природе, и широкое гигиеническое движение, ставшее непосредственным результатом индустриализации. Эпохальную роль сыграл и национализм с его попыткой учредить государственные объединения с опорой на природу.
2. «ГДЕ НАВОЗ, ТАМ ХРИСТОС»: ОТ ПАРА И ЗАЛЕЖИ К «КУЛЬТУ НАВОЗА» И ПОЛИТИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Основные устремления аграрных учений XVIII и начала XIX веков сводились, как правило, к максимальному использованию пахотных земель, прежде всего – ликвидации пара и залежи за счет севооборота, посадок кормовых растений и стойлового содержания скота. Как минимум в теории, многие инновации были тщательно продуманной системой, все элементы которой были полностью подогнаны друг к другу. Но действительность зачастую оказывалась не столь совершенна. Не последнюю роль играл человеческий фактор. Аграрные реформаторы того времени не располагали новым источником энергии и требовали все большего вложения человеческих сил, в том числе женских. Старые общинные луга стали воплощением отжившей «косности» (Schlendrian). Как писал автор аграрных реформ Иоганн фон Шверц: «Я никогда и нигде не видел ничего, что больше питало бы леность, мешало земледелию, портило хозяина и было бы само по себе более невыгодным, чем обширные общинные луга и леса». Он считал их «хозяйством кочевников» и говорил, что они вызывают у него настоящую «тошноту» (см. примеч. 18). Причины столь страшного приговора не только в трудовой морали, но и в аграрной экологии: большие луговые пространства грозили потерей помета животных, в первую очередь его жидкой фракции. В любом случае в условиях пастбищного хозяйства невозможно было наилучшим образом собрать и целенаправленно использовать навоз, а именно этому и следовало теперь делать.
Во многих случаях аграрные инновации не вводились как резкие изменения на основе новых теорий, а осуществлялись наощупь, опытным путем. Авторы аграрных реформ обращались и к крестьянскому опыту. До XIX века у них не было собственной науки, то есть источника знаний, превосходившего крестьянские знания, и тем это было известно. В общем и целом реформаторы, как и крестьяне того времени, мыслили в категориях баланса между земледелием и скотоводством. Одного севооборота не хватало для восстановления плодородия. Почву нужно было унавоживать: интенсификация полеводства без разведения скота, с использованием одних только растительных, человеческих и минеральных удобрений, лежала за гранью европейских представлений того времени, несмотря на все уважение к китайскому земледелию. Гумусная теория основателя немецкой сельскохозяйственной науки Альбрехта Таера (1752–1828) привлекла к органическим удобрениям еще больше внимания. До середины XIX века многие немецкие крестьяне держали скот «лишь удобрений ради», продажа мяса не окупала содержание животных. «Земледелие – это такой механизм, где одно колесо непрерывно цепляет и двигает другое, – наставлял Шверц. – Но главной движущей силой этого механизма всегда остается хлев, а значит – корм для скота» (см. примеч. 19).
Если многие теории ученых аграриев были хороши только на бумаге и вызывали у практиков одни насмешки, то в отношении удобрений мнения и понимание ученых и крестьян совпадали. «Чтобы иметь побольше навоза, крестьянин пойдет на все», – утверждал священник из Гогенлоэ Иоганн Фридрих Майер (1774), которого Шверц именовал «проповедником гипса» (Apostel des Gipses). Он одобрительно описывает изобретательность своих крестьян в вопросах удобрения, их принцип – «каждое создание, разлагаясь, удобряет другое». Швейцарский «образцовый крестьянин» Кляйнйогг, которого врач города Цюриха Хирцель прославил на всю Европу как «философа от земледелия», старался «превратить в навоз все, что только можно». Для получения обильного навоза он стелил скоту такую толстую подстилку, «что в его хлевах нога по колено уходила в мягкую субстанцию». Особенно важным он считал сбор навозной жижи, этого, по его словам, «драгоценнейшего материала» (см. примеч. 20).
Выражение «где навоз, там Христос» (Wo Mistus, da Christus) стало крылатым, и в ушах крестьян того времени подобная рифма вовсе не звучала богохульством. В революционном 1848 году один крестьянин в Падерборне высек над воротами своего дома надпись: «Хочешь быть набожным христианином / крестьянин, так оставайся на своем навозе / оставь дурака петь о свободе / удобрение – прежде всего». Артур Юнг, считавший, что французское сельское хозяйство во многих местах ненамного опережает таковое у гуронов[183], пришел в неописуемый восторг при виде эльзасских навозных куч: эти кучи, тщательно переложенные связками соломы и прикрытые сверху листьями, были, по его словам, «прекраснейшим зрелищем из всего виденного им прежде». «Восхитительно! Заслуживает всемирного подражания!» Однако наивысшим образцом в искусстве удобрения была для него Фландрия, где систематически использовались и городские отходы, включая человеческие испражнения. Шверц встречал там даже опрятно одетых женщин, собиравших конские яблоки на продажу и тем самым еще и поддерживавших чистоту улиц (см. примеч. 21).
Было ли новым столь серьезное отношение к удобрению? Ведь уже римляне хорошо осознавали его ценность, мудрецы уже тогда учились у крестьян: Сенека утверждал, что крестьяне сами, без помощи ученых, находят «множество новых методов для повышения плодородия». Даже на благотворное действие люпина, очень уважаемого в XVIII веке, указывал еще Плиний Старший. Либих, правда, считал, что в XVIII веке римский «культ навоза» пережил второе рождение после 2000-летнего забвения. Староста Иоганн Тиман в Бракведе под Билефельдом на Рождество 1784 года пичкал своих подопечных новейшими аграрными учениями, попрекая крестьян в том, что они, «враги удобрений», не хотят кормить скот в стойлах, а «гонят» вон из хлева. Майер из Гогенлоэ уже и в те времена знавал крестьян, проявлявших высочайшую сознательность в удобрении. Но вполне возможно, что в тех местах, где люди выгоняли скот на залежь и не стремились выжимать из своей земли сверхприбыли, вопрос удобрений решался более или менее сам собой. Драгоценный овечий помет можно было собирать в овчарнях и без стойлового содержания. Из раннеиндустриальной Англии до нас дошли сообщения о множестве разнообразных удобрений: там экспериментировали с чем угодно и как угодно, из чего, правда, сразу ясно, что во многих регионах проблема так и осталась нерешенной, тем более что процессы, протекающие в почве после внесения удобрений, еще оставались непонятными. Впрочем, и в Англии, стране, которая служила примером для аграрных реформаторов, удобрения ценили не везде, еще в XVIII веке сообщалось о том, что коровьими лепешками, как в Азии, топили печи (см. примеч. 22).
В то время как одни рифмовали «навоз» и «Христос», другие подчеркивали созвучие «навозной экономики» (Mistwirtschaft) и «негодной экономики» (Miwirtschaft). Критика была нацелена в основном на то, что в условиях вольного выпаса терялась моча, жидкая часть удобрений. Действительно, это было экологической дырой традиционного сельского хозяйства, в котором даже при условии автаркии круговорот был несовершенным. Выход из этой проблемы давало только стойловое содержание и подведение каменного фундамента под хлевы и конюшни. Если удобрительная ценность навозной жижи была и прежде хорошо известна крестьянам, то реальные усовершенствования круговорота веществ в аграрном хозяйстве наступили только в XVIII и XIX веках. Более противоречивую картину дает тема человеческих экскрементов. Археологические раскопки отхожих мест показывают, что если фекалии человека и использовали, то очень несовершенно. Еще Джон Ивлин, расходясь в этом случае с Колумеллой, предостерегал против использования человеческих выделений. Пример Фландрии вселенского подражания не нашел. Если во дворах немецких крестьян уборные ставили часто прямо на навозных кучах, то во французском сельском хозяйстве человеческие фекалии не использовали вовсе или использовали очень ограниченно. «Грязная аптека» (Dreckapothek) народной медицины приписывала фекалиям целебную силу, однако и отвращение перед ними вовсе не является феноменом модерна. Правда, естествоиспытатели XIX века такого отвращения не знали, а, напротив, живо изучали и рассчитывали удобрительную ценность экскрементов не только животных, но и человека. Во времена Либиха испытания, проведенные на солдатах раштаттского гарнизона, показали, что их фекалии поставляют достаточно удобрений, чтобы вырастить необходимое для их пропитания зерно (см. примеч. 23). Возможно, постепенно, с повышением спроса на удобрения человеческие экскременты стали бы более популярным товаром и за пределами Фландрии, однако в этот момент весь процесс усовершенствования круговорота веществ был перечеркнут ватерклозетами, общесплавной канализацией и минеральными удобрениями. Одновременно с этим открытия бактериологов и свойственная модерну чувствительность цивилизованных носов повысили порог брезгливости как никогда прежде.
Если во многих регионах дефицит удобрений и прежде был хронической бедой сельского хозяйства, то в XVIII веке с его отчаянным стремлением к повышению аграрного производства он стал настоящим тормозом. Вызванный этой проблемой поток инноваций в долгосрочной перспективе породил формы экономики, отошедшие от стратегий экологического баланса на основе региональных возобновимых ресурсов. Однако проводить прямую линию от аграрных реформ XVIII века к нашему времени было бы неверным. Еще и в XIX веке нововведения долгое время направлялись в основном на совершенствование устойчивости традиционного сельского хозяйства. Эксперт по сельскому хозяйству Герман Прибе, прошедший путь от консультанта Евросоюза до резкого критика аграрной политики Брюсселя, считает историю немецкого сельского хозяйства вплоть до Второй мировой войны «поучительным примером экологического развития». По его мнению, только в это время закончилась великая эпоха, покоившаяся на сознательно-устойчивом обращении с возобновимыми ресурсами (см. примеч. 24).
Для многих крестьян почва была своего рода живым существом. Отдавать удобрения за деньги, как говорили крестьяне из Гогенлоэ, «так же отвратительно, как отнимать у новорожденного младенца материнскую грудь». Задолго до Либиха было известно, что разные виды растений предъявляют различные требования к почвам. «Житель Брабанта обращается со своей землей, как со своей лошадью, – писал Шверц, – он требует от обеих постоянной работы, но за это соответственно кормит их и обихаживает». И Шверц, и Юнг, и другие аграрные реформаторы той эпохи, еще не ориентированной на применение машин, питали особую симпатию к мелкому крестьянину, который вдоль и поперек знает свою землю и старается улучшить ее «с достойной восхищения стойкостью». «Везде, где только можно проложить канавку для задержания смытой дождем взвеси, он ее проложит». Хотя добросовестные крестьяне использовали каждую пядь своей земли, но при этом далеко не так радикально боролись с «сорняками», как в XX веке, ведь это были травы, с которыми сельские хозяева провели вместе не одну сотню лет и знали за многими из них целебные свойства. Сорняки удаляли во время пахоты, и этим и ограничивались. «Теперь расти само», – говаривал крестьянин после посева. Только фламандцы пололи сорняки так рьяно, что во всей Фландрии Шверц увидел не больше васильков, чем за несколько дней у себя дома. Еще в XIX веке синий василек был излюбленным полевым цветком немцев, любимым цветком королевы Луизы, «прусской мадонны»[184]. В 1870 году, после победы во Франко-прусской войне, ее сын, Вильгельм I, возложил букет васильков к надгробному памятнику Луизы. Лишь гербициды, которые начали применять в 1950-х годах, покончили с васильками, и то – как кажется – не навсегда (см. примеч. 25).
Тем не менее чистой экотопией реформированное сельское хозяйство безусловно не было. Либих был не совсем неправ, упрекая многих реформаторов в том, что они лишь вуалировали основную проблему и тем самым увеличивали опасность сверхэксплуатации почв в будущем. Основной проблемой он считал то, что в долгосрочной перспективе из почвы можно изымать не больше питательных веществ, чем в нее вносят. Навозный пантеизм по принципу «все удобряет все» – чего на самом деле как раз и не происходит – вполне годился для поддержания иллюзий неограниченного роста. Многие реформаторы хорошо осознавали и многообразие условий, и комплексность взаимодействий в почвах, однако из-за быстрого практического эффекта все-таки склонялись к уже зарекомендовавшим себя средствам одностороннего действия, таким как клевер, гипс или мергель. Либих справедливо указывал на то, что «каждое специальное удобрение неизбежно истощает поле». Даже с клевером можно переусердствовать, если его посадки становятся мономанией. Так случилось в Дании, где обширные обезлесенные земли страдали от песчаных наносов, и клевер применялся как мера борьбы с этим злом (см. примеч. 26).
Однако на практике ненасытная жажда удобрений удовлетворялась прежде всего за счет лесов, ведь большинству энтузиастов-аграриев их судьба была безразлична. Стойловое содержание требовало больше лесного опада, а для экологии лесов использование опада было еще страшнее, чем рубка деревьев. «Апостол гипса» Майер утверждал, что его крестьяне, если бы только смогли, «спилили бы все лапы» у пихт и елей «и постелили бы их в своих хлевах» (см. примеч. 27).
Тщательно продуманные реформаторами севообороты перечеркнула конъюнктура рынка. На заре индустриализации был велик спрос на лен. Тем, кто прежде не выращивал его, пришлось на собственном опыте убедиться, что лен «несовместим с самим собой как предшествующей культурой», и что на одном и том же поле его можно выращивать, как правило, лишь один раз в 7 лет. Правда, выращивание льна способствовало, таким образом, севообороту и поликультуре. Сахарную свеклу, сделавшую на немецких полях XIX века самую головокружительную карьеру, также можно было вводить в структуру севооборота. Однако ее сажали непрерывно, и посадки сахарной свеклы стали классическим полигоном для испытаний минеральных удобрений, от суперфосфата до калия. Самой яркой новацией того времени во многих регионах был картофель, который добавил калорий в крестьянское меню, но вместе с тем повлек за собой рост числености населения, введение монокультуры, уязвимой для вредителей, и освоение последних резервов земли, что внесло заметную лепту в экологическую дестабилизацию сельского хозяйства. Однако вместе картофель и лен составляли хороший севооборот (см. примеч. 28).