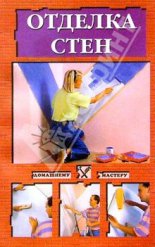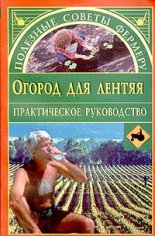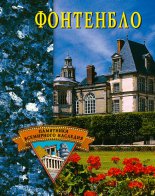Природа и власть. Всемирная история окружающей среды Радкау Йоахим

В современном «экономическом» сельском хозяйстве традиционный пар, когда землю на год или несколько лет передавали «в пользование» пестрому ковру диких растений, снова оказался в почете. Этот метод позволил восстанавливать плодородие почвы не менее действенно, чем выращивание определенных видов кормовых растений. Даже Шверц в некоторых случаях признавал, что не все в отжившей «косности» было лишено смысла: «На планете, где все так несовершенно, терпимость к недостаткам иногда приносит пользу…» Уже имея перед глазами негативный опыт однобоких и схематичных аграрных реформ, он буквально вбивал в головы своих учеников: «Никакие премудрости, никакие наговоры, никакие гипотезы и системы не помогут, если они не согласуются со всем природным целым». Еще в 1872 году в популярном учебнике по сельскому хозяйству отмечалось, что круглогодичное стойловое содержание скота – это «что-то очень жестокое» по отношению к животным и в высочайшей степени противоестественное, и что в долгосрочной перспективе для здоровья животных было бы полезнее «разумное сочетание стойлового содержания и свободного выпаса» (см. примеч. 29).
Однако уже в конце XVIII века этот осторожный, взвешенный по отношению к природе подход вступил в частичную конкуренцию с другим разумным соображением. Уже у «философа-земледельца» Кляйнйогга экономия доходила до одержимости, изгонявшей из крестьянской жизни любое проявление уюта и спокойствия. В свидетельствах некоторых современников Кляйнйогг предстает скрягой, лопающимся от жадности и самомнения и отнимающим у своих домочадцев всякую радость праздников, досуга и щедрости (см. примеч. 30).
В XIX веке сельское хозяйство Западной и Центральной Европы в своей ненасытной жажде удобрений вышло за пределы возобновимых ресурсов: около 1840 года начался массовый импорт чилийского гуано, затем – масштабное внедрение калия и фосфатов. В истории немецкого сельского хозяйства начало «эпохи минеральных удобрений» датируется примерно 1880 годом (см. примеч. 31). В то время Германская империя достигла мирового первенства в добыче калия. Новые вещества также обладали уже известными изъянами, свойственными специализированным удобрениям. Сначала они приводили к успеху, но затем – к дефициту определенных питательных веществ, так что почва неизбежно начинала истощаться, если не вносить в нее для компенсации минеральные удобрения. Так, с начала XX века вносились прежде всего синтетические азотные удобрения, необходимость которых отрицал еще Либих в своей долгой борьбе против «азотчиков».
При всем этом оставались без внимания проблемы структуры почв. Зато появление парового двигателя усилило уже появившуюся тенденцию к более глубокой вспашке. Пионер плуга на паровой тяге Макс Айт стал вдохновителем немецкой сельскохозяйственной техники, хотя в «малогабаритных» европейских ландшафтах внедрить паровой плуг было труднее, чем в США или Египте – о тамошних приключениях парового плуга Айт умел рассказывать романтические истории в духе Карла Мая. Какие последствия для почвы будет иметь все более глубокая вспашка, понимали лишь отчасти (см. примеч. 32). В то же время под лозунгом «консолидации земель» (Flurbereinigung) и под давлением индустриальной техники, продолжалось укрупнение крестьянских общинных полей, раздробленных в эпоху многопольного хозяйства. Уже в конце XIX века любителей природы стала угнетать возрастающая монотонность аграрного ландшафта, исчезновение живых изгородей и мелких водоемов (см. примеч. 33). Ликвидация открытых пастбищ сделала ненужными изгороди и водопои.
В долгосрочной перспективе история аграрных реформ, как и многие другие эпизоды истории среды, усиливает подозрение, что решения экологических проблем порой более опасны, чем сами проблемы. Аграрные реформы с их одержимостью удобрением и введением полной частной собственности на землю были в какой-то мере ответом на экологическое несовершенство традиционного сельского хозяйства. В чем-то они действительно сделали аграрную экологию более стабильной, однако связанная с ними экономико-психологическая динамика привела со временем к дестабилизирующим побочным эффектам. Одним из ведущих факторов было полное раскрепощение личной корысти, но свой вклад вносили и амбиции государств. Под влиянием физиократов сельское хозяйство в Европе стало вопросом большой политики. Еще никогда созидательная сила природы не становилась исходным пунктом экономического учения так решительно, как у физиократов, но и государство никогда прежде не ощущало таких обязательств помогать этой силе. Тем более что Фридрих II Прусский (1712–1786) руководствовался мнением, что в его стране нет хорошей природы, которую следовало бы охранять, а есть лишь скудная, которую нужно улучшать.
Став предметом политики, сельское хозяйство так им и осталось и парадоксальным образом привлекало к себе тем больше внимания, чем меньше было его присутствие в экономике. Недовольство всеохватной индустриализацией в Германии и в других регионах шло на пользу аграриям и их призывам к поддержке сельского хозяйства. Однако именно учрежденная тогда система аграрного протекционизма со временем поставила крестьянское хозяйство в сильнейшую зависимость от внешнего управления и настолько отдалила его от природы, что даже современному «экологическому» земледелию очень трудно отказаться от государственной поддержки.
3. СТРАХИ ПЕРЕД НЕХВАТКОЙ ДЕРЕВА. КАМПАНИЯ ПО ВОССОЗДАНИЮ ЛЕСОВ И АПОЛОГЕТИКА ЛЕСА В ЭКОЛОГИИ
В Центральной и Западной Европе, а затем и в США, основным воплощением природы, которую для общего будущего нужно защищать от корыстных отраслевых интересов, стал лес. Роль государства здесь еще более заметна, чем в случае сельского хозяйства: лесная политика государств во многих регионах восходит к XVI веку. На смену хищническим рубкам должно прийти устойчивое лесное хозяйство, позволяющее достичь равновесия между изъятием и приростом древесины, – вот девиз XVIII и XIX веков. Если прежде доминировало управление рубками, осуществляемое через концессии и запреты, то теперь пришло время активной политики воссоздания лесов, при реализации которой нередко происходила смена пород на более прибыльные. Однако нельзя путать историю лесных установлений с историей реальных лесов: высокоствольный лес вырос вовсе не после их принятия, а уже давно «сформировался через тысячи переходов из лесов, в которых велись выборочные рубки» (см. примеч. 34).
Вмешательство государства чаще всего оправдывают острым кризисом в снабжении лесом, даже близкой катастрофой. По сей день историческое самосознание институционализированного лесоводства базируется на представлении, что когда-то именно его появление спасло леса от полного уничтожения. Однако в реальной жизни воссоздание лесов было скорее сменой ведущих пород в уже существующих лесах для получения больших объемов древесины. В некоторых германских странах площадь лесных угодий в то время из-за раздела альменды и вырубок крестьянских лесов даже сократилась. В общеевропейском и общемировом масштабе XIX век скорее кажется эпохой сведения леса, чем его создания. К обвинениям в дефиците дерева и разорении лесов, которые выдвигали государственные инстанции или привилегированные лесопользователи против остальных пользователей, нужно всегда подходить очень осторожно, потому что – как сообщает «Экономическая энциклопедия» Иоганна Крюница 1789 года – «если высшая полицейская и финансовая коллегия сочтет, что использование лесов в стране не соответствует нужной пропорции, что за год дерева потребляется больше, чем нарастает», то государство, согласно господствующей тогда доктрине, имеет право на вмешательство в частные угодья. Отрасли промышленности, традиционно обладавшие правами на лесопользование, использовали тревожные сигналы о дефиците леса для того, чтобы держать подальше от лесов новых пользователей. Угрожающее состояние лесов служило прекрасным аргументом для усиления порядка. Опубликованная в 1801 году в «Вестфальском Вестнике» жалоба на нехватку дерева оканчивалась общим наступлением на изнеженных «филантропов», которые не в состоянии смотреть, как наказывают вора и как он болтается на виселице (см. примеч. 35).
Не только государство было способно охранять лес, частным владельцам это часто удавалось лучше. В Падерборне крестьяне так усердно сажали деревья, что автор аграрных реформ Шверц считал это даже перебором. Когда вестфальские крестьяне после раздела марок получили леса в частную собственность, случалось, что они сами убивали «лесокрадов» без суда и следствия, как, например, в 1806 году в Ферсмольде, когда «людей закалывали, как свиней». Жалоба на разор лесов вовсе не обязательно служила воззванием к государству. В 1802 году Иоганн Якоб Трунк, профессор лесоводства во Фрайбурге, внесший большой вклад в академизацию учения о лесе, называл сотрудников государственных лесных служб «испорченной, мошеннической породой», главными нарушителями среди тех, кого им самим и надлежало преследовать. Если новые фёрстеры, настроенные на получение древесины, воспринимали рубки как «главный вид лесопользования», а традиционные крестьянские и прочие пользования, от выпаса до подсочки, пренебрежительно относили к «побочным», то это вовсе не шло на пользу экологии леса. Дело в том, что большинство «побочных пользований», резко пошедших тогда на убыль, имели в целом щадящий для леса характер, чего нельзя сказать о сплошных рубках и хвойных монокультурах (см. примеч. 36).
Вопреки частым утверждениям, экологические принципы в лесном хозяйстве совсем не новы. В принципе, всегда было более или менее известно, что нужно уделять внимание природным условиям мест произрастания, что условия эти чрезвычайно сложны и что познать их возможно только посредством терпеливого наблюдения (см. примеч. 37). Но одно дело – провозгласить «железный закон локального», как это сделал прусский лесовед Вильгельм Пфайль, и совсем другое – использовать его на практике, тем более что лесное почвоведение еще только-только зарождалось.
Уже в 1833 году ганноверскому лесоводу Вэхтеру по собственному неудачному опыту в северо-немецких хвойных лесах было известно, что чистые хвойные культуры – лакомое блюдо для «армии насекомых». Тенденция к монокультуре нередко побеждала «за спиной» лесной науки, под влиянием кратко– и среднесрочных финансовых интересов, тем более что хвойные лесопосадки были лучшим средством борьбы с крестьянскими лесопастбищами. Высокий процент лиственных пород в лесах бывшей земли Липпе[185] объясняется, в частности, тем, что когда-то сельское население активно восставало против навязываемой сверху посадки хвойных деревьев (см. примеч. 38).
В общем и целом прослеживается модель, которую можно перенести и на другие эпизоды истории среды: основой служат традиционные способы хозяйствования, обладавшие как устойчивостью, так и экологически слабыми сторонами, которые – если определенные тенденции линейно экстраполировать на будущее – могут иметь сомнительные последствия. Существуют разные стратегии противления этим последствиям: одни – повседневные, незаметные и децентрализованные, другие – пригодные для крупных государственных реформаторских проектов и расширения институций. Стратегии второго типа являются не только ответом на острые проблемы, но оборачивают эти проблемы в свою пользу и раздувают их. Это не значит, что они их совсем не решают. Стандартный аргумент, что из-за долгих сроков роста деревьев лесное хозяйство не способно к саморегуляции, то есть регуляции через рынок и интересы частных лесовладельцев, и что ему необходимо вмешательство более высоких инстанций, взят вовсе не из воздуха, он содержит правду, а при определенных стечениях обстоятельств верен полностью. Однако лесные реформы, легитимированные на базе дефицита дерева, обострили положение бедноты, лишив ее обычных прав на лес. Воссоздание лесов и с социальной, и с экологической точки зрения имело амбивалентный характер. Повышение устойчивости и угроза потери устойчивости часто идут рука об руку. Дело в том, что именно цель повышения устойчивости лесного хозяйства позволила выдвинуть аргумент, что и лес, и лесоводство нужно сделать калькулируемыми, а для этого – разделить лесной массив на равные участки и последовательно сажать их и вырубать. Стремление к устойчивости привело таким образом к сплошным рубкам и монокультурам. Один лесовод из Гарца в 1863 году сетовал: «Подобно собаке, которую Линней называл жертвенным животным анатомии, лес можно назвать жертвенным животным лесотаксаторов». «В большинстве своем исчезли… прекрасные старые леса с их величественными деревьями-великанами». И даже доходы от высокоствольных лесов, по его словам, вовсе не повсеместно возросли, а «многократно снизились» (см. примеч. 39).
Концепция устойчивости прусского лесовода-реформатора Георга Людвига Гартига (1764–1837), вопреки революционному духу эпохи, предусматривала вечно статичный мир, в котором в течение жизни многих поколений год за годом потребляется одно и то же количество древесины, приобретаемой за одну и ту же цену. Гартиг считал возможным рассчитать объемы рубок на 100 лет вперед и даже больше. В модели устойчивого хозяйства экономические и экологические интересы сначала шли параллельно: ограничение рубок пропорционально приросту древесины не только помогало сохранить леса, но и поддерживало на высоком уровне цены на дерево. Но это функционировало лишь до тех пор, пока рынок был региональным. Как только появилась возможность ввозить лес издалека и экспортировать его в дальние страны, пути экологии и экономики разошлись. Хотя в XIX веке принцип устойчивости распространился по всему миру, массовый молевой и плотовой сплав, а еще сильнее – перевозки по железным дорогам, на пароходах и грузовом транспорте стали для него угрозой. В середине XIX века даже социальный романтик Риль уже не понимал мудрости древнего крестьянского натурального хозяйства и смеялся над рейнскими крестьянами за то, что те срывали торги для продажи их лесов, предписанные в то время государством. Когда «на торги приходили чужие участники, они гнали их из лесов цепами и вилами, чтобы избежать более высокого предложения, и устраивали затем аукцион между собой, продавая собственный лес за смешные деньги» (см. примеч. 40).
Кампания по воссозданию лесов (Aufforstungsbewegung), корни которой уходят в начало XVIII века и даже глубже, в начале XIX века стала общей тенденцией во всех германских государствах. Разведение высокоствольных лесов было в то время особым путем Германии. К той же эпохе относится возникновение и расцвет лесного романтизма, вошедшего затем в историю как типично немецкий феномен. Напрашивается предположение, что эти процессы были связаны. Но каким образом? Реальность не дает столь ясных подтверждений, как можно было бы ожидать, некоторые факты говорят даже о том, что эти процессы шли одновременно, но независимо друг от друга. Популярный лесной романтизм воспевал совсем не тот лес, к какому стремились жадные до древесины лесоводы. Любимым деревом национального лесного романтизма был дуб – первобытный, одинокий, кряжистый, с распростертыми во все стороны узловатыми ветвями. Это была эстетика древнего крестьянского пастбищного леса, а не нового искусственного хвойного леса.
В лунную ночь 1772 года в старой дубраве собралась группа геттингенских студентов. Украсив шляпы гирляндами из дубовых листьев, взявшись за руки, они поклялись друг другу в вечной дружбе. Источником вдохновения послужила для них сцена из посвященной Германну трилогии Фридриха Готлиба Клопштока[186], где друид перед битвой приносит присягу дубам как обители германских богов. Этот момент стал днем рождения немецкого лесного романтизма, а вместе с ним – обретавшего силу и единство немецкого национализма. Эрнст Мориц Арндт[187], один из провозвестников немецкого национализма эпохи освободительных войн, всю свою жизнь боролся «за обе опоры государства»: «леса и крестьянство». За леса – не ради древесины, но потому что они много значили для климата, плодородия почв, «здоровья и силы» человека. В 1820 году, призывая к государственному уходу за лесом, он предупреждал, что топор, приставленный к дереву, грозит обернуться топором, «приставленным ко всему народу». Наверное, лесоводов его слова должны были ужаснуть, ведь они жили за счет рубки леса и работали на нее. Однако когда Арндт, развивая тему высокой ценности леса для национальной экономики, потребовал «любой ценой» перевести предлагаемые к продаже леса в государственные, это уже было совсем другое дело и вполне могло понравиться лесоводам. То же касается и призыва Арндта изгнать из лесов промышленников: «Долой фабрикантов, разоряющих леса! Пусть убираются прочь с холмов и горных вершин!». Романтический идеал «лесного уединения»[188] пришелся на руку фёрстеру, желавшему распоряжаться лесами в одиночку и не обременять себя обычными правами угольщиков, стеклодувов и смолокуров. Риль, еще один крупный идеолог немецкого лесного романтизма, наблюдал за новыми устремлениями лесников со смешанными чувствами: около 1850 года он с горечью писал, что «из-за искусственного перевода величественных лиственных лесов в недолговечные хвойные» Германия «в последнее время… утратила от своего самобытного лесного облика не меньше, чем из-за полной вырубки обширных лесов». Его мечтой был дикий лес, лес как пространство свободы, где немец сможет сбросить с себя оковы цивилизации, и взрослому будет позволительно снова стать ребенком (см. примеч. 41).
Развитие немецкой лесной науки в XVIII веке определялось стремлением получить из сеньориальных лесов максимальный доход для оздоровления государственных бюджетов, многие из которых погрязали тогда в долгах. А практическое лесоводство, напротив, с самого своего начала было совершенно иным миром: в типичных случаях оно было порождением княжеских охот. Отсюда мост к лесному романтизму гораздо ближе, ведь охота – один из первоисточников страстной любви к лесу. Охотника не слишком привлекает сплошной хвойный лес, он предпочитает лес смешанный, с полянами, с густым подлеском, в котором могут кормиться и находить укрытия дикие животные. Своим высоким авторитетом в обществе профессия лесовода также обязана княжеским охотам. А фёрстеры со своими установками на получение древесины, как официально требовалось от них с начала реформ, продолжали, даже если сами они этого не признавали, профессиональные традиции лесорубов, умевших, как правило, лучше оценить стоимость древесины своего леса, чем дипломированный фёрстер. В XIX веке ведущие лесоводы со смешанными чувствами наблюдали за «дрессурой» участковых фёрстеров, которым предстояло стать «живыми топорами» (см. примеч. 42).
Борьба лесных реформаторов против выпаса в лесу и использования лесной подстилки сопровождалась тяжелыми социальными конфликтами. Еще в 1860-е годы в Южной Германии бедняки-крестьяне уверяли, что лесная подстилка для них – это «центр тяжести, вокруг которого вращается все хозяйство». «Мы говорим, что лучше без хлеба на столе, чем без опада в хлеву. Если лесники его у нас отнимут, то нам придется продать единственную корову, нашу кормилицу и источник навоза для наших полей». При этом с экологической точки зрения изъятие подстилки было самым вредным лесопользованием. Популярный трактат 1885 года призывал «всю нацию» выступить против использования подстилки и «за сохранение естественного лесного удобрения»! (См. примеч. 43.)
Исполняя свои предписания, фёрстеры часто вступали в конфликты с беднотой. Поэтому в Германии, как и в других странах, они вызывали ненависть. Феноменальным переворотом было уже то, что в XIX веке лесное дело стало самой желанной для немцев профессией, воплощением здоровой жизни в гармонии с природой во имя национального будущего. Решающая роль в столь радикальной смене имиджа, безусловно, принадлежала лесному романтизму. В сравнении с другими странами особенно заметно, до какой степени успех политики воссоздания лесов зависит от широкого признания ее всеми слоями населения, прежде всего потому, что в начале ее реализации обычно возникают жестокие конфликты с местным населением, а к каждому дереву не приставишь полицейского. В Германии конца XVIII – начала XIX века такое признание было достигнуто довольно быстро, даже если оно покоилось отчасти на романтических иллюзиях о лесном деле.
Во Франции защита и создание лесов обрели популярность, видимо, лишь на исходе XIX века – слишком долго лесное хозяйство оставалось полем конфликтов между центральной властью и коммунами. Андре Корволь пишет, что в дореволюционной Франции «культ высокоствольного леса» был «государственной религией». Старовозрастный высокоствольный лес, олицетворение социальной иерархии, находился под квазисакральным «табу». В 1731 году в Вогезах был заживо сожжен как еретик некий Клод Рондо, вина которого состояла в том, что он развел в лесу огонь. Здесь, как и везде, поджог был для крестьян способом получения новой земли под пашню. В таких условиях охрана высокоствольного леса во время революции обрела яркое политическое значение: как пишет Марш, начался «общий крестовый поход против королевских лесов». Социальная лесная политика тогда означала, как это и сегодня происходит в значительной части третьего мира, предоставление «маленьким людям» лесопастбищ и дровяных лесов. Ответная реакция не заставила себя ждать – именно охрана высокоствольного леса помогла окружить Реставрацию[189] ореолом природного романтизма (см. примеч. 44).
Восстания крестьян, защищавших свои обычные права на лес, имеют долгую традицию и во Франции, и в Германии, и во многих других местах. Поскольку сбор валежника и опада нередко был уделом женщин, то и в восстаниях активно участвовали именно женщины, более того, мужчины буквально отправляли их вперед. С XVIII века во французских провинциях – впервые это случилось, видимо, в 1765 году в Форе-де-Шо близ королевской солеварни Солин – мужчины, нападавшие на лесных сторожей, нередко переодевались в женскую одежду. «Восстания демуазелей» стали французским вариантом лесных бунтов и продолжились в XIX веке, тем более что в некоторых регионах ситуация с крестьянскими правами на лес еще ухудшилась по сравнению с дореволюционной (см. примеч. 45). Однако в том, что касалось леса, мятежные крестьянские деревни в XIX веке получали все меньше поддержки в кругах левой городской буржуазии. Мнение, что государственная охрана лесов – это веление разума, со временем распространилось и во Франции. Массированная политика поддержки и создания лесов началась в эпоху Наполеона III. Это уже была эпоха каменного угля, и ссылки на дефицит дерева потеряли актуальность. Зато на первый план вышло значение леса в поддержании водного баланса, так что речь здесь идет об очень важной вехе, сыгравшей большую роль в генезисе современного экологического сознания.
То, что лес обладает высокой ценностью и помимо чисто экономической выгоды, понимали и в доиндустриальную эпоху. Как писалось в одной дидактической поэме, изданной в Париже в 1583 году: «Высшее наслаждение, которое дарит нам дикий лес, – это дивная радость его зелени… Лес защитит вас от безжалостного солнца и жестокой жары». Именно эти замечательные свойства леса сильнее всего ощущались на юге. На значительной части Европы квазиэкологические аргументы стали приоритетом лишь в середине XIX века: с тех пор роли леса в сохранении водного баланса, почвы, климата, а вместе с тем и здоровья человека уделялось больше внимания. Господствующей доктриной стала в то время теория о том, что сведение лесов является одной из причин наводнений, или даже, что еще страшнее, чередования наводнений и засух. Родилась эта теория во Франции, в начале XIX века. Если в Германии главным аргументом лесной политики был дефицит древесины, то во Франции, как пишет Андре Корволь, «ультрароялисты» объясняли катастрофические наводнения тем, что за время революции были вырублены обширные лесные массивы (см. примеч. 46).
В немецкоязычном пространстве мысль о связи между вырубкой лесов и наводнениями впервые возникла в Альпах, где люди отлично знали, как важен лес для защиты от лавин. Примерно в середине XIX века профилактика наводнений становится лейтмотивом лесной политики Швейцарии. Когда в 1856 году Саксонское экономическое общество объявило конкурс, целью которого было получить лучший ответ на вопрос, «какими неприятностями» грозит «разорение частных лесов», первый приз получил трактат, посвященный значению леса в «бюджете природы». После того как смолкли тревоги о дефиците дерева, главными аргументами в пользу государственного надзора за лесами стали вопросы гидрологии и климата: «Какой частный владелец будет сажать на своих полях дубы и ели только для того, чтобы регулировать количество осадков в стране?» Джордж Перкинс Марш в 1864 году подчеркивал, что в дискуссиях о лесах, «возможно, никакой другой вопрос» не обладает такой значимостью, как вопрос гидрологический, хотя мнения по этому поводу все еще расходятся. Самым популярным лесным изданием Америки становится «Лес и вода» («Forest and Stream»). Ближе к концу XIX века в американской дискуссии побеждает позиция, сторонники которой подчеркивали ценность лесов в поддержании влажности воздуха, мощным стимулом зарождающейся американской лесной политики становятся интересы орошения. Живой отклик тезис Марша получил также в Австралии, находящейся под угрозой постоянных засух. Катастрофическое наводнение 1970 года в Индии, хотя непосредственной его причиной были аномальные сезонные дожди, послужило толчком к активным протестам против рубок леса, вылившихся впоследствии в социальное движение Чипко (см. примеч. 47).
По прошествии длительного времени довольно четко видно, что своим успехом экологическая аргументация в защиту леса была в немалой степени обязана стратегически-тактическим интересам государственных лесных служб. Экологическими доводами можно было заткнуть смысловую дыру, возникшую после того, как утратила былую эффективность угроза о дефиците дерева. Кроме того, от них можно было построить идеологический мост к популярному тогда лесному романтизму. В Германии к этому добавились требования учения о чистом доходе с земли[190], в соответствии с которым лесное хозяйство должно было вооружиться строгой последовательностью смет расходов и доходов и избавиться от какой бы то ни было скрытой сентиментальности. Это привело к тому, что и экологические доводы приобрели более четкие формы (см. примеч. 48).
При том ученым-лесоводам хорошо известно, что многое в утверждениях об экологическом значении лесов было более или менее спекулятивным. Это касалось прежде всего связи между лесом и климатом, но также и связи между обезлесением и наводнениями. Уже современникам было ясно, что тут происходит политический спор. Сегодня мы гораздо лучше понимаем, насколько комплексны и разносторонни взаимодействия древостоя и гидрологического режима почвы; но и в XIX веке было ясно, что здесь и речи быть не может о прямой и универсальной причинно-следственной связи. Теоретически возможно и то и другое: деревья могут накапливать влагу, но могут и отнимать ее у почвы. У отдельных видов (эвкалипт, береза) преобладает второе – эффект осушения. Кроме того, не только корни лесных деревьев связывают и задерживают почвенную влагу, на это способны и травы, и кустарники. Прямыми причинами катастрофических наводнений, как правило, являются сильные осадки, но не корчевание лесов. Последствия сокращения лесных площадей в основном остаются скрытыми и проявляются постепенно. Тем не менее признано, что в горных регионах лесные массивы благодаря своим глубоким корневым системам в целом лучше регулируют водный баланс, чем менее высокая растительность (см. примеч. 49).
В Швейцарии, в лесной политике которой не было абсолютистской традиции, поводом для вмешательства государства в лесные дела послужило катастрофическое наводнение 1868 года. Задолго до этого автор лесных реформ Ксавье Маршан (1799–1859) говорил о «высоком назначении» лесов в «бюджете природы», но только наводнения смогли сломить сопротивление кантонов против лесной политики Берна. Жители долинных земель, страдавшие от разливов, обвиняли в «альпийской напасти» горных крестьян, Маршан видел в этой «напасти» месть природы за свершенные по отношению к ней грехи. Однако специалисты и тогда уже понимали, что вина крестьян совсем не доказана. Серии наводнений случались и тогда, когда о крупных вырубках в горах еще и речи не было (см. примеч. 50). В лесной политике проявился древний антагонизм между верхними и нижними землями (Ober– und Unterland). Тем не менее сегодня никто не станет оспаривать, что политика поддержки и воссоздания лесов в целях защиты от лавин, сохранения почвы и водного баланса была в целом разумной. Если при угрозе наводнения главную роль играл климат, а состояние леса было не более чем вторичным фактором, то что-либо изменить можно было только в этом вторичном факторе. И сегодня экологическая политика вынуждена прибегать к такой логике в случаях, когда она покоится на гипотетическом базисе и не способна объять весь комплекс причин проблемы.
4. РАЗВИТИЕ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ В ЭПОХУ МОДЕРНА
Отношение человека к природе включает не только прагматические, но и эмоциональные и духовные мотивы. Это относится как к древности, так и к эпохе модерна. Однако не все эти мотивы располагаются на одной линии. Что они должны означать и во что они выливаются на практике, не всегда легко вычитывается из них самих и требует пристального изучения. Поскольку медитации о природе и сами по себе дарят людям состояние счастья, они вовсе не вынуждают человека к практическим шагам!
Автор книги «Смерть природы» Кэролин Мерчант постаралась показать, что представление о природе как одной из изначально данных человеку женских сил – как кормящей матери – пало жертвой патриархальных рационализаторских процессов Нового времени. Однако работы британских историков Кейта Томаса и Саймона Шамы позволяют с легкостью выдвинуть противоположный тезис: именно в Новое время буйство идей и идеалов, связанных с природой, достигает своей наивысшей точки. Декарт, наиболее авторитетный свидетель для Мерчант, называет животных бездушными механизмами, их крики от боли он уподобляет скрипу машины. Но это еще не последнее слово эпохи модерна. «Когда я играю с моей кошкой, – спрашивает себя Монтень, – то кто знает, не развлекается ли она со мной куда больше, чем я с ней?» Томас считает, что именно в раннеиндустриальной Англии произошло размывание четкой границы между человеком и животным, двигателем этого процесса была растущая любовь к домашним животным. Если еще в XVII веке на церковных праздниках нередко публично сжигали живых кошек – как воплощение черной магии и коварства! – то с XVIII века кошка выступила на авансцену в качестве домашнего любимца. Скотобойни и животноводческие комплексы XX века – не логическое продолжение в отношении человека индустриальной эпохи к животному, а непреднамеренные последствия динамики массового потребления, а также гигиенических норм Нового времени (см. примеч. 51). Однако их наличие говорит о том, что многие энтузиасты природы чрезвычайно долго не проявляли интереса к регулированию экономико-технологических процессов.
Действительно ли эпоха модерна проходила под знаком секуляризации и сциентификации природы? Это расхожий тезис, и многое говорит в его пользу. Но вместе с тем в природе остается, и более того, даже переживает в ней свое воскресение Божественная суть. Вера в Богиню Природу, тайная религия, столетиями скрытая под христианскими одеждами, становится для все более широких слоев общества единственной надежной опорой мышления и веры. В течение XVIII века признания в любви к природе эволюционируют в «своего рода религиозный акт» (см. примеч. 52). Романтическая живопись и поэзия придают природному пейзажу особую прелесть, указывающую путь в зачарованный потусторонний мир и пронизывающую зрителя дрожью. Не остается в стороне и новое естествознание. Алхимия представляла природу антропоморфно, она не знала граней между органической и неорганической природой, лишь позже люди научились мыслить природу автономно, осознавать своеобразие органического мира. В понятии «закон природы» природа предстает как высший законодатель.
Это всего лишь история игры слов, фантазий, живописи, в лучшем случае – садового искусства? Но внимательный взгляд разглядит, что за всем этим кроются витальные движущие силы, древний и современный опыт страсти и страдания. С Античности и до модерна в любви к природе, в идиллии садов и гротов были скрыты эротические мечты и желания. Молодой Гёте, и сам не раз обожествлявший природу, пародирует тогдашний культ природы в драме «Сатир», где новоявленный проповедник природы, заморочивший голову всему народу, подлежит в конце концов разоблачению как похотливый козлоногий фавн, который от имени всей святости новой природной религии вспрыгивает на юную деву. Кроме того, в ностальгии о природе отражается мучительный стресс от натиска индустриализации и урбанизации. Не случайно природный романтизм впервые расцветает в Англии эпохи начала индустриализации: он с самого начала сопровождал индустриализацию, принимая на себя вызванные ею боли. В эпоху начала культа природы люди обнаружили, что у них есть нервы, и что эти нервы очень уязвимы. «Торговец и адвокат бегут из уличной сутолоки и суеты, – писал Эмерсон[191], – стоит им только взглянуть на чистое небо и на леса, они вновь становятся людьми». Позже Джон Мьюр, отец-основатель американских национальных парков, находил сторонников в своей борьбе против лесорубов и инженеров-гидростроителей среди нервнобольных (см. примеч. 53). Биографии, идет ли речь о Жан-Жаке Руссо или Германе Лёнсе, дают немало примеров человеческих судеб, в которых явно прослеживается связь между культом природы и психическими недугами.
Менее всего объясним с утилитарных позиций романтизм диких скалистых пейзажей. Сам по себе он порожден модерном, но отсылает нас к древней вере в священные горы как обитель высших сил. При зарождении своем этот вид романтизма включал элемент страха. «Лорелея» Гейне, известнейшее произведение немецкого романтизма, рассказывает о гибели рыбака на скалистых утесах. Ущелья Янцзы, против затопления которых сегодня борется широкое протестное движение, всего несколько десятилетий ранее назывались «Ворота в ад».
Чем явственнее люди понимали, что природа исполнена собственного порядка, тем очевиднее становилось, что этот порядок превосходит недолговечные правила, установленные человеком. Эта мысль привела к осознанию высочайшей ценности «дикой», не упорядоченной человеком природы. Руссо также любил дикую природу не как хаос, а как учредительницу нового порядка, высоко ценил труды Линнея, привнесшие в мир животных и растений категории и систему. Тем не менее страсть к природе, как и сама природа, уже в XVIII веке обрела собственную неукротимую динамику. В искусстве садоводства, в английской «садовой революции», когда прежний закрытый огород (hortus conclusus) превратился в «ландшафтный сад», прослеживается усталость от упорядоченной природы и тяга к отсутствию границ и радости сюрпризов. Вечная дилемма «естественного сада» заключалась в том, что мнимая «дикость» оставалась все же спланированной и аранжированной, а плавные изгибы дорожек и прудов вскоре стали шаблоном. Творческая сила и искренность чувства природы проявилась в том, что с XVIII века садовая культура постоянно пребывает в движении.
Развитие культа природы эпохи модерна шло не по прямой линии, и далеко не все в его истории может служить назиданием. Адам Смит сетовал, что сдельные рабочие лишаются здоровья, подавляя естественную потребность в отдыхе: «К отдыху и пощаде призывает голос самой природы…» Но именно либеральное учение, стремившееся направить экономику по ее естественному пути, послужило толчком для подавления человеческого естества, на что жаловался Смит. В Англии XVIII и XIX веков расцвел аристократический культ деревьев, они стали «неотъемлемой составной частью устройства жизни высших классов», но при этом оказалось в упадке лесоводство. Знаменитые парковые постройки князя Пюклера-Мускау[192] финансировались за счет «полного опустошения мускаусских лесонасаждений»: триумф одной природы происходил за счет упадка другой (см. примеч. 54).
Естественное право в XVIII веке пережило свой золотой век, и, как подчеркивает немецкий историк права Франц Виакер, заложило уважение к человеческому телу: под его «влиянием с начала XVIII века постепенно улеглись языки инквизиторских костров, утихли стоны и хрипы тех, кого подвергали пыткам и мучительным казням…». Но вскоре голосу природы как ведущему юридическому авторитету суждено было умолкнуть, верх одержали противоположные тенденции, сделавшие право продуктом государства и истории. Французская революция украшала себя природной символикой. В 1794 году Страсбургский собор был освящен как храм природы, и на клиросе насыпали гору из скального щебня. Во время революции множество деревьев свободы выкапывали с корнями, в отличие от традиционных майских деревьев, и пересаживали. Но при этом немалое их число засохло (см. примеч. 55). Этот древесный театр резко контрастировал с массовыми повреждениями лесов, происходившими в то время. Охрана лесов и представление о государстве как об организме, который не переносит хирургического вмешательства, стали впоследствии оружием Реставрации. Определенные политические услуги в конечном счете на пользу природе не пошли. Однако сама идея природы в долгосрочной перспективе всегда умела дистанцироваться от них.
Пейзажные, или ландшафтные, парки[193], в которых воплощался идеал природы, были вдохновлены пейзажной живописью. Концепция «ландшафта»[194], в XIX и XX веках сыгравшая большую роль в развитии географии и экологии, пришла из живописи. Изобретенная художниками Ренессанса техника перспективы – характерный элемент особого пути Европы – тренировала восприятие переднего и заднего планов, микро– и макроструктур. Поскольку мысли движимы чувствами и находятся во взаимодействии с чувственным восприятием, такое обострение взгляда важно и для развития экологического сознания. Голубые горы на горизонте приносили радость от бесконечности природы. В пейзажной живописи комбинируются идиллическая и дикая природа, усеянные цветами луга и панорамы крутых скал. Художники давно поняли, что радость от тех и других взаимосвязана, опередив в этом современных природоохранников с их спорами о том, следует ли национальным паркам культивировать традиционный пастбищный ландшафт или полностью предоставить свои земли дикой природе.
Важны не только новые способы восприятия, но и телесный опыт, связанный с появлением садовых и парковых сооружений. На исходе XVIII века была изобретена прогулка, история которой, как пишет культуролог Гудрун Кёниг, входит не только в историю менталитета и тела, но и в «историю чувства природы». Обладая благотворным действием на пищеварение, прогулка избавила «сидячие» слои общества от основного источника телесного дискомфорта. Оживленное общение в тенистых аллеях ворвалось в привычный распорядок жизни и нарушило строгую сословность светских гостиных. Укромные уголки пейзажных парков стали излюбленными местами встреч влюбленных, что вполне отвечало пожеланиям придворного общества эпохи рококо. «Парковое царство Вёрлиц» под Дессау[195] было наполнено эротическими изображениями, с помощью которых его основатель, фюрст Леопольд Фридрих Франц фон Анхальт-Дессау, тщетно пытался пробудить чувственность своей прекрасной юной супруги (см. примеч. 56). Для кого-то любовь к природе стала эрзацем любви к женщине. С XIX века отпускной отдых и выезды на природу по выходным дням, позволяющие почувствовать контраст между индустриальным и природным мирами, становятся своего рода ритуалом и охватывают все более широкие слои общества.
Что происходило в эпоху модерна с естествознанием? Было ли оно совсем иным миром, в котором природа представала застывшим аналитическим понятием? Но естествознание и культ природы соединяет целая сеть разнообразных связей, начиная с физикотеологии[196] XVII и XVIII веков. Связи эти носили не только интеллектуальный, но и эмоциональный характер: естествознание долгое время также подпитывалось сладострастной радостью общения с природой и ненасытной любознательностью. Исследователи природы черпали вдохновение не только в лаборатории, но и в прогулке. Слово «увеселения» (Belustigungen) было широко распространено в заголовках естественно-научных статей.
Наиболее глубоко вера в силу природы проникла в медицину. Это относится не только к романтически-целостным направлениям в ней, но и к той линии медицины, которая постепенно развивалась в точную аналитическую естественную науку. Как раз потому, что первое время следствием веры в природу был «терапевтический нигилизм», уверенность в том, что нет никакой терапии, основанной на точной науке, врач чувствовал себя отброшенным назад, к целительным силам природы (vis medicatrix naturae). Один из ведущих умов романтической медицины, Андреас Рёшлауб, еще около 1800 года предостерегал о вредном влиянии дыма, образующегося при сгорании каменного угля, хотя некоторые медики, находившиеся под влиянием бактериологии, не хотели признавать этого даже в 1900 году. Ученик Рёшлауба, Иоганн Непомук фон Рингейс, резко критиковал входившую в моду инструментализацию медицины. Особенно много протестов с давних пор вызывали акушерские щипцы. Еще в XVII веке Уильям Гарвей, знаменитый физиолог, открывший систему кровообращения, возражал против всякого лишнего вмешательства при родовспоможении, нарушавшего «спокойное дело природы». Британские врачи и в самом деле долгое время очень сдержанно относились к акушерским щипцам. В Париже, наоборот, в XVIII веке к ним прибегали все чаще. В 1790 году Иоганн Лукас Боер, один из корифеев находящейся на подъеме венской медицины, пережил тяжелейший удар, когда после его попытки ускорить процесс родов при помощи щипцов скончалась его пациентка эрцгерцогиня Елизавета. С этого момента Боер относился к щипцам с крайней осторожностью и стал «пионером естественного родовспоможения». Он говорил, что «во Франции изучил, на что способно искусство, а в Англии – на что способна природа» (см. примеч. 57).
Известнейший естествоиспытатель XIX века Чарльз Дарвин приобрел свои познания о происхождении видов не в лаборатории, а в путешествиях и наблюдениях. Верен ли тезис Дональда Уорстера о том, что теория Дарвина с ее жестокой «борьбой за существование» пробила глубокую брешь в идиллическом представлении о природе? Это не вполне так, ведь то, что смерть – такая же часть природы, было далеко не новостью. В то же время дарвиновская теория вовсе не делала природу недостойной любви. Квазирелигиозное обаяние дарвинизма покоилось на новом чувстве единства человека и природы. Ведущие немецкие дарвинисты, такие как Эрнст Геккель[197] и Вильгельм Бёльше[198], в своих трудах о природе не поднимали много шума вокруг борьбы, а отдавали предпочтение заманчивым картинам единства человека и природы. У Бёльше человеческое естество обнаруживается прежде всего в любви, а именно в разнообразных проявлениях сексуальности. В 1903 году Вальтер Шёнихен, известный позже как ведущий природоохранник Третьего рейха, в «докладе о дарвинизме» подчеркивал, «какую необычайно важную роль» для выживания всех живых существ играет «мнимая смерть», не в последнюю очередь умение маскироваться (см. примеч. 58).
Возможно, культ природы привел к чрезмерной вере в ее нерушимость, освободив таким образом путь для разграбления ее последних ресурсов. Иммануил Кант считал слухи о том, что безлесные провинции трудно объяснимым образом снабжались лесом-плавником, указанием на «царящую в природе мудрость». Однако именно в то время отовсюду зазвучали тревожные сигналы о дефиците дерева. Беспокойство о сверхэксплуатации природы пришло не столько из натурфилософии, сколько из практической нужды в ней. Но и охрана лесов, охрана природы по-своему строилась на возможности планировать природу; принять ее непредсказуемость было нелегко. Чаще, чем ученые, говорили об этой непредсказуемости инженеры – по необходимости, ведь природа постоянно нарушала их расчеты. Технический опыт также порождал уважение к природе (см. примеч. 59).
Изнаночной стороной культа природы эпохи модерна было пренебрежение к городу. В обаянии мечтаний о дикой природе атрофировался вкус к более дружелюбному устройству городских ландшафтов. Страшные промышленные города стали своего рода накликанной бедой (self-fulfillingprophecy): разраставшиеся без всякого плана индустриальные районы подтверждали худшие предположения. В последующих попытках гигиенизации городов лейтмотив «природа» сколько-то значимой роли, видимо, не играл. Так что влияние культа природы пока не затрагивало индустриальную цивилизацию.
5. ПРИРОДА И НАЦИЯ. НА ПУТИ К КОНКРЕТИЗАЦИИ ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДЫ
Современному немцу хорошо известно, какими опасностями грозит национализм, но после двух мировых войн он уже не ощущает того обаяния, которое исходило от него когда-то и которое привлекает многие народы и сегодня. Чем его можно объяснить? Политическая и экономическая привлекательность национализма не оставляет сомнений. Но это еще не все. Помимо клочка земли, унаследованного от предков (если таковой вообще имелся), каждому члену нации национализм предоставлял в воображаемую собственность огромную страну и обосновывал это право самой природой. В этом он походил на семью, чье особое покровительственное излучение объясняется тем, что человек принадлежит к ней благодаря рождению или браку, без иных условий или достижений. Не нужно было объявлять себя сторонником определенных религиозных догм, не нужно было заставлять себя верить в то, что противоречило бы личному реальному опыту – к собственной нации человек принадлежал «просто так», в силу одной лишь своей физической природы, понимаемой в качестве части природы коллективной. Благодаря этому национализм при всем его идеалистическом пафосе обладал чувственной подоплекой и таким образом создавал единство между внутренней природой человека и внешней природой.
Однако для этого требовались определенные представления о национальной природе: природе в окружающем мире и природе в человеке. «Это немецкое Отечество / где клятву скрепляет рукопожатие / где верность сияет взору / И любовь согревает сердце / Да будет так!» – писал Эрнст Мориц Арндт. «Немецкой» была здесь сердечная, глубокая, неискушенная и нерасчетливая любовь – та естественность, которая была близка к идеалу природы у Руссо и в целом носила наднациональный характер. Как пишет Фридрих Мейнеке[199], для Гердера, посетившего в 1765 году литовский праздник Солнцеворота и наблюдавшего, как бесшабашно танцуют между подожженных смоляных бочек местные женщины и девушки, воплощением и образцом естественных национальных характеров стал поющий и пляшущий прачеловек (см. примеч. 60).
Природа в вопросах нации допускает разные толкования. От природы все люди в чем-то, очевидно, равны, под любым экзотическим покровом обнаруживались те же общечеловеческие прафеномены любви и боли. Вместе с тем природа наделила отдельных людей и отдельные народы вопиющими различиями. Обусловленные климатом, ландшафтом и образом жизни различия народов и рас от Античности до наших дней являются неисчерпаемой темой путевых заметок, первый бум которых относится к началу Нового времени с его кругосветными путешествиями, географическими открытиями и научными экспедициями. Это время возникновения литературного жанра «естественной истории» и описания флоры и фауны конкретных регионов. «Сколь бесконечное блаженство, – восторгался в 1531 году сэр Томас Элиот[200], – черпает человек из созерцания разнообразия народов и животных, птиц, рыб, цветов и трав, из знакомства с обычаями народов и богатством их природы» (см. примеч. 61). Однако сделать заключение о природе немцев на основе германского ландшафта было нелегко, особенно в сравнении с северной и центральной Францией, от которой он не так сильно отличался.
Легче было такому народу, как норвежцы: когда в 1814 году они отделились от Дании, то смогли конституировать себя относительно датчан как народ северных лесов и гор. Национальный природный ландшафт здесь был почти задан и затем превращен в живой опыт благодаря норвежской «культуре открытого воздуха», длительным лыжным прогулкам в долгие зимы. «Север» был здесь куда более наглядной реальностью и в меньшей степени идеологией, чем в Германии. В Англии XVIII века происходило другое: здесь возникло стремление превратить всю страну в роскошный сад, то есть, конечно же, в английский ландшафтный парк, который стал бы резким контрастом искусственным паркам французского абсолютизма. В этом случае национальная природа была чем-то, что требовало практического созидания. «Аркадский» идеал был навеян овечьим пастбищем. Правда, Уильям Блейк в 1804 году писал, что «Англии милые луга» с пасущимися на них «агнцами божьими» осквернены «темными фабриками Сатаны» (см. примеч. 62).
Садовый архитектор из Фульды Форхер в трактате «Об украшении Германии», изданном в 1808 году, выдвинул лозунг: «Германия, вся Германия есть один цветущий сад!» Конечной целью для него было украсить «весь земной сад» и таким образом облагородить человечество. В таких садово-архитектурных проектах, массированно вторгающихся в ландшафт, также можно искать один из непризнанных источников современной экологической политики. Немецкая природа как вариант нового английского сада? С 1804 года Фридрих Людвиг фон Скелль руководил устройством английского парка в долине Исара в Мюнхене. Для одних этот парк был прекрасным «выражением немецкого духа», на других навевал тоску. Риль совсем не ценил «скованные», огороженные английские парки, куда нет входа пешему страннику, и боготворил «вольный лес» как природную основу немецкой свободы (см. примеч. 63). Но какой именно лес?
Трудности в прояснении или изобретении национальной природы могут быть продуктивными. Ведь при внимательном рассмотрении природа всегда предстает как бесконечно сложная целостность, и было только хорошо, что уже с ранних времен люди были вынуждены понимать немецкую природу как многослойное образование. Риль видел в ней следы истории, причем эту историю никак нельзя считать однозначно поучительной. Так, он считал, что его родное Среднегорье, хотя и представляет собой древний центр немецкой культуры, обескровлено раздробленностью и сверхэксплуатацией. Силы и ресурсы Риль видел лишь на больших пространствах севера, а также южной Германии и Австрии (см. примеч. 64). Однако естественное разделение Германии на три зоны ни в коем случае нельзя понимать как природную заданность триединства.
В отличие от этого, популярный и поучительный образ национальной природы представляли живописные полотна, в которых реальная природа подвергалась стилизации и представала в виде отдельных элементов. Модельный характер имела зачастую и та природа, к которой обращались защитники природы и ландшафта, чтобы оправдать сохранение определенных ландшафтных декораций. Раньше и отчетливее всего процесс изобретения национальной природы прослеживается в пейзажной живописи – отражении вкуса широкого круга покупателей. У ее истоков стоят голландцы с изображением их отвоеванной у моря и вечно находящейся под угрозой затопления земли. Когда пейзажная живопись старых голландцев отошла от итальянских образцов и отказалась от живописной романтики гор и долин, она с наслаждением погрузилась в даль пространства, воду и облака, в обаяние зимы. Все это внешне походило на дикую природу, хотя Голландия подверглась более интенсивному освоению, чем Италия. В Германии, России и Скандинавии национальные пейзажи также писались в основном как северные, контрастирующие с итальянской идиллией, которая, в свою очередь, была в значительной степени игрой воображения северных живописцев (см. примеч. 65).
Споры о том, как конкретно нужно представлять себе национальную природу, разгорелись прежде всего на примере леса. Более или менее ясным это казалось во Франции, где сохранилось гораздо больше лиственных лесов, чем в Германии. В середине XIX века Барбизонская школа живописи близ леса Фонтенбло – смешанного леса, осветленного традиционным для этих мест выпасом – организовала эффективную борьбу против превращения его в хвойные лесопосадки. Эта школа стояла у истоков импрессионистской живописи на открытом воздухе (пленэр, от франц. en plein air), и поэтому свой лес был ей нужнее, чем художникам, работавшим в ателье. Барбизонцы добились того, что в 1860 году специально для целей искусства здесь был учрежден природный резерват. Это стало первым выступлением в защиту ландшафта во Франции. Немецкое лесоведение, как подчеркивает Пфайль, было, в отличие от французского, «исключительно продуктом немецкой раздробленности», и потому единого «немецкого» леса не знало – по крайней мере к тому моменту, когда Пфайль писал эти строки (см. примеч. 66).
Каспар Давид Фридрих[201] на картине «Охотник в лесу», написанной под впечатлением Освободительных войн, изобразил густой высокий хвойный лес, подобный готическому собору – олицетворение немецкого леса, смыкающегося над французским оккупантом. В XIX веке популярным немецким рождественским деревом становится пихта. Однако же летом большинство немцев предпочитали лес смешанный, с лиственными породами. В XX веке палинологи подтвердили, что именно такой лес был естественной растительностью для большинства немецких регионов. Впрочем, изучение пыльцы ископаемых растений дало основание расширить видовой спектр «естественного» леса – как оказалось, до последнего оледенения здесь произрастали многие виды, которые ледник оттеснил впоследствии к югу. Наибольшую известность получили дискуссии по поводу введения в культуру североамериканской дугласии. Эти споры шли с 1880 года как в Германии, так и во Франции и раскололи лесоводов на настоящие фракции. Пыльцевой анализ, однако, доказал, что предки дугласии встречались и в Европе и исчезли оттуда лишь в ледниковый период.
Многие защитники природы воспевали смешанный хвойно-лиственный лес как «пранемецкий». С другой стороны, как раз в прусских и австрийско-альпийских культурных центрах преобладали хвойные породы. При национал-социализме в Немецком союзе родного края[202] был создан Комитет по спасению лиственного леса, в 1941 году он обратился к общественности с меморандумом, в котором безвестный рифмоплет сетовал: «О немецкий лес, о зелень буков / И мощь сильных дубов / о немецкий лес, ты чахнешь / под рукой твоего душителя!». Звучали ссылки на слова Гитлера о том, что «немецкий ландшафт» должен «при любых обстоятельствах остаться источником силы и крепости нашего народа». Однако при этом хватало честности признать, что «для восстановления истинно немецкого ландшафта» нужно для начала «прояснить, каким был прежний лес» и привести его в созвучие с современными интересами. Бросается в глаза, что в массе отзывов, поддержавших меморандум, национальный мотив полностью уступает место экологическим и гидрологическим аргументам – и это в 1941 году! (См. примеч. 67.) Лесной романтизм популярной немецкой литературы – будь то «Молчание в лесу» Людвига Гангхофера, «Лесной крестьянин» Петера Розеггера или «Лесные люди» Генриха Хансякоба[203] – носил региональный, а не национальный характер. Все эти книги посвящены родному краю – Альпам и Шварцвальду. В Северной Германии центром романтической любви к природе стала Люнебургская пустошь, возникшая в результате антропогенного обезлесения, но для Лёнса и его почитателей воплотившая в себе величие дикой природы.
Для Риля немецкая природа, дикие леса еще были живым и даже широко распространенным ландшафтом, хотя им и грозило наступление «противоестественного». В конце XIX века, напротив, выросло число пессимистов, для которых окружавшая их реальность была далека от первозданной немецкой природы и уходила от нее все дальше. Людвиг Клагес[204] в 1913 году говорил, что «фауна Германии» почти полностью уничтожена, даже певчие птицы «год от года» встречаются все реже. «Всего одним поколением раньше… летом даже в городах голубая даль» полнилась «щебетом ласточек», а теперь «даже на селе» стоит «зловещая тишина». Уже появляется грозный призрак «безмолвной весны», тот самый, который много позже, в 1960-е годы, взволновал американское общество! Однако зародившаяся на фоне столь мрачного будущего «охрана природы» свелась к защите отдельных клочков земли – резерватов. Могло ли быть иначе? Как раз самым страстным защитникам природы часто не хватало широты взгляда, способности видеть, что охранять стоило не только «нетронутую» природу. Новое тоже не всегда было дурно. Так, в XIX веке в Германии появился хохлатый жаворонок – степной вид, который нашел новые для себя местообитания в ландшафтах «культурных степей» (см. примеч. 68).
С конца XIX века и в Германии, и во Франции охрана природы (Naturschutz) была тесно связана с охраной родного края (Heimatschutz) – сохранением традиционной сельской архитектуры и деревенского пейзажа. Можно подумать, что между первым и вторым возникает конфликт: «родной край» отражает тоску по уюту и безопасности, «природа» – тоску по свободе. Но это не обязательно противоречие. В условиях Европы имело смысл связать одно с другим, ведь и за «дикой» природой, как правило, скрывались древние пастбища. Оба вида ностальгии были мечтой о самобытном региональном пейзаже. Хотя звучали слова о «немецкой Родине», но под «Родиной» подразумевали, как правило, хорошо знакомые окрестности родных мест. Основной силой немецких движений в защиту природы и родного края были региональные подразделения.
Отношение членов этих движений к руководящей элите кайзеровской Германии было неоднородным. Зачастую они горько жаловались на то, что государственные службы и промышленность игнорировали их требования. При этом у них не было недостатка в связях с высшими сферами. В принципе существовал широкий консенсус о том, что цели охраны природы и родного края достойны внимания и почета. В 1906 году в Прусском министерстве по делам религии, образования и медицины (Kultusministerium) была создана «Государственная служба ухода за памятниками природы», которую возглавил палеоботаник и защитник природы, Гуго Конвенц. Это была первая в Европе служба, специализированная на охране природы. Ее структуру дополнили региональные отделения. Конвенц не был публичной фигурой, однако хорошо разбирался в бюрократических механизмах. С 1907 года охрана родного края быстро набрала темп благодаря последовательному принятию в федеральных землях «законов против обезображивания» (Verunstaltungsgesetze). Посредством этих законов между государством и защитниками родного края был установлен общий язык и налажено повседневное сотрудничество (см. примеч. 69).
Основным успехом охраны природы и родного края было сохранение отдельных памятников, например деревьев или зданий, в то время как ключевые зоны аграрной, лесной и экономической политики остались для нее недоступными. Однако не только деревья были популярным олицетворением природы, не менее любимы были животные. Где же здесь было искать «немецкую» природу? Давно уже не было крупных диких млекопитающих, которые могли бы стать национальными символами, Германия не обладала ничем, что могло бы сравниться с американским бизоном. Немецкая овчарка была молодой породой, ее вывели около 1900 года. В 1930-е годы предпринимались попытки акклиматизировать зубра на полуострове Даре, но успеха они не принесли. Наибольшей симпатией любителей природы в Центральной Европе пользовались птицы. Движение охраны птиц, ведущую роль в котором играли женщины, стало одним из первых смысловых центров немецкой охраны природы. Оно быстро нашло отклик у правительств, вплоть до имперского уровня. В 1888 году, после 12-летнего обсуждения, был принят Имперский закон об охране птиц, в котором, правда, к досаде многих любителей птиц, все еще проводилась граница между полезными (насекомоядными) и бесполезными видами. В это же время английское движение охраны птиц, в котором также преобладали женщины, сражалось против охоты на пернатую дичь. Борьба была направлена на изменение потребительского спроса и проводилась в виде эмоциональной кампании против шляп, украшенных птичьими перьями. В вопросе охраны птиц между германской и романской Европой тогда произошел раскол. В романской Европе ловля птиц олицетворяла общедоступную охоту и была популярным народным видом спорта. В Германии, как можно понять из арии птицелова Папагено из «Волшебной флейты» Моцарта, ее когда-то тоже любили, но теперь для германских народов она стала проявлением искаженного отношения к природе у романцев. Вероятно, в Германии наиболее сильный импульс для принятия законов об охране птиц исходил не от романтизма, а от сельского хозяйства, знавшего, как сильно свободная охота на пернатых ухудшает ситуацию с вредителями, в первую очередь с гусеницами. Экологический подход к птицам и насекомым был основан прежде всего на практике земледелия. Здесь задолго до споров вокруг ДДТ сложилась традиция «биологических методов борьбы с вредителями». Поскольку перелетные птицы не знают границ, уже в 1902 году была заключена Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве (см. примеч. 70).
Можно было ожидать, что «национальный» мотив будет особенно действенным для охраны от загрязнения вод Рейна. Но в конце XIX века такое предприятие было безнадежным: в «немецкий поток» сливалось слишком много сточных вод. В 1899 году высокопоставленный чиновник на празднике Дня рыболова жаловался: «В 1870 году мы сражались за немецкий Рейн, а наши сыновья в новой войне смогут сражаться лишь за рейнскую сточную канаву!» (См. примеч. 71.)
Гораздо более целостным, чем в Германии, представление о национальной природе было в США. Поскольку здесь не было древних городов и архитектурных сооружений, которые были бы подтверждением исторически сложившейся идентичности, здесь особенно настойчиво искали национальную идентичность в природе. Но какую идентичность и в какой природе? Долина Потомака была уникальной для Томаса Джефферсона[205], но европейские путешественники, глядя на нее, вспоминали долину Рейна. Самое сильное впечатление производили гигантские леса с их величавыми деревьями, однако им угрожала целая армия лесорубов, и их топоры были не менее американскими, чем исполинские деревья. Томас Коул[206] писал свои величественные романтические лесные панорамы в горьком осознании уязвимости изображаемой им природы. Его стихотворение «Стон о лесе» («The Lament of the Forest», 1841) заканчивается взглядом в близкое будущее, когда безлесные горные вершины иссохнут на солнце, источники иссякнут, звери вымрут и «наша древняя раса» подобно израэлитам рассеется среди народов (см. примеч. 72).
Грандиозную природу, о которой можно было сказать, что она превосходит Альпы, американцы обнаружили лишь в горах Дальнего Запада. Здесь янки, за долгие годы привыкшие бороться с дикой природой, открыли в ней новый для себя идеал. Однако произошло это именно тогда, когда этот идеал оказался под угрозой. Американский вариант природы тоже нуждался в защите. В 1860-х годах возникло американское движение национальных парков, позже послужившее прообразом сходных инициатив во всем мире. В 1872 году был основан Йеллоустонский национальный парк, в 1890-м – Йосемити. В долине Йосемити уже с 1864 года существовал общественный парк штата Калифорния. Его горные ландшафты с их дикой романтикой всегда оставались главным символом идеи национальных парков, «лучшей идеей Америки всех времен». Мир первозданных, грандиозных гор предлагал такую природную идентичность, которая полностью отвечала восхождению Соединенных Штатов на роль мировой державы. Лишь в 30-е и 40-е годы XX века, когда во Флориде велись работы по организации национального парка в болотах Эверглейдс, экологический аспект «биоразнообразие» вышел на первый план, потеснив стремление к живописным декорациям. Но националистический мотив в американской охране природы сохранил свои позиции. Когда Рейчел Карсон, будущий автор «Безмолвной весны», в 1946 году участвовала в конкурсе на лучший текст торжественной клятвы для молодежи в защиту природы, она получила первый приз за следующий текст: «Я торжественно клянусь хранить и защищать плодородные почвы, могучие леса и реки Америки, ее дикую природу, ее минералы, на которых покоится ее величие и от которых зависит ее сила» (см. примеч. 73).
В фигуре Джона Мьюра, настоящего титана дикой природы, сумевшего превратить борьбу за спасение лесов в «часть вечной борьбы добра со злом», движение национальных парков получило образ вождя, благодаря которому казалось, что это движение вышло из лесов. Но в реальности идея национальных парков была порождением городской ностальгии и часто входила в столкновение с интересами местных жителей – владельцев ранчо и лесорубов. Это заставило протагонистов национальных парков искать поддержку у федерального правительства. Поскольку на Западе еще оставалось много «общественной собственности» (public domain), вмешательство государства имело правовой базис (см. примеч. 74).
Тогда же вырубка американских лесов стала вызывать более серьезные экономические тревоги. Уже в 1876 году «Scientific American» опубликовала редакционную статью под заголовком «Растранжиривание древесины как национальный суицид», в которой неумеренные рубки леса трактовались как угроза для существования нации. В 1880-х годах лесной рынок Чикаго, к тому времени крупнейший в мире, оказался в кризисе из-за того, что все доступные для него леса были вырублены. Теперь и США, как веком ранее Европа, переживали волну фобий, вызванных дефицитом леса и сопровождавшихся чрезмерным пессимизмом (см. примеч. 75).
Теодор Рузвельт, президент США в 1901–1909 годах, переполненный кипучей энергией реформатор и империалист, обнаружил в охране национальных ресурсов широкое поле деятельности, вдохновлявшее и его самого, и других энтузиастов. В лице Гиффорда Пинчота, который с 1900 года возглавлял лесной отдел Министерства сельского хозяйства и ощущал себя главой великой кампании по восстановлению лесов, он нашел конгениального единомышленника. После того как США более 100 лет вели самые хищнические в истории рубки, картина изменилась, и на сцену в качестве национальной сверхзадачи и идеального поля для демонстрации активности государственных лидеров вышла охрана природы. Охрану природы, охрану вод, лесную политику, экономическую предусмотрительность, повышение эффективности, усиление нации – все эти мотивы, которые в Европе существовали более или менее независимо друг от друга, Теодор Рузвельт, а затем, в 1930-х годах, Франклин Д. Рузвельт сумели увязать в одно могущественное, пусть и мало согласованное, целое. Противоречие между conservation (устойчивое использование ресурсов, охрана окружающей среды, то есть поддержание ее существующего в данный момент состояния) и preservation (охрана дикой природы) какое-то время оставалось скрытым. Однако древние исполинские деревья, патриархи американских лесов, в глазах учрежденной Пинчотом лесной администрации были всего лишь признаками неэффективного управления лесами. Впрочем, основным двигателем лесной политики были интересы орошения американского Запада, а исходным пунктом – то, что деревья удерживают влагу. Когда нерентабельность орошения пустынных земель стала явной, лесную политику возвели на уровень национальной задачи, правда, не выведя ее полностью из-под давления партикулярных интересов. Когда в связи со стремительным ростом города Сан-Франциско потребовалось провести в него воду из долины Хетч-Хетчи в Йосемити, между conservation и preservation произошло показательное столкновение, в котором сторонники дикой природы потерпели поражение. С точки зрения современной экологии эпоху Теодора Рузвельта, как и «Новый курс» Франклина Д. Рузвельта, маркирует не только поворот к политике защиты окружающей среды, но и постоянное нарушение естественного водного баланса (см. примеч. 76).
Даже страстные защитники природы, как правило, думали не о природе в целом, а имели определенные предпочтения. Для великого охотника Теодора Рузвельта природой были прежде всего животные, и его удивлял Джон Мьюр, который, когда они вместе путешествовали верхом через Йосемити, смотрел лишь на деревья и скалы и не прислушивался к пению птиц. Селективная любовь к природе проявилась и в знаменитом экологическом скандале в Кайбабе в 1920-х годах. Служба национальных парков столь успешно понизила численность хищников в резервате Кайбаб, что поголовье оленей выросло с 4 тыс. животных до почти 100 тыс., следствием чего стало сильное повреждение лесов. Борьба между егерями и лесниками переросла в разбирательство между штатом Аризона и Федеральным правительством, в 1928 году Верховный суд вынес решение в пользу Федерации и леса. Этот случай сыграл ключевую роль в судьбе Олдо Леопольда, нового идейного вдохновителя американской охраны природы. Азартный охотник на хищников, после инцидента в Кайбабе он понял, что может быть мудрее предоставить природу самой себе и дать хищникам возможность жить и размножаться (см. примеч. 77). Поскольку в конечном счете преклонение перед дикой природой шло на пользу и лесам, то такой подход мог снять и противоречие между conservation и preservation.
В США, как нигде в мире, охрана природы и ресурсов уже с начала XX века стала первостепенным вопросом национальной политики. Но можно ли из этого делать вывод о том, что она способствует неистощительной экономике, до сих пор непонятно. Идея устойчивого лесного хозяйства начала побеждать в США лишь с 1920-х годов, когда ограничение рубок стало отвечать корпоративным картельным интересам олигополистических лесоторговцев. Связанный с политизацией на высочайшем уровне акционизм невольно бил все время в одну точку и не мог препятствовать тому, что США и сегодня остаются мировым рекордсменом в потреблении ресурсов и блокируют международные переговоры по снижению промышленных выбросов. Создается впечатление, что идеал дикой природы отвлекает внимание от проблем перевода индустриальной цивилизации на более экологичные рельсы.
Какие выводы во всем этом контексте можно сделать из истории охраны природы и родного края Германии? «Жалкая мелочевка эта наша охрана природы» (Pritzelkram ist der Naturschutz, so wie wir ihn haben), – язвил в 1911 году Герман Лёне. «Обезображиванию природы, напротив, нельзя отказать в гениальном величии. Оно работает “оптом”, охрана природы – “в розницу”. Ярость зубовная охватывает при виде жестоко изуродованного немецкого ландшафта». И в самом деле, многие успехи охраны природы с большого расстояния кажутся ребячески-мелкими, нередко все движение растворялось в мелочном и безотрадном управлении кружками. В том же 1911 году Эрнст Рудорф предостерегал, что правление хочет «до смерти реорганизовать» Союз родного края (см. примеч. 79). Однако подобные замечания – еще не последнее слово. При подведении общего исторического баланса не следовало бы слишком увлекаться отдельными группами и эпизодами. Итоговый вопрос: на какие процессы повлияли эти движения в долгосрочной перспективе? Какие они наладили контакты, какие установили связи с другими течениями, какую лепту внесли в укрепление природоохранных институтов с устойчивым долгосрочным действием?
Хотя Союз родного края был враждебно принят фабрикантами извести и кровельного картона, однако нашел финансовую помощь у Круппа. Взятие под охрану Люнебургской пустоши в 1911–1912 годах получило мощную поддержку даже у Кайзера Вильгельма II. Конвенц, возглавлявший прусскую охрану природы, находился под протекцией могущественного министериальдиректора[207] Фридриха Альтхофа. Если многие защитники природы сами по себе были далеки и от мира, и от власти, то об охране природы в целом этого сказать нельзя. Да, в борьбе за Лауфенбургские пороги[208] природоохранники потерпели сокрушительное поражение, несмотря на то что на их стороне было немало представителей духовной элиты кайзеровской Германии. Но уже вскоре, при работах по спрямлению русла Исара, инициативы защитников природы и родного края имели частичный успех (см. примеч. 80).
Естественно, не было и нет никакой только-немецкой природы. Но увидеть в природе не только философски-обобщенное понятие, но и нечто регионально-самобытное и развивающееся во взаимодействии с определенной культурой было шагом вперед и в научном, и в практическом отношении. Конкретное представление о динамической целостности природы можно получить лишь в ограниченных пространствах. Возможности такого подхода не были исчерпаны в националистическую эпоху, тем более что он опередил во времени экологическую науку. Способствовало ли слияние природы и нации росту националистических иллюзий? В чем-то – конечно, но в итоге именно национальные идеалы природы привели к избавлению от иллюзий и становлению критического экологического сознания. Рудорф в 1880 году призывал задуматься о том, что в отдельных аспектах охраны природы и ландшафта англичане и французы далеко опередили немцев. Для националистической мании величия немецкая природа не могла предложить ничего. Даже для такого человека как Шёнихен само собой разумелось, что многие «памятники природы чужих стран по размеру и величию превосходят все… что только можно найти из проявлений природных сил в нашей родной стране» (см. примеч. 81).
Тезис известного немецкого социолога Ульриха Бека о том, что традиционная охрана природы так и не смогла избавиться от стигмата «отсталости и враждебности к прогрессу», не соответствует действительности. Наоборот, охрана природы наладила замечательно хорошие связи с наукой, экономикой и техникой своего времени. Она обладала сродством со многими новаторскими движениями того времени: «Перелетными птицами»[209], реформаторской педагогикой[210] и широким спектром новых направлений в гигиене, здравоохранении и быту, динамично взаимодействовавших. «Природа» выступала здесь не только объектом консервации, но и объектом созидания: так, с 1900 года «Вегетарианская плодоводческая колония Эдем» (vegetarische Obstbau-Kolonie Eden) вырастила на песчаных почвах Бранденбурга прекрасный фруктовый сад, удобряя его конским навозом с берлинских улиц. Защитники родного края боролись не только за сохранение фахверковых домов, но и против промышленных выбросов и загрязнения водоемов (см. примеч. 82). Насколько конструктивной и многообещающей была любовь к Родине, становится все более понятно сегодня, когда уже очевидно, какие страдания приносят множеству стран мира массовый уход людей с земли и неукротимое разрастание городских метрополий. Можно даже отнести к слабостям современного экологического движения то, что оно гораздо менее прежней охраны природы опирается на любовь к родным местам и их знакомому облику. Ведь только такой мотив может стать действительно широко популярным и возбудить истинные чувства. Лимиты на промышленные выбросы, выторговываемые экспертным сообществом, заманчивых целей не обещают!
Национализация охраны природы и родного края направлялась, в частности, на то, чтобы мобилизовать государственную поддержку на высшем уровне. Предположение о том, что цели этих движений могут быть достигнуты только с ее помощью, было абсолютно правильным. Ведь в конечном счете они имели дело со всем процессом индустриализации. Правда, прямой экологический промышленный ущерб проявлялся в то время преимущественно на коммунальном, а не национальном уровне. Это была эпоха, когда старые города внешне еще наполовину существовали как самостоятельный, отграниченный от окрестностей мир. Именно в них раньше всего становились ощутимы вредные последствия промышленной деятельности, и только в пределах города могли быть реализованы технические устройства по снабжению и по удалению отходов. Германия со своими традициями городского самоуправления получила при этом преимущество даже относительно Англии – родины городского санирования. Один из основных авторов английского санитарного законодательства XIX века, Эдвин Чедвик (1800–1890), которому приписывали честолюбивые стремления стать британским «диктатором здоровья», был противником коммун и боролся за создание централизованной государственной службы здравоохранения. Однако несмотря на общественное признание, путь централизации в XIX веке грозил стать тупиковым. Союз между гигиенистами и городами, сложившийся в конце XIX века в Германии, был в то время более эффективным (см. примеч. 83).
Городская «гигиена» стала символом великой эпохи коммунальной политики и «городских технологий», но вместе с тем и привыкания городов к растущей задолженности. При этом в политике снабжения коммуны ориентировали, насколько возможно, на получение прибыли, периодически достигая в этом успеха. Соответственно строительство очистных сооружений было менее популярным, чем водо– и газопроводов, электропроводки и канализации. В 1877 году Прусское государство попыталось ввести строгий запрет на сброс в реки неочищенных сточных вод, однако города, в первую очередь Франкфурт, апеллируя к теории «способности рек к самоочищению», добились смягчения запрета. Для немалого их числа этот успех стал пирровой победой, поскольку они сами страдали от стоков городов, расположенных выше по течению. Гамбург, построив канализацию по английскому образцу, оставил позади другие немецкие метрополии и считался особенно чистым. Но в 1892 году эпидемия холеры, к стыду и позору Гамбурга, обнажила недостатки его очистных сооружений и плачевные гигиенические условия, в то время как прусско-немецкая эпидемиологическая политика, возглавляемая Робертом Кохом, вышла из фиаско победителем. В то время, для того чтобы города принимали меры для очистки сточных вод, часто требовалось давление государства. Но и городам печальный опыт принес свои плоды, в других местах стали строить очистные сооружения, не дожидаясь, пока к ним в качестве «санитарной полиции» пожалует холера (см. примеч. 84).
«Спаси нас Господи… от Имперского закона о сточных водах», – вскричал Карл Дуйсберг, директор завода красителей «Байер» в 1912 году на Конференции ассоциации химической промышленности. Тогда уже было понятно, что национальные правовые нормы будут строже, чем предписания городов, по крайней мере таких, в которых доминировала промышленность. В XX веке полномочия коммунальных властей в ликвидации отходов часто тормозили решения экологических вопросов.
Новые масштабы экологических проблем требовали надрегиональных инстанций и лояльностей, и в этом отношении также важна связь между природой и нацией. Однако и в современной экологической политике присутствует не только логика централизации. Там, где наиболее сильные импульсы исходили не столько из научных дискурсов, сколько из чувственного восприятия и непосредственной затронутости, например, в вопросах загрязнения воздуха или повышенного уровня шума, на коммунальном уровне нередко происходило больше, чем на надрегиональном (см. примеч. 85). Конкретный чувственный образ природа всегда принимала прежде всего в конкретной местности.
6. ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Вопреки частым утверждениям, и речи не может быть о том, что человечество вошло в индустриализацию без забот и тревог, ничего не подозревая о ее нежелательных последствиях. Слепая вера в блага технического прогресса никогда не была единственной точкой зрения. Паровая машина с ее взрывоопасностью, шумом и чадом очень рано дала сигнал о появлении нового фактора беспокойства, требующего особой бдительности. С самого начала индустриализацию сопровождали жалобы и тревоги. Наверное, самое серьезное завоевание экологической истории состоит в том, что она заново открыла нам поток жалоб, написанных за ушедшие века. Эти исторические источники можно толковать двояко: с одной стороны, они свидетельствуют о печальных обстоятельствах, с другой – о нежелании людей покорно их сносить. Тогда в людях еще более глубоко, чем впоследствии, коренилось убеждение, что никто не имеет права безнаказанно причинять ущерб имуществу соседей. Около 1800 года в Париже, по свидетельствам того времени, шла «непрерывная борьба между фабриками и их соседями» (см. примеч. 86).
В потоке жалоб видны признаки всеобщего осознания кризиса, прежде всего с того времени, как промышленность стала концентрироваться в крупных городах и агломерациях. Зловещие последствия индустриального роста в такой мере ощущались тогда и глазами, и ушами, и носом, какую не может себе даже представить житель сегодняшнего санированного западного города, где нет ни густого черного смрада, ни расцвеченной стоками речной воды, ни грохота паровых молотов. Общество XIX века было едино во мнении, что дальше так продолжаться не может. В 1901 году Ганс Вислиценус, химик из Лесной академии в Тарандте, с 1850 годов боровшейся против выбросов соседнего Фрайбергского металлургического округа, выступая на общем собрании немецкой химической ассоциации, назвал «пылевое загрязнение, копоть, сточные воды, дым и сажу» «трудными детьми нашей промышленности», требующими «отцовской заботы со стороны государства» (см. примеч. 87).
Экологические тревоги городов в то время звучали в еще более грозном контексте, чем сегодня. Грязь и вонь промышленных центров напрямую сочетались с угрозами эпидемий и социальных взрывов. С точки зрения учения о миазмах[211], господствовавшего почти до конца XIX века, наихудшим источником болезней было загрязнение почв. Поэтому дурные запахи считались не только неприятностью, но и признаком смертельной опасности – некоторые экологические тревоги прошлого мы сегодня полностью позабыли. Санация городов начиналась под знаком учения о миазмах. Победа бактериологии в конце XIX века, наоборот, смягчила некоторые страхи. Но даже к 1900 году эта победа еще не была окончательной. Вера в целительную силу свежего воздуха и не замутненного дымом солнечного света была как никогда популярна среди сторонников лечения природными средствами. Многие высокогорные курорты имели кредо: «Куда входит Солнце, туда не заходит врач». Но и городские реформаторы верили в благословенную силу «солнца и воздуха» (см. примеч. 88).
Сегодняшние экофундаменталисты, которые относят к экологическому сознанию только поклонение перед природой ради нее самой, не склонны принимать всерьез прежний его вариант, неразрывно спаянный с гигиеной и социальным вопросом. Но именно тесная связь с социальной политикой и здравоохранением могла придать экологической тематике мощную пробивную силу. Конечно, опыт XIX века в этом отношении неоднозначен. Если под «социальным вопросом» понимать в основном проблему водоснабжения и вентиляции домов казарменного типа, легко забываются конфликты, связанные с распределением. Эдвин Чедвик, пионер английского здравоохранения и канализации, был сторонником работных домов и жесткой линии в социальной политике, врагом сентиментальных филантропов. Вместе с тем внимание к жилью, водоснабжению и условиям обитания помогло осознать такие аспекты дискриминации социальных групп, которые выпадали из поля зрения при сосредоточении исключительно на оплате труда и продолжительности рабочего дня. Но эти аспекты были весьма существенны, качество жизни было и остается в не меньшей степени вопросом состояния окружающей среды, чем оплаты труда. Это понимали уже ведущие социал-демократы Германской империи. Филипп Шайдеман, депутат Рейхстага от Золингена, сознавался, что при виде Мюнгстенского моста[212], где «техника исправила то, что кажется недоработкой природы», «сердце заходится от радости, но вновь болезненно сжимается в груди, стоит только перевести взгляд на чернильно-черные воды Вуппера под этим чудом техники» (см. примеч. 89).
Главной заботой долгое время были фекальные загрязнения почв и вод. Эти тревоги имели за собой длинную историю, особенно в крупных метрополиях. В Париже беспокойство о загрязнении Сены стоками отхожих мест восходит к Средним векам, тем более что до 1860-х годов воду из Сены пили. Вместе с тем эта проблема была в принципе разрешима, ведь фекалии представляли собой ценные удобрения. Проблема же промышленного мусора, переработка которого далеко не так проста, вначале рассматривалась как побочная. До 1890-х годов Берлин приобрел для устройства полей фильтрации[213] площадь, вдвое превышавшую сам город! Даже мусор с городских улиц из-за высокого содержания в нем конского навоза ценился как удобрение. Кажется, что наибольшее раздражение конский навоз вызывал в городах США, где удобрения не так высоко ценились, как в странах Старого Света (см. примеч. 90).
Среди промышленных отходов долгое время обращали на себя внимание прежде всего те вещества, вредоносность которых была известна с доиндустриальных времен: мышьяк, свинец, ртуть, сера, соляная кислота… В Пруссии конца XIX века главные атаки были направлены на сливные щелочи стремительно растущего калийного производства: вредное воздействие солесодержащих стоков на питьевую воду и орошаемые луга (Wasserwiesen) были давней бедой в окрестностях солеварен. Впрочем, выбросы химических предприятий в XIX веке содержали в первую очередь серную и соляную кислоты. Проблема как таковая казалась разрешимой, поскольку эти вещества можно было превратить в ценные продукты. Каменноугольный дым считался опасным в основном из-за содержания в нем серы. Древесный дым, не содержавший серу, опасным не считали (см. примеч. 91). Химические заводы подвергались анафеме как «фабрики ядов» и вызывали вполне оправданное недоверие. В то же время именно химия, способная превратить в яркие краски каменноугольную смолу, накапливавшуюся на газовых заводах, обещала стать великим мастером безотходных производственных циклов. Среди всех отраслей промышленности химия первой сформировала штаб научных экспертов, не без успеха старавшийся взять в собственные руки дискуссию о возникающих рисках. Новые опасности химической промышленности были намного менее понятны для общества, чем давно известные. Скорее всего, это общая дилемма экологического дискурса.
Но главная тема экологических тревог XIX века была стара, как мир: вода! Ужас перед эпидемиями концентрировался в это время именно на воде, и был таким сильным, что на его фоне другие экологические проблемы поначалу отступали на задний план. Гигиенизация городов долгое время оставалась синонимом канализации – удалению сточных вод и подведению очищенной и проверенной питьевой воды. К той же теме относятся бальнеология и гидротерапия: за восстановлением сил и здоровья также обращались к воде, даже вопреки мнению медицинской науки. Первым трендом в снабжении питьевой водой был переход от грунтовых вод к проточным: все городские колодцы разом стали считаться нечистыми, и требуемые теперь (не в последнюю очередь для ватерклозетов) гигантские объемы воды брали в основном только из рек. Но это грозило еще ухудшить их загрязнение, и без того чудовищное вследствие канализации. В свете бактериологии реки, как предостерегал в 1914 году Генрих Цельнер, прусский государственный советник по вопросам химии (Staatschemiker), стали «в высшей степени подозрительны в гигиеническом отношении». «Многие реки» можно назвать разве что «потоками фекалий», – жаловался в 1912 году в обращении к Земельному парламенту Рейнско-Вестфальский комитет по поддержанию чистоты водоемов. Для очистки речной воды сооружали фильтры, но из-за слабого развития очистных технологий это было, по словам того же Цельнера, «жалкой временной мерой», «сомнительной с точки зрения гигиены и отвратительной с точки зрения эстетики» (см. примеч. 92).
В этой ситуации прогресс состоял в том, чтобы методом глубокого бурения открыть доступ к новым ресурсам грунтовых вод. Один из экспертов называл их «сокровищем во чреве земном», равным «самой прекрасной родниковой воде», «наилучшим образом предохраненной от возбудителей болезней и накопленной в невероятных объемах». «Нужно лишь извлечь из земли это сокровище». Однако уже в то время звучали предостережения о том, что неисчерпаемость грунтовых вод – большое заблуждение (см. примеч. 93). И точно ли было известно, что грунтовые воды абсолютно изолированы от загрязнений «верхнего мира»? Развитие глубокого бурения вело в область необозримых, незаметных и коварных рисков. Если бы люди с самого начала остановились на использовании городских источников и искали способы гарантированной очистки этих вод, это дало бы сильный толчок борьбе с загрязнениями грунтовых вод на месте. Признаком сверхэксплуатации грунтовых вод служила бы необходимость углублять колодцы. В XX веке крупномасштабное использование грунтовых вод с применением мотопомп стало самым слабым звеном в управлении водными ресурсами.
Предъявить иск на злоупотребления, связанные с водой, было гораздо легче, чем на дымовые и шумовые загрязнения, ведь правовые традиции в использовании воды уходили корнями в античные времена. Тогда, как и сейчас, многие активисты подчеркивали, что правовые нормы, необходимые для поддержания чистоты воды, давно существуют, нужно только уметь их применять (см. примеч. 94). Однако текучесть воды создавала для юристов проблемы. Поскольку загрязнение рек наиболее явно проявлялось в заморах рыбы, можно было бы ожидать, что первыми используют свои традиционные права рыбаки, но право рыбаков на точно установленную и подлежащую обжалованию степень чистоты воды нигде не было зафиксировано. Юрисдикция – что не удивительно! – не была готова к новой ситуации, она была настроена скорее на посредничество между плотогонами, владельцами водяных мельниц и крестьянами, заинтересованными в орошении своих лугов. Поскольку питьевую воду до сих пор получали в основном из колодцев, то и потребность в регулировании удовлетворялась здесь в рамках соседского права.
Наиболее масштабная из всех «сточных» проблем Кайзеровской Германии – проблема сливных щелочей калийного производства – в итоге была урегулирована с помощью картельной системы: через концессии сливных щелочей распределялись доли в производстве между калийными предприятиями. Здесь сочетались экономика и экология, ограничение производства и ограничение стоков! Необходимость действовать возникала из-за того, что сливные щелочи центрально-германских калийных заводов текли в аграрные регионы, где, в отличие от Рейно-Рурского бассейна, их нельзя было скрыть за формулой «местных особенностей»[214].
Кроме того, к голосам влиятельных аграриев здесь присоединялись и протесты крупных городов, таких как Магдебург и Бремен, с их самоуважением и вниманием к чистой воде под маркой городской гигиены. Однако решение проблемы щелочей с помощью картелей было не однозначным и содержало опасные тенденции: с одной стороны, оно подталкивало к тому, чтобы, сократив долю сливных щелочей, повысить производство, но с другой – давало официальное право на загрязнение рек, причем давало его именно тем, кто уже был самым опасным загрязнителем! (См. примеч. 95.)
В эпоху, когда над промышленными городами возвышались леса чадящих труб, еще более распространенной напастью, чем загрязнение воды, был дым. Однако эта беда не вызывала страха перед эпидемиями, даже наоборот: дым по традиции использовали как средство дезинфекции. Если прежде подозревали, что угольный дым был одной из причин туберкулеза – крупнейшей пандемии XIX века, то бактериология развеяла подобные мысли. Хотя в общем люди ощущали, что дым вредит их здоровью, но чувство это оставалось слишком расплывчатым. Подозрения в том, что дым является канцерогеном, появились только в 1950-х годах. Наиболее явным было негативное воздействие дыма на растительность вследствие снижения солнечного излучения. Эту проблему и в Германии, и в других странах привыкли решать «на пороге» правового поля, через выплату компенсаций, так что некоторые крестьяне получали немалую выгоду от дымового загрязнения (см. примеч. 96). Впрочем, дымовые облака над городами возникали не только за счет индустрии, печные трубы жилых домов тоже дымили вовсю. Вплоть до XX века «дымовая беда» (Rauchplage) практически не становилась предметом политики и решалась в основном бюрократическими путями.
С самого начала индустриализации стандартным средством снизить вред для непосредственного окружения было увеличение высоты фабричных труб. Высокие, видные издалека трубы были архитектурным знаком богатых промышленников. Такая политика держалась очень долго, вплоть до 1970-х годов, она отчетливо демонстрирует привлекательность простых и наглядных технических решений. Но уже в конце XIX века было ясно, что во многих случаях, например при «больших количествах кислых газов», это решение лишь выглядит таковым. Правда, нередко утверждалось, что «массы сгоревшего угля» «бесследно» исчезают «в безбрежном воздушном океане». Однако даже Вислиценус, который подтверждал эту версию еще в 1901 году, через 30 лет, в 1933 году, называл Хальсбрюкскую трубу[215], в то время самую высокую трубу в мире, «гигантским дальнобойным орудием для обстрела больших лесов» (см. примеч. 97). Для диоксида серы было доказано, что он не исчезает и при очень значительной высоте труб. Однако на углекислый газ внимания почти не обращали, эта позиция сохранялась до 1970-х годов.
Уже в XIX веке было хорошо известно, что объем дыма, по крайней мере его заметной глазу фракции, резко сокращается при повышении эффективности сгорания. При этом, в отличие от дорогостоящего наращивания труб, экологические цели совпадали с экономическими. Английский социальный романтик и протоэколог Уильям Моррис в 1880 году приводил в пример текстильного фабриканта Тайтуса Сэлта. В основанном им образцовом селении Сэльтер (Saltaire) под Брэдфордом высокая фабричная труба выбрасывала «не больше грязи, чем обычная кухонная». Почему же предприниматели не спешили реагировать на это? Вероятно, не последнюю роль играл тот факт, что котельные оставались для них «черным ящиком», заглядывать в который им не хотелось. Это был темный, населенный мрачными образами мир, долгое время ускользавший от инженеров и не поддававшийся никаким юридическим нормам. Управленческие полномочия и практическая компетенция находились здесь в совершенно разных руках. Но никакого фундаментального конфликта, который бы блокировал борьбу с «дымной напастью», не существовало. В принципе уже в конце XIX века от Германии до США было распространено мнение, что в этой сфере можно и должно что-то предпринять. Создается впечатление, что здесь, как и во многих других экологических вопросах, проблема состояла не столько в принципиальном противоречии между обществом и природой, сколько в инерции обстоятельств и отсутствии действенной коалиции заинтересованных лиц (см. примеч. 98).
Однако крупнейшие в Германии XIX века дебаты по поводу дыма разгорелись не в каменноугольных бассейнах, а в Саксонии. Объяснялось это в основном тем, что с обеих сторон были затронуты весомые политические интересы: против горной промышленности выступили сельское и лесное хозяйство, также опиравшиеся на государственный аппарат. Более того: в дискуссии о вреде металлургических выбросов, в особенности диоксида серы, противостояли две всемирно известные, соседствовавшие друг с другом высшие школы: Фрайбергская горная академия и Лесная академия в Тарандте. С обеих сторон выступали известные ученые, видевшие в проблеме промышленных выбросов шанс доказать свою компетенцию. Таким образом, эта дискуссия превратилась в долгоиграющий спектакль и приобрела некоторую, хотя и не полную, независимость от экономических интересов. При этом понимание экологических взаимосвязей обнаруживали не только те, кто активно подчеркивал ущерб от выбросов, ведь подобная монокаузальность отвлекала внимание от участия самой лесной службы в повреждении лесов (см. примеч. 99).
Сильнейшим участником во всех спорах об экологическом ущербе в XIX и начале XX века и в Германии, и на Западе Европы было гигиеническое движение. Слово «движение» здесь вовсе не является преувеличением, ведь под знаком гигиены сформировалась общеевропейская сеть, в которую входили политики коммунального уровня, медики и инженеры. Все они обладали особым духовным складом и были движимы воодушевлением, нередко доходившим до фанатизма. Это движение обладало большой пробивной способностью, потому что ставило перед собой конкретные практические цели. Как только одни цели достигались, оно находило другие, так как члены этого движения понимали здоровье очень широко, и после 1900 года это понимание еще расширилось. Речь шла не только об индивидуальной гигиене, но и о здоровье общества. Впоследствии борьбу за гигиену предпочитали интерпретировать как стратегию буржуазной социальной дисциплины, однако речь идет о явлении, распространенном далеко не только среди буржуазной элиты: в ее представителей оно скорее вселяло неуверенность. Гигиена пропагандировалась не только сверху, но и снизу, и это движение обладало самостоятельной динамикой (см. примеч. 100).
В отличие от защитников природы, многие гигиенисты на рубеже XIX и XX веков были преисполнены гордости. В 1911 году кёльнский коммунальный политик Краутвиг, которому к тому времени удалось превратить Кёльн с его дурной санитарной репутацией в город образцовой гигиены, говорил, что, оглядываясь назад, видит за собой 50 лет блестящих успехов. С 1888 года смертность в немецких городах впервые стала ниже уровня смертности в сельской местности. Для современников это был триумф гигиены, хотя ее заслуга до сих пор не доказана. Гигиенисты имели гораздо менее омраченные отношения с современной техникой, чем защитники природы, в центре их внимания находились как раз новейшие городские сетевые технологии. В свете истории среды гигиеническое движение выглядит решением одних проблем, и источником других. Ведущие гигиенисты боролись прежде всего за ватерклозет и канализацию. Очень скоро воспитанные носы уже не могли выносить запах уборных с выгребными ямами. В 1907 году врач Георг Бонне, обеспокоенный загрязнением рек, жаловался, что «у населения захватывает дух, как только оно слышит мечты о ватерклозетах, а их магистраты и депутаты городских советов как будто загипнотизированы» (см. примеч. 101). Но именно ватерклозет, как никакая другая инновация, повинен в том, что загрязнение рек дошло до кризисного состояния! Различные идеалы чистоты вошли в столкновение друг с другом.
Такая же драма случилась в 1950-е годы, когда поверхность рек покрылась пенистыми шапками от новых синтетических моющих средств. Если искать в истории движущие силы охраны окружающей среды, то среди них вскоре обнаружится стремление к чистоте со всеми его древними религиозными, моральными и гигиеническими мотивами. Но и здесь новые проблемы нередко возникали как нечаянные последствия решений предыдущих проблем.
Практика слива сточных вод в реки также опиралась на своеобразную веру в природу, в «способность рек к самоочищению». Однако уже к началу XX века стало очевидно, что объем стоков крупных городов намного превысил возможности рек. Дебаты по поводу общесплавной канализации были, вероятно, крупнейшей технической дискуссией XIX века, имевшей отношение к экологии. Либих проклинал «смывную канализацию» как упадок культуры, поскольку та окончательно отнимала питательные вещества у почв, и без того доведенных до крайней скудости. Окончательная победа этого типа канализации произошла далеко не сама собой, сначала против нее выступал широкий фронт институций – от сельских хозяев до домовладельцев, а кроме того, она вынуждала коммуны залезать в долги и повышать налоги. Строительство и подготовка к работе канализации в большинстве немецких городов продолжались и в XX веке. Но в отличие от предлагаемых альтернатив, «смывная канализация» имела преимущества большого комплексного решения, вокруг которого могли сплотиться различные интересы. На ее стороне был и такой «убийственный аргумент», как растущий ужас перед дурными запахами. При этом строительство очистных сооружений плелось далеко позади строительства самой канализации. Здесь тоже была путаница мнений и суждений, но не было ни серьезной дискуссии, ни тем более единого и окончательного решения. После того как гамбургская холера 1892 года остановилась на границах Альтоны, к тому времени оборудованной очистными сооружениями, очистные станции предстали «хэппи-эндом» катастрофы. Но в действительности полная очистка воды до сих пор остается историей без конца. Безусловно, около 1900 года очистных станций строилось все больше и больше – и механических, и химических, и биологических, но, по словам доктора Бонне, «водоемы, в которые эти “очистные сооружения” сливали свои мутные серо-коричнево-желтые потоки», превращались в «дурно пахнущие предзнаменования». Поля фильтрации, которые Чедвик когда-то считал лучшим решением для возврата сельскому хозяйству городских фекалий, а еще в 1902 году гигиенист Альфред Гротъян называл источником «тучного плодородия» для песчаных окрестностей Берлина, защитник ландшафта Альвин Зайферт уже воспринимал лишь как беспросветное свинство и насмешку над всякой гигиеной! (См. примеч. 102.)
В конце XIX века в ведущих индустриальных государствах был заложен ряд принципов для решения промышленных экологических проблем. Эти принципы были надежно и тщательно закреплены в технических системах и сохраняют свою эффективность до сих пор. Спектр их очень широк – от канализации до таких «технологий конца трубы» (end-of-the-pipe), как очистные станции и фабричные трубы, от переговоров о предельно допустимых значениях выбросов до частичного разделения жилых и промышленных районов. Дать этим стратегиям общую оценку не просто. Под технической «гигиеной» на фабриках понималось, как правило, улучшение вентиляции, что способствовало поступлению вредных веществ из рабочих помещений в окружающую местность. Таким образом возникало противоречие между охраной труда и охраной среды, и фронт врачей, зачастую единственных дееспособных экспертов в судебных экологических делах, раскалывался. Политика предельно допустимых значений имела сначала скорее символическое, чем практическое значение, поскольку их нельзя было ни научно обосновать, ни эффективно контролировать. Но какая могла быть альтернатива? Оглядываясь назад, можно увидеть в стратегии предельно допустимых значений ободряющий пример того, как экологическая политика, поначалу лишь символическая, со временем обретает вещественность. С точки зрения Джеймса Лавлока, автора гипотезы Геи, водная политика городов XIX века – прекрасный образец того, как поколение практически мыслящих людей справляется с тяжелейшими экологическими проблемами, даже не имея достаточной научной базы (см. примеч. 103). С современной точки зрения многие тогдашние решения только выглядят решениями, на самом деле они лишь выводили из поля зрения буржуазии наиболее неприятные явления и давали возможность продемонстрировать активную деятельность. Тем не менее, если помнить о том, каким был тогда объем выбросов и что было известно людям об их вреде, понятно, что великие проекты «городской гигиены» не были чистым фарсом.
Активнее стали не только государственные органы, но и частная экономика. Как пишет Ульрике Гильхаус, около 1914 года существовало уже «такое множество экологических технологий», что «Руководство по вопросам дыма и сажи» считало невозможным общее обсуждение всех сооружений (см. примеч. 104). Тогда казалось, что электричество и «белый уголь», то есть энергия воды, на долгое время избавят человечество от экологических и санитарных опасностей первых мрачных этапов индустриализации. Достижения химии также настраивали на оптимистическую веру в то, что развитие техники само решит ее проблемы. Но при внимательном рассмотрении многие успехи в безопасности и «гигиене» оказываются всего лишь побочными продуктами развития, ориентированного на частную прибыль. Общей технической перестройки в пользу коллективных экологических интересов так и не произошло.
VI. В лабиринте глобализации
1. ГЛУБОЧАЙШИЙ ПЕРЕЛОМ В ИСТОРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬЕ ПРОВАЛ ГЛОБАЛВНОЙ АМЕРИКАНИЗАЦИИ
Исторически подходить к вопросам экологии означает сегодня прежде всего постоянно помнить о том, что современная экономика по своему характеру полностью выпадает из всей предыдущей истории. За один год она выпускает в атмосферу дым от ископаемых энергоносителей, на образование которых ушли миллионы лет, и при этом не способна даже охватить взором последствия этого процесса, не говоря уже об управлении ими. Истоки этого переворота прослеживаются уже в эру перехода к углю, однако полное высвобождение истощительной экономики датируется XX веком, а многое относится и вовсе к его концу – тому периоду, который до сих пор находится в зоне слепого пятна исторической науки.
Новым при этом является не хищническая добыча невозобновимых ресурсов как таковая, а ее стремительно растущий темп и глобальные масштабы. Поскольку отдельные процессы в эпоху электрификации, моторизации и средств массовой информации все реже ограничиваются конкретными регионами и секторами экономики, то возникает все больше непреднамеренных синергетических эффектов. Автотрассы, ведущие в дальние провинции, плюс обусловленный достижениями медицины рост численности населения перечеркивают во многих частях мира официальную лесоохранную политику. В ФРГ предпринятые в эпоху Аденауэра[216] реставрационные усилия перекрыты динамикой массового потребления и совместным действием множества технических процессов. Ускорение многих процессов, которое 80-летний Тойнби считал наиболее тревожным аспектом современного развития, снижает способность общества к своевременному расширению контрольных инстанций. Если железнодорожные катастрофы еще были общественно значимыми событиями и требовали соответствующей реакции, то растущая лавина автомобильных аварий XX века лишила общество способности к реагированию. Моторизация приобрела непреодолимость природного процесса. В XIX веке, в эпоху железных дорог, повышение скорости осуществлялось еще линейно, его можно было охватить взглядом, а в XX веке, напротив, пересеклись друг с другом импульсы ускорения самых разных типов.
Новая эпоха в истории среды началась с фундаментальной смены экологических проблем, прежде всего в индустриальных государствах. Доклад Римского клуба «Пределы роста» (1972) апеллировал еще к старому страху перед исчерпанием ресурсов и оказал благодаря этому чрезвычайно точное и сильное действие. Однако впоследствии эта проблема неожиданно потеряла остроту, зато все более угрожающим стало казаться загрязнение «глобальной альменды» – атмосферы и мирового океана. Не дефицит энергии, как думали еще при «нефтяном кризисе» 1973 года, угрожает сегодня окружающей среде, а переизбыток дешевых энергоносителей, по крайней мере в ведущих индустриальных государствах. В сельском хозяйстве проблемы создает уже не дефицит удобрений, а их переизбыток, не сорняки и вредители, а гигантские объемы гербицидов и пестицидов. Радикальное решение тысячелетних проблем привело к появлению новых проблемных ситуаций. Если некоторые историки подчеркивают, что сегодняшнее разрушение окружающего мира заложено в самой человеческой природе, то это в лучшем случае полуправда: человек вполне владел навыками, позволявшими ему справляться с извечными экологическими проблемами. Но с исторической точки зрения не удивительно, что наши нормы и институции не настроены на большинство современных экологических рисков.
В третьем мире приоритет еще принадлежит традиционным бедам: снижению плодородия, эрозии почв вследствие обезлесения, вызванному ирригацией засолению. Однако все эти проблемы многократно усилены новой экономической динамикой, последствия которой особенно фатальны в экологически лабильных регионах. Вырубки африканских тропических лесов стали настоящим бедствием лишь в 50-х годах XX века – еще Альберту Швейцеру[217] освоение первобытного леса казалось «благом»! (См. примеч. 1.) В индустриальных государствах экологическая дестабилизация аграрного хозяйства замаскирована гигантскими вложениями в минеральные удобрения и импортом кормов из третьего мира. Если традиционная почвенная эрозия состояла в переносе почвы с горных склонов в долины и потому лишь ненадолго отнимала ее у земледельца, то стремительная застройка и закатывание почвы под асфальт означает необратимую потерю земель в среднесрочной перспективе. Этот процесс большей частью напрямую или опосредованно связан с массовой моторизацией. Ее бурное наступление продолжается и в эру экологии.
Швейцарский историк среды Кристиан Пфистер ввел в науку понятие «синдром 50-х», выделив 1950-е годы как глубочайший в экологической истории человечества перелом, после которого только и началась по-настоящему эра глобальной угрозы. Решающий критерий для Пфистера – поступление в атмосферу парниковых газов: с 1950-х годов их объем растет настолько резко, что на этом фоне вся предыдущая история кажется безобидной. Даже 1940-е годы Пфистер воспринимает как доброе старое время – точка зрения, которую легче принять швейцарцу, чем немцу (см. примеч. 2).
Как показывает уже само слово «синдром», в перевороте 1950-х годов сошлись воедино процессы различного происхождения. Однако Пфистер выделяет при этом одну важнейшую причину: падение цен на нефть. По сравнению с нефтяной эпохой эра угля еще во многих отношениях выглядит как продолжение деревянного века, ведь добыча и обработка каменного угля была мучительной работой и требовала больших трудозатрат. Лишь нефть положила начало почти беспроблемной эксплуатации ископаемых ресурсов, способной за короткие сроки перешагнуть все мыслимые границы и породить менталитет беспримерной в истории расточительности. Лавина искусственных материалов, создавшая проблему отходов неслыханного доселе масштаба, также является следствием дешевизны нефти.
Против теории «синдрома 50-х» напрашивается целый ряд возражений. Можно спорить о выделении нефтяного фактора как единственной причины. Контрпримером служит ГДР – страна, которая осталась почти не задетой потоками дешевой нефти, однако сумела превзойти западные страны в потреблении энергии на душу населения и объемах выбросов. Ее пример доказывает, что на базе бурого угля, как и на базе нефти, тоже могло сформироваться небрежное отношение к энергии и окружающей среде. Пример Японии тоже доказывает, что дешевая нефть не так значима для резкого экономического скачка, как часто думают на Западе. Кроме того, представление о новом энергоносителе как первопричине не может быть удовлетворительным по принципиальным соображениям. Поток дешевой нефти полился не сам по себе, его предпосылкой были лихорадочные работы по нефтеразведке и глобальное состязание крупных компаний, то есть в итоге обоснованное ожидание большого бизнеса. Уязвим и тезис о 1950-х годах как о переломной дате. Даже в такой «автостране» как ФРГ автомобиль стал определять городское и ландшафтное планирование лишь после 1960-х годов. Перемена стиля жизни, ускорившая рост экологических проблем, выпадает в значительной степени на 1960-е и 1970-е годы. Еще в 1967 году женщины – консультанты по электроприборам, рекламировавшие новую бытовую технику для домохозяек, жаловались: «Во всех нас еще сидит страх перед выбрасыванием вещей» (см. примеч. 3). Фиксация на «синдроме 50-х» могла бы отвлечь внимание от других экологически опасных явлений еще более позднего времени: достаточно вспомнить о массовом воздушном туризме!
Впрочем, за всем этим стоит не только случайное совпадение различных обстоятельств. Процесс включает в себя элемент целенаправленности: конкретным воплощением утопии стали для всего мира Соединенные Штаты Америки – «страна неограниченных возможностей», с давних пор привыкшая к расточительному обращению с ресурсами и пространством. Ее гигантские размеры в эру моторизации и мобильности стали еще более сильным козырем, чем прежде. Хотя бензиновый двигатель, самый мощный из всех новых факторов воздействия на среду, происходил из Европы, однако в Старом Свете развитие экономики, основанной на ископаемых энергоносителях, значительно тормозили картели, высокий уровень цен на энергию, политические границы и экономические традиции. Полностью развернуться она смогла лишь в США. Культурную гегемонию Европы разрушили мировые войны. Коммунизм, как мы знаем сегодня, также не смог выдвинуть ничего, что можно было бы сопоставить по привлекательности с американской цивилизацией.
С 1950-х годов технические инновации в сельском хозяйстве приобрели не меньшую значимость для окружающей среды, чем инновации в индустрии. Если аграрные реформаторы XVIII и XIX веков работали еще в направлении усовершенствования традиционного круговорота веществ – улучшения севооборота, сочетания полеводства с животноводством, то с массовым внедрением минеральных удобрений эта цель полностью исчезла, что означало конец тысячелетней эры земледелия. Даже не склонный к экопессимизму географ приходит к заключению: «С началом второй аграрной и технической революции в 50-е годы XX века антропогенная деградация, смыв и отравление почвы усилились почти по экспоненте» (см. примеч. 4). В то же самое время усилилось давление на еще сохранившиеся в XX веке остатки натурального хозяйства, что еще больше сократило элемент, который не только обещал надежду в случае голода, но и играл существенную роль в поддержании общего экологического баланса. Экономический рост стал как никогда прежде определять менталитет людей и их взгляды на будущее. В 1950-е годы люди еще не знали, можно ли полагаться на новое благосостояние, однако в конце концов экономическое мышление, воспринимавшее рост как нормальное состояние, одержало победу. На фоне сегодняшнего дня и дешевой нефти возникает образ будущего с еще более дешевой атомной энергией.
1950-е годы на фоне германской катастрофы выделяются особенно резко. Однако в целом этот переворот был наднациональным, в итоге – глобальным феноменом, и проявился он не только в массовом благосостоянии, обусловленном благоприятной конъюнктурой, но, что еще более важно, в последствиях для окружающей среды. Во Франции и Италии развитие шло в значительной степени параллельно. Вито Фумагалли[218] называет идущее с того времени истребление последних лесов, садов и живых изгородей в долине реки По «окончательным решением». Согласно французскому экологическому исследованию 1990 года, с 1950-х годов ландшафт Франции изменился сильнее, чем за все предшествующие тысячелетия (см. примеч. 5).
В СССР коммунисты не стали развивать собственную концепцию технического прогресса, отличную от американского пути, а с безнадежным честолюбием бросились догонять Запад. Хотя среди русских революционеров изначально не было недостатка в защитниках природы, но презрительное отношение коммунистов к крестьянским традициям привело к такому небрежению в обращении с почвой, которое оставило позади даже западных капиталистов. К тому же в системе, где государство брало на себя решение всех проблем, возникающих вследствие узости специальных интересов, отсутствовало какое бы то ни было противодействие этому государству. Еще в 1930-е годы Советский Союз сохранял первенство в исследовании эрозии почв. Однако Хрущев страдал такой мономанией в вопросах повышения аграрной производительности, что превосходил в этом Сталина, и его мощные кампании по разведению кукурузы и хлопка, при которых игнорировались региональные особенности почв и гидрологии, привели к крупномасштабному экологическому фиаско в подверженных опустыниванию районах Центральной Азии. В 1960-е годы вследствие проведения Каракумского канала началось обмеление Аральского моря, а загрязнение озера Байкал целлюлозно-бумажными предприятиями приняло скандальные масштабы. В 1985 году русский писатель Валентин Распутин говорил, что для того чтобы стать участником экологического движения в Советском Союзе, «достаточно лишь вспомнить и сравнить, чем была наша Земля 20 или даже 10 лет назад и что с ней стало теперь» (см. примеч. 6).
Если в начале 1970-х годов, во время Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде[219], экологическое движение еще считалось феноменом благополучия, богатых индустриальных стран, забывших, что такое голод и потому обратившихся к «постматериальным» ценностям, то с тех пор выяснилось, что третий мир затронут экологическими проблемами даже более тяжело и более непосредственно, хотя преобладают там скорее традиционные беды, не столь занимательные для современных экологов. С начала «Зеленой революции» к традиционным и там добавляются проблемы, обусловленные решением проблем предыдущих. Хотя «Зеленая революция» началась в 1950-е годы с появления в Мексике «мексиканской» или «чудо-пшеницы» (Miracle wheat)[220], но развернулась полностью только в 1970-е одновременно с экологическим движением и в некоторых моментах – например, в замене масштабного применения ДДТ на щадящие методы борьбы с вредителями, – несомненно, использовала опыт экологической критики. Невзирая на это, она, как и вторая аграрная революция в индустриальных государствах, приводит к массированному применению химических удобрений, часто – к повышению объемов орошения со всеми соответствующими последствиями, и всегда – к нарушению тех небольших замкнутых круговоротов веществ, на которых в течение тысяч лет держалась экологическая стабильность земледелия. Мексиканские крестьяне, первое время получавшие минеральные удобрения бесплатно, позже оказались втянутыми в порочный долговой круг, ведь они больше не могли обходиться без покупки удобрений, а вдобавок к ним и пестицидов. Их судьба типична для мелкого крестьянства в странах третьего мира. Даже в азиатском рисоводстве, которое при применении традиционных методов обходилось почти без удобрений, вперед выходят культивированные японские сорта, зависимые от химических удобрений и разрушающие прежнюю органическую экологическую стабильность рисовой культуры (см. примеч. 7).
В исторической перспективе одно видится четко: прежние, неистощительные аграрные реформы даже помимо желания их авторов тяготели к мелкому и среднему крестьянину, который контролировал весь свой небольшой клочок земли и в собственных интересах вкладывал в него все силы. Экологические проблемы интенсифицированного сельского хозяйства компенсировались активным отношением крестьянина к своей земле. Сегодняшнее технологизированное и химизированное сельское хозяйство, наоборот, тяготеет к крупным предприятиям; высочайшая интенсификация возможна сейчас на обширных территориях. В связи с этим властные структуры еще активнее проникают в сельский быт и разрушают крестьянское натуральное хозяйство в таких масштабах, какие в XX веке еще были невозможны.
Депопуляция села и чудовищное, подобное раковой опухоли, разрастание мегаполисов и их застроенных трущобами городов-спутников стали самыми гнетущими приметами третьего мира – и эти процессы тоже относятся только к послевоенному времени. До 1940-х годов Мехико был известен как один из красивейших городов мира, идиллия каналов, садов и аркад. С 1960-х годов картина меняется, город становится преддверием экологической Хиросимы, в 1988 году показатели смога 312 дней в году превышали нормы Всемирной организации здравоохранения, а в 1991-м – на улицах были выставлены кислородные кабины, чтобы прохожие могли заполнить легкие кислородом (см. примеч. 8). Уже задним числом стало ясно, насколько правы были те, кто с недоверием и страхом наблюдал за подъемом мегаполисов, и какие кошмарные сценарии вопреки всему были предотвращены в Германии.
Во второй половине XX века главными экологическими рисками стали гидроэнергетические мегапроекты и ядерные электростанции: обе технологии происходили из осознания исчерпаемости ископаемых энергоресурсов, то есть были нацелены на решение экологических проблем. Атомная эйфория 1950-х годов была основана не на реальном опыте уже существующих станций, а на идеальном представлении о неисчерпаемой, экологически чистой энергии, которая, по подобию Солнца (а точнее – водородной бомбы), высвобождается вследствие реакций ядерного синтеза. Таким образом, идеи использования солнечной энергии, к тому времени уже давно существовавшие, были абсорбированы ядерными перспективами.
До этого времени среди инженеров всего мира было распространено убеждение, что будущее в основном принадлежит гидроэнергии как наиболее чистому и неисчерпаемому источнику энергии. Конец XIX и начало XX веков и в Германии, и во Франции, и в США стали эпохой сооружения водоподъемных плотин, гигантских долинных водохранилищ. При этом в густонаселенной Европе, где прорыв плотины имел бы катастрофические последствия, прекрасно понимали степень опасности, и строительству первых плотин предшествовали ожесточенные дискуссии. В Германии сначала предпочитали вместо бетона использовать бутовый камень, создавая из него так называемую циклопическую стену. Представление о воздействии водохранилищ на естественный гидрологический режим было в то время весьма смутным, вопросы регионального водного режима вообще были подняты и исследованы лишь во время строительства гидросооружений. В Германии первым стимулом к созданию долинных водохранилищ были возросшие потребности Рурского региона в питьевой воде, правда, возможность использования водохранилищ в качестве источников питьевой воды вызывала сомнения (см. примеч. 9). В XX веке еще более мощный толчок к строительству крупных водоподъемных плотин дала потребность в электроэнергии. Сложилась целая плеяда инженеров, для которых водоподъемная плотина стала единственным по-настоящему привлекательным великим проектом, одним махом выполнявшим множество функций: выработку энергии без чадящих труб, регулирование уровня воды в интересах судоходства и предотвращения наводнений, в некоторых случаях еще и снабжение питьевой водой и орошение полей… Правда, в реальности приоритет получала, как правило, одна функция, а другие интересы нередко входили с ней в конфликт.
В Германии строительство водоподъемных плотин вступило в конфликт с подъемом движения за охрану родного края. Однако этот конфликт кажется недолгим. Некоторые защитники края задумывались даже о том, не будут ли плотины скорее его украшением, чем помехой? Не служат ли они альтернативой чадящим трубам угольных электростанций? Может быть, озера – это те же водохранилища, только созданные самой природой? В полноводных немецких среднегорьях экологические последствия гидростроительства казались не слишком драматичными. Но уже в Альпах, силовом центре пророков от гидроэнергии, появились сомнения, когда вследствие создания водохранилищ начали сохнуть и превращаться в галечные осыпи идиллические альпийские долины. В течение XX века здесь нарастало сопротивление против дальнейшего строительства гидростанций. Позже, в 1960-х годах, оно послужило одной из причин восторженного отношения к идее атомных станций, способных предложить альтернативу гидроэнергии (см. примеч. 10).
В третьем мире великая эпоха гигантских гидросооружений началась в 1950-е годы, когда в Египте проектировали новую Асуанскую плотину. Светочем служил тогда плотинный комплекс (21 плотина) Управления по развитию долины Теннесси[221]. Всемирный банк, поддерживавший многие гидростроительные проекты в странах третьего мира, продолжал традиции TVA. Производство энергии стало привлекательным, как никогда раньше, все сомнения остались позади, а прежний мультиперспективный взгляд на воду вытеснен окончательно. Сегодня уже известно, что создание крупных водохранилищ в южных регионах нередко оборачиволось экологическим фиаско, хотя причины его могли быть разными – здесь и мощные наносы ила, и повышение испарения, и рост эпидемических заболеваний, происхождение которых связано со стоячими водами. Водоподъемные плотины, в первую очередь Асуанская, стали прототипами экологически разрушительной гигантской техники. Правда, их альтернативы также не безгрешны, например, усиленная эксплуатация грунтовых вод ведет к общему понижению их уровня. Поэтому принципиальная установка экологов против любых гидропроектов не оправданна (см. примеч. 11).
Однако антропогенные изменения второй половины XX века нельзя считать совершенно безудержными. Возможно, что и наш сегодняшний мир будет через 100 лет восприниматься как относительно естественный. Нам все еще есть что терять – и мы не имеем права забывать об этом! Говоря о тех разрушительных для природы мегапроектах, которые были воплощены в жизнь, нам следовало бы почаще вспоминать и о тех еще более крупных, еще более радикальных проектах, которые не были реализованы, хотя в свое время завораживали и политиков, и инженеров, и других авторитетных специалистов. Среди этих проектов – переброска сибирских рек на юг для орошения пустынных земель («план Давыдова»), возведение гигантской плотины на Гибралтаре с целью осушения Средиземного моря (проект «Атлантропа» Германа Зёргеля), различные идеи эпохи ядерной эйфории, такие как превращение в воду полярного льда за счет ядерной теплоты или расширение Панамского канала посредством атомных взрывов (Panatomic Canal) (см. примеч. 12). Но пока и мегаломания имеет свои пределы.
Новую историческую эру открыло появление эффективных противозачаточных средств, не омрачающих, в отличие от прежних методов, радость секса. Возможно, они вообще являются наивысшим достижением в новейшей экологической истории, ведь стабильную гармонизацию симбиоза человека и природы невозможно представить себе без контроля над рождаемостью. До появления новых контрацептивов такой контроль всегда был связан с насилием над собственной природой человека, как бы оно ни проявлялось – в воздержании от секса, прерывании полового акта или детоубийстве. Мальтузианство былых времен содержало в себе нечто безжалостное. Лишь современные противозачаточные средства помогли разрешить тысячелетнюю проблему в отношениях между человеком и природой. Сначала казалось, что именно в бедных, страдающих от высокой численности населения странах третьего мира эти средства никакого значения не имеют. Однако с 1970-х годов и там наметилось некоторое снижение прироста населения, вероятно, не в последнюю очередь в связи с ростом независимости женщин (см. примеч. 13). Часто повторяемый тезис, что регулирование рождаемости предполагает известную степень благосостояния, – принципиально пессимистичная теория, поскольку именно высокая рождаемость тормозит рост благосостояния – не является неизбежным законом. Это подтверждается и исторически, ведь как раз бедные люди нередко стремились ограничить число детей. Часто рост численности населения объяснялся честолюбием правительств. Но современная военная техника уже не требует большого числа солдат – и это тоже является историческим переломом!
Чем масштабнее становились экологические проблемы, тем ярче проявлялись взаимодействия различных проблемных полей, что во второй половине XX века привело к формированию нового сознания. Многие прежние проблемы, например сохранение плодородия почв, превратились в энергетическую проблему, а она, в свою очередь, – в экологическую. Все многообразие проблем стало, как никогда раньше, восприниматься в качестве одной большой глобальной проблемы: таким образом получило свой современный смысл понятие «окружающая среда». Если вспомнить о том, насколько независимое бытие вели когда-то охрана природы и «городская гигиена», пробивная способность нового контекста вызывает особое уважение. Спасение одного-единственного ручья теперь было уже не мелочью, а частью великой общечеловеческой задачи. Вместе с тем понятие «окружающая среда» может заставить забыть о том, что экологические инициативы, если они хотят чего-либо достичь, по-прежнему должны функционировать на уровне конкретных предметных областей и соблюдать их правила. Экологическая политика, возникшая как сплав из отдельных политик, от лесной до водоохранной, в конкретных своих проявлениях, вопреки любым претензиям на целостность, до сих пор состоит из подобных секторальных политик.
Может ли вообще существовать экологическая политика, способная удовлетворить претензии на целостность и глобальность? Охрана старой деревенской альменды не требовала ничего иного, кроме согласования друг с другом различных интересов. Охрана глобальной альменды (мирового океана, атмосферы), напротив, полностью зависит от влиятельных инстанций, стоящих над всеми интересами. Исходя из предыдущего опыта, очень трудно представить себе, чтобы подобные инстанции обладали реальной действенной силой.
Скептический настрой вызывает еще одно соображение: когда-то главным фактором сохранения окружающей среды был закон инерции. Рубить и перевозить деревья, ловить рыбу на дне моря, поднимать руду из недр земли – все это было делом трудоемким и опасным. Обычная вялость, инерция, могущественнейшая сила бытия, вносила немалую лепту в то, что эксплуатация природы не выходила за определенные рамки. Сегодня же, наоборот, закон инерции как бы развернулся в обратном направлении: если мы просто пустим все на самотек, дестабилизация отношений человека и природы будет только усиливаться. С этим переворотом был потерян незаметный, но очень важный на протяжении всей истории элемент баланса между человеком и природой. Лишь малая часть человечества обменяла прежнюю стабильность на новый прекрасный мир. Испанский экономист Хуан Мартинес Альер призывает историков не забывать, что большая часть человечества по-прежнему живет почти исключительно за счет солнечной энергии (см. примеч. 14). Американизация мира не удалась – она не могла удасться уже из экологических причин. Глобальные диспропорции сегодня велики как никогда.
2. КРОВЬ И ПОЧВА: АМОК[222] АВТАРКИЗМА
Исторической антитезой американской цивилизации в экологическом отношении был не столько советский коммунизм, сколько немецкий национал-социализм, ставивший в центр своей идеологии связь человека с природой и землей. Ужасающее фиаско национал-социалистического режима сыграло немалую роль в становлении глобальной гегемонии американской цивилизации. Пока человечество будет воспринимать нацизм как реинкарнацию зла, о его судьбе думать не будут. Лишь когда в движении национал-социалистов будут распознаны элементы экологического мышления, его катастрофа в полной мере станет стимулом для исторической рефлексии.
Если видеть в «синдроме 50-х» главный роковой переворот в отношениях человека и природы, то взлет и падение нацизма случились как бы за 5 минут до полуночи: в таком случае идеология крови и почвы при всей ее нелепости обладала бы своего рода экологической своевременностью. В эти последние минуты еще можно было спасти живой мир сельских традиций с его вековым опытом. Вместе с тем нацистская диктатура остается в истории самым вопиющим примером того, как квазиэкологические идеи становятся фирменным знаком режима, одержимого маниакальной жаждой власти.
Двенадцать лет – совсем недолгий по экологическим критериям срок, тем не менее национал-социализм никак нельзя считать незначительным эпизодом в истории окружающей среды. Риторика крови и почвы не была словесной шелухой, ее поддерживали как сильные эмоции, так и рациональные мотивы. Даже Давид Шёнбаум, который первым подчеркнул, что национал-социализм имел в конечном счете модернизирующий эффект, приходит к утверждению, что единственной подлинной целью нацизма было укоренение в отечественной почве – настолько, что «при мысли о сельской жизни у нацистских лидеров высшего ранга блестели глаза и пресекался голос» (см. примеч. 15).
Действительно, по сравнению и с коммунизмом, и с тогдашним либерализмом многие идеологи нацизма тоньше воспринимали то чувство утраты и горечи, которое вызывала у людей потеря связи с природой. Не в последнюю очередь именно этим объясняется, почему нацистское движение при всем его насилии дарило многим людям чувство защищенности. Но нужно обратить внимание и на рациональные побудительные мотивы. Пережив голодные годы Первой мировой войны, немцы ощутили, что это значит, если страна в случае нужды не способна прокормиться за счет собственных ресурсов. Этот опыт послужил стимулом к созданию неистощительного национального натурального хозяйства с земледелием на первом месте, тем более что после 1918 года немцам на свою беду вновь пришлось убедиться, что не стоит полагаться на мировую экономику. Частичная реаграризация Германии при условии частичного распада промышленных агломераций казалась тогда гораздо более реалистичной, чем сегодня. Даже специалисты по планированию ландшафта в Рурском бассейне ориентировались на подобные модели (см. примеч. 16). Вынести общую оценку эпохи нацизма с экологической точки зрения до сих пор затруднительно. Чтобы продвинуться в этом направлении, нужно выделить ряд отдельных тем, как правило, мало связанных друг с другом.
1. Охрана природы. В этой сфере национал-социализм, по крайней мере на правовом уровне, имел эпохальное значение: 26 июня 1935 года был принят Имперский закон об охране природы. Он был настолько лишен нацистского жаргона, что и после 1945 года продержался, не вызывая нареканий, десятки лет. Если до принятия Закона охрана природы была делом федеральных земель, то теперь она получила государственный статус и соответствующую инстанцию в лице Имперской службы охраны природы. Де факто речь шла о Прусской службе охраны природы, существовавшей уже с 1908 года; новых штатных единиц не создавалось. Этот закон со всеми его подзаконными актами был образцовым для того времени инструментом регулирования, чье действие не ограничивалось охраной памятников природы и резерватов, а распределяло охрану природы среди всех возможных участников процесса планирования ландшафта. Правда, специалист по уходу за ландшафтом по прошествии времени замечает, что, «пожалуй, не так много было установлений, которые бы нарушались столь же часто», как Закон об охране природы! (См. примеч. 17.)
2. Аграрная политика. Нацистский рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства Рихард Дарре работал над стабилизацией положения среднего крестьянства, ввел в сельское хозяйство принцип удовлетворения потребностей вместо господства рынка и максимизации прибыли и обрушивался с гневными речами на «дьявольские гримасы капитализма». Он стремился затормозить модернизацию земледелия с ее разрушительными для почвы тенденциями и был сторонником антропософского «биодинамического сельского хозяйства». Дарре, имевший склонность к тому, что сейчас назвали бы дауншифтингом, и в другое время охотно ставший бы гаучо в Аргентине, в кругах нацистской верхушки считался чудаком, о нем ходили анекдоты и эпиграммы (надгробная надпись на могиле свиньи: «Я погибла смертью храбрых / пала от ячменной муки министра Дарре!»). Особенной напористостью Дарре не отличался, и во время войны его от дел отстранили. Главным приоритетом стала «битва за продуктивность», максимальное увеличение аграрного производства. Однако валюту на закупку кормов за рубежом нужно было экономить, и крестьянским хозяйствам приходилось повышать производительность в основном за счет собственных ресурсов, например, улучшения севооборота. Поэтому нацистская политика автаркии означала последний взлет традиционного сельского хозяйства (см. примеч. 18).
3. Лесная политика. В 1934 году под протекторатом Геринга главой новоорганизованной Имперской лесной службы стал Вальтер фон Койдель, решительный борец за смешанные лесонасаждения и враг сплошных рубок, владелец имения на восточном берегу Эльбы. На этом посту он попытался жестко и, по мнению его противников, без должного внимания к региональным особенностям, реализовать собственные идеалы «долгого» леса[223]. Среди специалистов это вызвало мятежные настроения, у некоторых лесоводов от койделевского дирижизма «чесались руки». Кроме того, Койделевское хозяйство с его выборочными рубками постепенно вошло в конфликт с притязаниями национал-социалистов на автаркию в снабжении лесом. В 1937 году фон Койдель был снят с поста, а его преемники выдвинули в качестве компромисса лозунг «сообразного природе лесного хозяйства». Есть сообщения о том, что сотрудники Имперской лесной службы частично предотвращали чрезмерные рубки, проводимые по указаниям нацистского правительства и игнорировавшие принцип устойчивости (см. примеч. 19).
4. Охрана ландшафта. Эта отрасль имела на своей стороне настоящего бойца – Альвина Зайферта, «имперского защитника ландшафта» при строительстве автобанов, борца против «самоубийственного остепнения Германии», вызванного чрезмерным осушением и спрямлением речных русел. Работая в службе Фрица Тодта, руководившего строительством автобанов, Зайферт выступал за то, чтобы автобаны шли по плавной изогнутой линии, вписывались в окружающую местность и обрамлялись не рвами, а насыпями с высаженными на них деревьями. Свое высокое положение Зайферт использовал также для генерального наступления на экологически вредные методы гидростроительства и спрямления речных русел. Удивительное сочетание: самый воинственный природоохранник работал рука об руку с самым высокопоставленным инженером не только Третьего рейха, но и всей немецкой истории, и это в проекте, который сыграл важнейшую роль в моторизации страны! Главным своим врагом Зайферт и другие защитники природы считали в то время не автомобиль и автодорожное строительство, а железные дороги с их административным аппаратом. Тогда казалось, что железная дорога прорезала ландшафт более беспощадно, чем автобан с его плавными изгибами. По вопросам охраны ландшафта и экологически приемлемого инженерного планирования даже в тоталитарном нацистском государстве были возможны ожесточенные публичные дискуссии. Подобные темы витали тогда в воздухе, и здесь не было обязательной линии партии. Для Тодта было сюрпризом, какую мощную общественную поддержку в самых разных кругах получил Зайферт со своими атаками на гидростроителей; инженеров он призывал искать «тотальное долгосрочное решение». Но именно между Зайфертом и Дарре сложились враждебные отношения – настолько явным было тогда отсутствие альянса защитников природы! Внешнему миру Зайферт представлял философию большого синтеза: лучшими инженерными решениями он считал такие, которые были наиболее дружественны природе, а оптимальная охрана природы – это вместе с тем и оптимальная охрана сельского хозяйства. Его мотивы носили не только прагматический, но и метафизический характер; воду он воспринимал как живое существо и полагал, что близкий к природе человек это чувствует и понимает. Общество запомнило Зайферта, профессионального садовода и огородника, прежде всего как отца-основателя «экологического садоводства» (см. примеч. 20).
5. Переработка и утилизация отходов. Автаркическая политика национал-социалистов означала расцвет проектов по переработке отходов и регенерации сырья. Правда, этим проектам, аналогично эпохе Первой мировой войны, нередко был присущ кисловатый привкус вынужденных мер. Поля фильтрации, которые до 1933 года вызывали растущее отвращение как источники зловония и очаги заразы, вновь стали служить образцом вторичного использования фекалий. Альвин Зайферт, однако, по-прежнему относился к ним с омерзением, а широкого практического применения они так и не нашли. В 1935–1936 годах указами правительства была предписана проверка всех сточных вод на возможность их вторичного использования в сельском хозяйстве, и только если таковое полностью исключалось, можно было рассматривать вопрос о строительстве очистных сооружений (см. примеч. 21).
Тем не менее общий баланс автаркической политики национал-социалистов вряд ли можно считать положительным. Достаточно вспомнить крупные проекты по гидрированию угля. Резкий переход к усиленной эксплуатации отечественных ресурсов без рационализации их использования, без структурной перестройки промышленности, зато сопровождаемый усилением вооружения, неизбежно вел к сверхэксплуатации ресурсов (прежде всего лесов), что в итоге повлекло за собой мотив завоевания нового «жизненного пространства». Самым вредным делом в глазах многих защитников природы была проводимая организацией «Трудовая повинность» культивация пустырей – множества мелких участков неосвоенных болот и осыпей, на которые крестьяне прежде не обращали внимания. При нацистах это вызывало яростные протесты. В 1941 году Гитлер распорядился остановить культивацию болот, поскольку теперь немцы получат достаточно земли. В воспоминаниях Ханса Клоза, который (не будучи членом НСДАП!) руководил Имперской службой охраны природы с 1938 по 1945 год, эпоха нацизма предстает крайне противоречивой: с одной стороны, как время расцвета охраны природы, с другой – как период, когда «разрушающие природу силы» «неизмеримо» возросли (см. примеч. 22).
Решающую роль сыграло, видимо, то, что, несмотря на наличие дуэта Тодта – Зайферта, в нацистской Германии не сформировался полноценный альянс между охраной окружающей среды и интересами власти. Сильное, но диффузное стремление к природе было чертой того времени, однако его следует отнести скорее к сентиментальной, чем к жестко-активной стороне нацизма. Там, где речь шла о власти, Гитлер, как он сам признавал, был «фанатом техники», и именно американской, даже если в узком кругу он выказывал симпатию к децентрализованному использованию возобновимых источников энергии и порой пускался в рассуждения о взаимосвязях всего сущего на Земле и образе Геи (см. примеч. 23). Национал-социалистическая политика автаркии родилась не из стремления к самодостаточности – она была средством подготовки к войне в условиях дефицита валюты. По сути своей национал-социализм не был подлинной контрреакцией на «американизм», скорее он представлял собой судорожную попытку подражания великим империям на тесном пространстве Центральной Европы.
На уровне конкретных действий в сфере охраны природы национал-социалистический режим не породил ничего нового, а продолжал исключительно традиции Веймарской республики. Тем не менее после 1945 года природоохранное движение получило нацистское клеймо. Целое поколение основателей немецкого экологического движения – достаточно привести имена Людвига Клагеса, Альвина Зайферта, Бернгарда Гржимека, Гюнтера Шваба, Конрада Лоренца, братьев Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров, Мартина Хайдеггера (см. примеч. 24) – было опорочено вследствие временных контактов с нацистами. Из-за этого обезглавленного прошлого сложилось впечатление, что немецкое экологическое движение как минимум на 10 лет отстало от своего американского «собрата».
3. ПОДОПЛЕКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕВОГ: АТОМНЫЙ АПОКАЛИПСИС И УЖАС ПЕРЕД РАКОМ
Самые сильные побуждения порождаются сочетанием любви и страха. Экологическое сознание также становится побудительным мотивом тогда, когда любовь к природе – чувственная и сверхчувственная – соединяется со страхом. Тревога за природу доходит до максимума тогда, когда она одновременно является страхом за собственное благополучие, а общественной силой она становится в том случае, когда объекты частных забот могут быть правдоподобно объединены в одну большую опасность, угрожающую народам и всему человечеству. Именно такое сочетание страхов и стоит у истоков современного экологического сознания.
Дональд Уорстер утверждает, что «эпоха экологии» началась 16 июля 1945 года под Аламогордо, когда первый ядерный взрыв осветил лучистым светом пустыню Нью-Мексико, и в воздухе впервые набух ядерный гриб. Однако для мирового сообщества Аламогордо и Хиросима стали знаками новой эры лишь через 10 лет, и эта новая эра сначала не была эрой экологии. В 1945 году перед глазами европейцев лежали их собственные развалины: атомные руины Хиросимы и Нагасаки были от них очень далеко. Антон Меттерних, автор книги «Пустыня наступает» (1947), первой в послевоенной Германии экологической антиутопии, еще находился под воздействием рузвельтовского Нового курса и предостережений Зайферта, «самым страшным призраком современности» он называл эрозию почв (см. примеч. 25). Еще в начале 1950-х годов кошмар Хиросимы в общественном сознании не имел конкретных очертаний, ведь до 1952 года Япония подлежала американской военной цензуре. Представление о масштабах ущерба от ядерного взрыва и его отдаленных последствиях люди получили лишь в последующее десятилетие. До этого времени общество мало беспокоилось о радиоактивной угрозе, тем более что радоновые ванны рекламировали целительное действие радиоактивных веществ. Кроме того, пока США обладали монополией на ядерное оружие, атомная бомба оказывала на многих американцев успокаивающее воздействие. Ситуация изменилась, когда Запад почувствовал угрозу для себя от советских ракет с ядерными боеголовками. Еще более сильный переворот в общественном сознании произвела тревожная информация об опасности радиоактивных осадков, выпадающих после проведения ядерных испытаний. Трагедия японского рыболовного судна «Счастливый дракон», в марте 1954 года попавшего под радиоактивный пепел – следствие испытаний американской водородной бомбы, еще сильнее маркирует переворот в сознании мирового сообщества, чем Хиросима (см. примеч. 26). Появилось понимание, что ядерная угроза не ограничивается однократным событием локального масштаба, а представляет собой длительную опасность, несущую беду всем и вся, даже будущим поколениям. Страх перед атомным оружием связался с еще одним новым страхом – страхом перед раковыми заболеваниями. Таким образом, он подключился к целой связке тревог о будущем цивилизации.
Эта тема переводит нас на другой фундаментальный уровень. Речь идет об истории страхов перед болезнями. Клодин Херцлих и Янин Пьерре считают, что в период около 1960 года (дату они называют довольно точно) во Франции произошел эпохальный переворот: страх перед эпидемиями и инфекционными болезнями, господствовавший над всеми тревогами о здоровье как минимум 600 лет, со времен Великой чумы, довольно быстро отступает на задний план. Вместе с ним уходит и страх перед болотами с их лихорадкой и перед людьми – разносчиками заразы. На первое место выступает страх перед болезнями, обусловленными прогрессом цивилизации. Хотя сама по себе эта фобия не нова, но теперь к ней добавился страх, с недавнего времени победивший все остальные, – страх перед онкологическими заболеваниями. У многих людей он доходит до такой паники, что они даже боятся произносить слово «рак». В этом случае за тревогами об окружающей среде кроется страх перед раком. Со своей стороны, онкологические заболевания становятся метафорой для экологических проблем. На американской экологической сцене распространен слоган: «Рост как самоцель – идеология раковых клеток». Этот страх способен сделать «экологистами» людей старшего поколения, прежде державшихся в стороне от экодвижения. Так, президент США Рональд Рейган, бывший долгое время самым влиятельным противником «энвайроменталистов», после двух онкологических операций изменил свои взгляды, поддержав запрет на использование фреонов, даже при том, что связь между использованием фреонов, озоновой дырой и раком кожи еще не была точно доказана. В 1950-е годы канцерогенное воздействие загрязнений окружающей среды было еще новой темой, радиоактивные осадки открыли ей путь в газетные заголовки. «Неужели тот самый страх перед раком, который 50 лет выручал старых экологических демагогов, пробудил в нас тревогу о Земле?» – спрашивает Лавлок. Американское агентство по охране окружающей среды годами занималось в первую очередь борьбой с онкологическими заболеваниями, хотя внести в нее серьезный вклад так и не смогло (см. примеч. 27).
Уже в конце XIX века индустриальные государства были охвачены волной страхов перед болезнями, обусловленными окружающей средой, и уже тогда этот страх оказался способным мобилизовать значительные ресурсы. Однако вскоре успехи бактериологии отвлекли внимание от фактора «окружающая среда», так что до синэргии великих фобий, как в 1950-х и 1960-х годах, дело тогда не дошло. Страх перед «неврозом», одной из болезней цивилизации, вел в другом направлении, чем страх перед холерой и туберкулезом. Рак еще не был серьезной темой: даже рьяные борцы за здоровый образ жизни тогда еще не умели к нему подойти, даже если они уже чуяли опасность излишнего потребления мяса и табака (см. примеч. 28). Новая составляющая в расцвете вегетарианства конца XX века – не этический фундаментализм (явление далеко не новое), а более обоснованная аргументация его пользы для здоровья.
Интересен случай микробиолога Рене Дюбо (1901–1981). Крупнейший историк туберкулеза, в изучение которого он и сам внес немалую лепту, международное признание Дюбо получил как новатор и духовный лидер экологического движения и его апокалиптической версии. Книга «Земля только одна», написанная Дюбо в соавторстве с Барбарой Уорд, стала «библией» Стокгольмской конференции 1972 года. Может показаться, что это противоречит теории о связи между генезисом экологического сознания и переворотом в истории страха перед болезнями. Однако Дюбо критиковал засилье бактериологии в изучении туберкулеза, он и здесь подчеркивал экологический фактор и яростно протестовал против абсурдной и экологически пагубной, с его точки зрения, идеи истребить антибиотиками все возможные болезнетворные микробы. Для него это было проявлением духа тотальной войны. Его мышление находилось под воздействием ужаса перед атомной войной, а позже – «популяционной бомбой», то есть демографическим взрывом (см. примеч. 29).
Основателем американского экологического движения считается Рейчел Карсон (1907–1964), хотя мгновенный и убедительный успех ее «Безмолвной весны» (1962), которую вскоре поставили в один ряд с «Хижиной дяди Тома», говорит скорее о том, что общественное мнение было уже подготовлено и настроено. Ко времени издания книги Карсон была неизлечимо больна раком, и страх перед ним уже давно омрачал ее жизнь. То, что «Безмолвная весна» затмила все предыдущие природоохранные издания, объясняется, в частности, тем, что Карсон, хотя и упомянула широкий спектр новых экологических ядов, сосредоточилась тем не менее на одной цели: инсектициде ДДТ, которым после Второй мировой войны обрабатывали обширные территории. При этом для многих читателей самым важным было, видимо, то, что ДДТ попал под подозрение как канцероген. Аргумент Карсон состоял в том, что человек подвергается особенно серьезной опасности, поскольку, проходя по пищевым цепям, ДДТ накапливается, а человек в большинстве пищевых цепей находится на вершине (см. примеч. 30). В то время ДДТ уже мало помогало то, что всего лишь 10 лет назад его считали великим спасителем человечества от малярии, ведь от страха перед этой болезнью массовое сознание уже избавилось.
Пищевые цепи были ключевым аргументом и в ранней критике ядерных технологий: как предостережение против накопления радиоактивных веществ в организмах, идущих в пищу человеку. В США протесты против атомного оружия гораздо быстрее и легче, чем в Германии, перешли в критику мирного атома, роль посредника сыграла при этом оппозиция против ядерных испытаний, последствия которых стали частью экологической проблематики. Гринпис начал свою деятельность в 1969 году как движение протеста против возобновления ядерных испытаний. Кошмарный образ демографического взрыва («популяционной бомбы»), который после выхода в 1968 году одноименной книги Пауля Эрлиха стал одним из лейтмотивов американского экологического движения, был сконструирован по модели атомной бомбы.
В других странах, в частности в Германии, из-за активной деятельности журналистов в 1950-е годы страх перед атомной бомбой сочетался с экзальтированными надеждами на «мирный атом» – как будто бы он обещал спасение от своего зловещего собрата. Еще немецкий антиядерный протест 1970-х годов, ставший катализатором общего экологического движения, сначала воспринимал тему «атомная бомба» как отвлечение внимания. И только на стыке 1970-х и 1980-х годов, во время протестов против возобновления гонки ядерных вооружений, связь между мирной и военной ядерными технологиями стала мишенью немецких экологов. Не случайно «крупнейшая и сильнейшая в финансовом отношении “зеленая партия” Европы» возникла именно в ФРГ, где антиядерное движение было наиболее сильным (Энн Брэмвелл) (см. примеч. 31).
Важную роль сыграл «ядерный» опыт в дискуссиях по поводу генной инженерии, впервые разгоревшихся в США в 1970-е годы. «Я стала мыслить в терминах атомной бомбы и тому подобных вещей», – вспоминает Джанет Мерц, одна из инициаторов дискуссии. Постоянной фигурой в аргументации стала ссылка на то, что генная инженерия, как и ядерные технологии, манипулирует с основными природными структурами и может повлечь за собой непредсказуемые и необратимые роковые последствия. Хотя генная инженерия не была отягощена такими страшными грехами, как Хиросима, однако ставшие впоследствии известными англо-американские планы использования бактерий во Второй мировой войне заставляют поверить в реальную опасность биотехнологической сверхкатастрофы. Внедрение биологического оружия предотвратили тогда не проблемы морального характера, а трудности в военных расчетах. Однако генная инженерия обещала сделать биологическое оружие поддающимся расчету (см. примеч. 32).
Ядерное оружие сделало реальной и конкретной перспективу, что человечество уничтожит себя само, и не вследствие своих архаических инстинктов, а вследствие неудержимого духа изобретательства. Эта воображаемая модель породила подобные мысли и в других проблемных сферах. Сегодня можно услышать, что одно из отличий современного экологического движения – уважение к природе ради нее самой. Но это далеко не так, уважение к природе входит в давний арсенал охраны и романтизации природы. Новой, напротив, была тревожная мысль, что разрушение природы подрывает физические основы человеческого бытия. Именно она побудила людей к политическим действиям.
Безусловно, не только Хиросима была источником экологических антиутопий. Некоторые экологические кошмары продолжали старые традиции – религиозные, культурно-пессимистические, мальтузианские. Вопреки расхожим утверждениям, слепая вера в силу прогресса и прежде не часто была господствующим мнением. Как правило, модернизация сопровождалась тревогами, и не последнюю роль в них играли экологические мотивы. С 1900 года появляется научно-фантастическая литература, наполненная сценариями грядущих кошмаров. Идея уничтожения человека его же собственным творением как литературный мотив восходит как минимум к «Франкенштейну» Мэри Шелли (1818) (см. примеч. 33).
Однако в экологических антиутопиях последнего времени можно усмотреть не только старые традиции, но и нечто новое и хладнокровное. Хотя они были исполнены глубокого пессимизма, однако содержали практические импульсы, пусть даже их авторы прекрасно осознавали, что простых решений не существует. Ширина тематики, насыщенность и точность информации вывели эту литературу на новый уровень. Предлагаемые катастрофы были тонко продуманы, эмоциональный посыл – доходчив. Авторы «экоапокалипсиса» смогли охватить более широкий спектр доселе неведомых экологических проблем, чем традиционные защитники природы, интересовавшиеся в основном сохранением природных резерватов, а не новейшими тенденциями индустриального общества (см. примеч. 34).
Среди немецкоязычных авторов ранних экологических антиутопий наиболее широкой известности достиг австрийский писатель Гюнтер Шваб (1904–2006). Его книга «Танец с Дьяволом» (1958) послужила стимулом для учреждения в 1960 году «Всемирного союза в защиту жизни» – прообраза антиядерного движения. Еще одна книга («Завтра тебя заберет Дьявол», 1968) – стала самым обширным для своего времени сводом аргументов против ядерных технологий. Дьявол был для Шваба чем-то вроде фирменного знака, он появлялся в названиях всех его книг, а разрушение окружающей среды Шваб представлял как рафинированные дьявольские козни, нацеленные на гибель человеческого рода. Таким образом, литературное обрамление апеллировало к первобытным представлениям об адских кошмарах, но в действительности речь шла о серьезных научно-популярных изданиях. Об опасностях ДДТ Шваб писал на несколько лет ранее, чем Рейчел Карсон (см. примеч. 35). Однако какая разница и в облике автора, и в подаче материала! Карсон всегда оставалась ученым, даже в своих фантазиях, а Шваб, лесовед из Штирии с нацистским прошлым, напротив, даже научные факты обряжал в демонологические одежды!
Получали ли экологические антиутопии поддержку со стороны науки? С XIX века концепция «катастрофизма в естественной истории была в высшей степени отягощена предрассудками». Начало XIX века было ознаменовано крупными дискуссиями между катастрофистами и эволюционистами, победа в которых осталась за эволюционистами. Они верили в постепенное длительное развитие, а теорию катастроф воспринимали как новую версию веры во всемирный потоп (см. примеч. 36). Хотя дарвинисты приводили целый список вымерших видов, однако вымирание их объясняли исключительно победой более совершенных соперников, так что о гибели природы в целом не могло быть и речи.
Но и эволюционизм был в конечном счете верой, а не точно обоснованным учением. Впоследствии он утратил свои самодержавные позиции, а теории катастроф пережили второе рождение. В экологическом катастрофизме чувствуется воздействие средств массовой информации, ведь прогнозы о конце света имеют наибольшие шансы попасть в газетные заголовки (см. примеч. 37).
Однако несколько десятилетий – не такой большой срок, чтобы заносить тревожное предчувствие катастрофы в историю исключительно виртуальных страхов, а не реальных опасностей. Даже Мальтус, кассандровские предостережения которого долгое время считались опровергнутыми реальными историческими процессами, еще может оказаться правым. Критики атомной энергии сначала концентрировали свое внимание на вялотекущих опасностях: радиоактивных отходах и незначительных выбросах при нормальной работе атомных электростанций. Затем они открыли термин «сверхкатастрофа» (максимально возможная катастрофа, Super-GAU), маркировавший кульминацию дискуссий (см. примеч. 38). Затем многие годы о «сверхкатастрофе» никто не говорил – пока Чернобыль не доказал, что этот термин был далеко не фантомом!
Инертная реакция политиков на предостережения часто подвергалась критике. Однако нужно признать, что у нее есть свои причины. Часто лишь по прошествии времени можно понять, какая проблема действительно важна и какое решение эффективно. Создается впечатление, что из-за этой неясности в экологической политике явно или скрыто побеждает принцип применять преимущественно такие меры, которые в любом случае окажутся разумными и смысл которых основан не только на определенных гипотетических предположениях. Работа с невнятными рисками и неуверенными решениями сама по себе требует политического стиля, склонного к экспериментам и всегда открытого для нового опыта. Очевидно, что создать такой стиль, не впадая при этом в чистейшее отстаивание собственных интересов не так просто. Если экологическое движение хочет стать реальной властью, ему требуются особенно надежные позиции.
Для обоснований таких позиций неплохо подходят определенные катастрофические сценарии. Однако если обещанные катастрофы не наступают, этот метод бьет мимо цели. Еще одна проблема состоит в том, что как раз тогда, когда возникает реальный страх перед катастрофой, он блокирует способность думать, мысль зацикливается на несуществующих глобальных решениях. Исторический опыт учит, что особенно коварны именно те опасности, которые замечают лишь некоторые люди. Сюда относятся прежде всего угрозы, связанные с постепенными, никого не беспокоящими изменениями среды. Кристиан Пфистер на примере Швейцарии жалуется, что «население реагирует только на сенсации», и его очень трудно убедить в том, что признаки антропогенного изменения климата – «не столько учащение природных катастроф, сообщениями о которых пестрят массмедиа, сколько незаметные процессы, такие как сокращение снежного покрова в понижениях ландшафта» (см. примеч. 39). Подобное произошло и в 1980-е годы с массовыми повреждениями лесов, когда слоган «Смерть леса»[224] вызвал в воображении людей картину острой катастрофы. Эта картина отстояла от реальности так далеко, что экокатастрофические тревоги с тех пор сопровождаются насмешками. Между тем малозаметные признаки нарушений во многих лесах по-прежнему вызывают беспокойство. Действительно ли экологическому движению нужен страх перед концом света? Исторический опыт показывает, что практическая этика вполне обходится без веры в ад.
4. НАУЧНЫЕ, ДУХОВНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Если изучение истории помогает что-то понять в экологическом движении, так это то, что оно появилось не с чистого листа, не было внезапным озарением, резким переходом от наивной веры в технологические успехи к пессимизму и отрицанию прогресса. Скорее можно сказать, что в него вылилось недовольство, копившееся более 100 лет. «Синдром 50-х» можно усмотреть не только в самих экологических проблемах, но и в экологическом сознании. Уже в 1950-е годы и в США, и в Европе в жалобах на загрязнение воздуха и воды, а также на обезображивание местности и повышение уровня шума появился новый вызывающий тон, требующий фундаментальных решений, а политическое значение темы отчетливо возросло (см. примеч. 40). Только это сделало возможным тот ошеломляющий успех, который имела в 1962 году «Безмолвная весна» Рейчел Карсон.
На первый взгляд, пионером нового экологического сознания стали США – страна, которая не была отброшена назад военной разрухой и послевоенным восстановлением. Здесь просматривается та же модель, как в начале XX века: сначала безудержно совершаются экологические грехи, затем – столь же зрелищно – инсценируются контркампании. В странах Старого Света и то и другое было скромнее, здесь с давних времен думали об охране лесов и почв и даже в 1950-е годы не распыляли с самолета тонны ДДТ. В XIX веке в США отношение к железнодорожным катастрофам было более толерантным, чем в Европе. В XX веке, наоборот, американское движение за безопасность (Safety-first) стало примером для европейцев, то же самое можно сказать об охране здоровья (Health Engineer) и национальных парках в американском стиле. То, что давно знали жители «малогабаритной» Европы, американские защитники природы уяснили в 1920-х годах на примере знаменитого скандала в Кайбабе: что беспрепятственное размножение определенных видов диких животных приводит к разрушению ландшафта. Город Питсбург, в 1900 году бывший настоящим промышленным адом, в XX веке стал идеалом городского экологического санирования. После того как автомобильный смог в Лос-Анджелесе достиг катастрофических значений, Калифорния стала образцом американского экологического благоразумия (см. примеч. 41).
В Германии не было Рейчел Карсон, однако внимательный взгляд обнаружит и здесь рост экологического сознания с конца 1950-х годов, хотя и не такой заметный внешне. Уже в 1958 году специалист по охране вод обращает внимание на «широкое распространение психоза тревожности», к тому же тогда не требовалось экспертных знаний, чтобы прийти в ужас от промышленного загрязнения воды (см. примеч. 42). Но, в отличие от более позднего времени, альянс между охраной окружающей среды и концепциями общеполитических реформ еще не сложился. Охрана среды в типичных случаях скорее склонялась к консерватизму. Как не раз было в истории, проблемы были уже осознаны, но решению их мешало отсутствие дееспособной коалиции заинтересованных лиц. С мобилизацией науки в первые послевоенные десятилетия тоже возникали сложности. Наиболее авторитетным и всемирно признанным немецким защитником природы был тогда Бернгард Гржимек: безусловно, он обладал широчайшими биологическими познаниями, однако апеллировал в основном к эмоциям и чувствам и своими сторонниками считал скорее «маленького человека», чем интеллектуальную элиту.
Экологической сцене часто приписывали враждебное отношение к технике. Однако с исторической точки зрения в этих новых кругах заметен скорее интерес к технике, чем неприязнь. Выход из экологического кризиса они ищут в технических решениях, «щадящих» технологиях и повышении энергетической эффективности. Ориентиром для них служит не Герман Лёне, а скорее Эмори Ловинс![225] И еще одно: хотя критики имеют обыкновение упрекать экологов в эмоциональности, однако в долгосрочной перспективе, на фоне прежних романтиков природы, бросается в глаза ровно обратное, а именно, до какой степени экодвижение представляет себя прикладной наукой, «экологией», и с каким успехом устанавливает контакты с наукой. Первопроходцем здесь была уже Рейчел Карсон. Лишь в начале своей книги она рисует картину смерти, воздействующую на чувства читателей: гибель птиц, весеннее безмолвие вместо птичьих трелей. Новизна экологического сознания последних десятилетий состоит в том, что в центре его внимания находятся незримые угрозы, вообще не ощущаемые органами чувств и доступные только науке, – радиоактивность, риски генных технологий, изменение климата вследствие выбросов углекислого газа. Однако полностью оторваться от чувственного опыта экологическое движение тоже не может. Ядерная опасность проникла в человеческие души прежде всего с чернобыльской катастрофой, ее вполне зримыми и ощутимыми последствиями. Угроза парникового эффекта кажется особенно достоверной в аномально жаркие летние сезоны (см. примеч. 43).
Объяснить подъем экологического движения историей науки не получается. Хотя термин «экология» (по аналогии с «экономией») в 1866 году ввел в оборот ученый – Эрнст Геккель, а его книга «Мировые загадки» (1899) стала не только всемирным бестселлером, но и настоящей «библией» движения монистов[226], однако от его «экологии» к «экологии» экодвижения прямого пути не было. «Экология», развивавшаяся в период между Геккелем и Рейчел Карсон в рамках науки, была ответвлением биологии, далеким от политики и широкой публики, влачила незаметное существование в собственной нише и сама по себе никогда бы не смогла завоевать общественное мнение.
Примечательный исторический парадокс заключается в том, что к тому времени, когда экологическое движение стало обретать конкретные очертания, научная экология уже довольно далеко ушла от «экологии» в новом, популярном смысле. Концепция экосистемы, впервые сформулированная Артуром Дж. Тенсли в 1935 году, означала отказ от прежнего экологического представления о жизненном сообществе (биоценозе) и редуцировала мир до потоков вещества и энергии. Таким образом, экология становилась точной наукой, дающей строгие количественные оценки, лишенной романтики и ценностных суждений, в которой человек как создание sui generis[227] вообще не появлялся. С дальнейшим развитием этой науки был демонтирован прежний идеал нетронутой природы, а экосистемы стали считаться динамичным явлением, состояние идеального покоя из научного арсенала ушло. Экологическое же движение исходно склонялось к устаревшей концепции идеальной первозданной гармонии между человеком и природой. Это не означает, что оно не корреспондировало с новыми направлениями в экологической науке, но когда в 1980 году Хуберт Вайнцирль, председатель Федерального союза по охране природы и окружающей среды Германии, заявил, что охрана природы строится «на незыблемых законах экологии» (см. примеч. 44), было уже немало сомнений в том, что экология такие законы предлагает.
Сегодня, как и в XVIII и XIX веках, наиболее сильные импульсы для изучения экологического ущерба исходят не из внутренних тенденций определенных наук, а извне – из практического опыта и интересов, сложившихся в различных практических сферах. Это скорее подтверждает обоснованность тревог, чем опровергает их. Однако примечательно, что экологическое движение, в котором первое время преобладала принципиальная критика современной науки, со временем приобрело ярко выраженный научный характер. Такое изменение ему дорого обошлось, и не всегда можно быть уверенным, что эта высокая цена окупается. Наука задает иерархию, в которой дилетанты всегда находятся в самом низу, даже если инициатива исходит именно от них. Их знаниями она пренебрегает, даже если на практике они оказываются никак не менее полезными, чем знания экспертов. К высоколобым дискуссиям о предельно допустимых значениях нет допуска непрофессионалу, пусть даже эти значения в конечном счете будут лишь результатом договоренностей и торга, а не лабораторных экспериментов. Поскольку многие экологические исследования не имеют завершения, политики очень любят для затягивания дела переадресовывать вопросы науке (см. примеч. 45). Научная дефиниция проблем позволяет завуалировать тот факт, что их решение является, как правило, и вопросом интересов.
Кроме того, эксперты склонны усложнять проблемы и их решения, чтобы удержать их в своей компетенции. Они предпочитают не замечать проблем, не интересных для их собственной дисциплины. Простые традиционные темы, чрезвычайно важные для благополучия очень большого числа людей и ранее занимавшие первые места в списке экологических проблем (такие как шум или эрозия почвы), за последние десятки лет стали гораздо менее популярны – они предлагают очень мало материала для привлекательных исследовательских проектов. Самолеты и грузовой автомобильный транспорт – самые страшные источники экологических нарушений – привлекают к себе далеко не такое внимание, какого заслуживают. Правительство Аденауэра намного более жестко конфликтовало с грузовым лобби, чем позже делали это правительства экологической эры (см. примеч. 46).
Экологическое движение обрубает собственные корни, если проявляет недостаточное внимание к чувственному опыту, а также если отрицает свою духовную основу. Сколько бы ни ссылались экологи на экосистемные взаимосвязи, но природа, о которой идет речь в их движении, несет в себе очень многое от древней Богини Натуры, которую любили и с которой вели интимный диалог. Это выражается в таких словосочетаниях, как «мир с природой»! Как раз сегодня, когда наиболее серьезные экологические проблемы уже недоступны для наших органов чувств, экологическое движение не может обойтись чисто прагматической основой.
Духовный элемент экологического сознания зависит от культурных традиций страны. Особенно отчетливо духовные корни просматриваются в американском экологическом движении, где «трансцендентальная» традиция прослеживается от Эмерсона и Торо и через Джона Мьюра и Олдо Леопольда приводит к Рейчел Карсон. Карсон почитала Альберта Швейцера и преклонялась, как и он, перед любым проявлением жизни, включая жизнь животную. Она была дружна с пауком, ее глубоко волновало зрелище идущего на нерест лосося. Медиевист Линн Уайт в своем нашумевшем эссе об «исторических истоках нашего экологического кризиса» выдвинул аргумент, что исходная причина его кроется в иудейско-христианской религии, и потому преодолеть его можно лишь на путях духовного перерождения. Он рекомендовал экологам считать своим покровителем Франциска Ассизского, высоко оценивал битников (Beatniks), предшественников хиппи, за «сродство к дзен-буддизму» и считал их подлинными революционерами нашего времени. Хиппи, в начале своей истории находившиеся под влиянием Генри Торо, также внесли немалый вклад (хотя бы в плане общей атмосферы) в новые идеалы щадящего обращения с природой, в том числе человеческой. Впоследствии началом американского экологического движения нередко считали «День Земли» 1970 года, что тоже подчеркивает духовный элемент (см. примеч. 47). При этом, правда, игнорируется институциональный уровень – например, учреждение Агентства по окружающей среде, тоже произошедшее к 1970 году, а также традиции городской гигиены и лесного хозяйства.
Американская экофеминистка Чарлин Спретнак обнаружила духовный источник энергии и внутри немецкого движения «зеленых» (1984), правда, большинство экологов его стесняются и предпочитают отрицать. Действительно, в профессиональных исследованиях «зеленого» движения, написанных немецкими авторами, такими как Хуберт Кляйнерт или Йоахим Рашке, об этом нет практически ничего – создается впечатление, что речь в них идет о совсем других партиях, чем у Чарлин Спретнак. Основной свидетель Спретнак – Петра Келли[228], получившая образование в Вашингтоне, что еще более укрепило ее и без того сильную духовную свободу. В отличие от американского автора, у немецких левых любой намек на мистику ассоциируется с фашизмом (см. примеч. 48).
Для более широкого экологического круга, из которого «зеленые» черпали своих избирателей и эмоциональные импульсы которого исходили в основном из учения о целительной силе природы, эзотерики и восточных религий, духовные моменты, напротив, имели большое значение. Может быть, именно ими объясняется то внутреннее единство этого круга, которое является загадкой для гуманитарных специалистов. Популярны даже истории об экологическом озарении, когда человек внезапно осознает трагедию разрушения окружающего мира.
Религиозными чертами обладала и «экология» Эрнста Геккеля, заклятого врага христианских церквей. По Геккелю, «богиня Правды живет в храме природы, в зеленом лесу, в синем море, на заснеженных горных вершинах». Культ природы ни в коем случае не ограничивался кругом интеллектуалов и эстетов. Даже такой решительный борец за экологически чистое водное хозяйство, как Альвин Зайферт, ощущал потребность в духовном обосновании своих действий. Последовательная «борьба со сточными водами» не может обойтись без «отвергаемой ныне “романтической” основы», чувства «древнего языческого сродства с чистой родниковой водой», – написано в труде, изданном в 1958 году Немецким объединением охраны вод. В 1970-е годы романтический элемент усилился и в антиядерном движении, что особенно ярко проявилось в скандале вокруг Горлебена, когда там шла борьба против строительства в провинциальном Вендланде хранилища радиоактивных отходов. Лозунг «Пусть живет Горлебен» (Gorleben soll leben) сыграл огромную роль в объединении движения, которому до этого грозил раскол на две части – умеренную и радикальную. Еще большую популярность принесли новому экодвижению тревожные сигналы о «смерти леса» в начале 1980-х годов, благодаря которым удалось мобилизовать традиционный немецкий лесной романтизм. Эта же кампания сделала политически дееспособным экологическое движение Швейцарии. Правда, весь этот шум тогда отвлек внимание от грехов лесного хозяйства с их склонностью к еловым монокультурам. Только «лесник шторм» – разрушительный ураган Випке весной 1990 года заставил широкие круги немецких лесоводов пересмотреть свои позиции и перейти к созданию более естественных форм леса (см. примеч. 49).
Институциональная основа экологического движения очерчена более четко, чем духовная. В долгосрочной перспективе видно, что это движение не ворвалось в политическую сферу извне. За тем мгновенным драматическим эффектом, который производят сцены обстрела противников мирного атома полицейскими водометами, легко забывается, что охрана природы и окружающей среды в общем и целом развивалась в глубоком сродстве с государственными инстанциями и что совершенно нереальным было бы написать историю экологического сознания вне этого постоянного фона. И в Европе, и в США экодвижение со своего возникновения было не враждебным по отношению к государству, а скорее интегративным, несмотря на все столкновения с государственными инстанциями в конкретных случаях. Государственная система образования, исследовательские учреждения, лесные службы, службы здравоохранения, службы контроля за промышленностью, коммунально-бытовые службы: без всех этих учреждений современное развитие экологического сознания и подхода к экологическим проблемам совершенно немыслимо. Рейчел Карсон приобрела свою профессиональную экологическую компетенцию, работая в Службе рыбы и дичи США. Правда, ко времени написания «Безмолвной весны» она уволилась оттуда и занялась самостоятельными исследованиями. Своей славой она обязана не только резонансу в обществе и СМИ, но и выступлениям перед сенатским комитетом и научно-консультативным советом президента. Правительство Кеннеди вскоре увидело в охране среды тему, пригодную для профилирования. Преемник Кеннеди Джонсон пошел еще дальше, и в своей речи «Великое общество» впервые «ввел проблему среды обитания в более широкий контекст своего видения будущего американского общества». Эта тема была тогда гораздо более привлекательна, чем война во Вьетнаме. В 1966 году немецкие защитники природы издали документальное расследование «Природа в беде», сопроводив его письмами поддержки от Аденауэра, Франца Йозефа Штрауса[229] и президента Германии Карла Генриха Любке, – ни малейших признаков враждебности по отношению к консервативному властному картелю! Издатель этого труда, а впоследствии председатель Немецкого союза охраны природы, Хуберт Вайнцирль, был в то время Полномочным представителем правительства по охране природы в Нижней Баварии, тогда он еще старался заключить союз с влиятельным охотничьим лобби. В 1970 году «экологическая политика» как новая широкая политическая сфера была открыта новым социал-либеральным правительством, искавшим популярные сферы деятельности по американским образцам, гражданские экологические инициативы первое время даже получали государственную поддержку! (См. примеч. 50.)
Так же, как не надо переоценивать антагонизм между охраной среды и государством, не стоит переоценивать и антагонизм между экологией и экономикой. Правда, если серьезно воспринимать неантропоцентричные позиции части экологического движения, то это противоречие кажется неразрешимым. Однако в исторической реальности такого фундаментального конфликта не существует, и вряд ли будет умным видеть здесь борьбу взглядов. В долгосрочной перспективе между экологическими и экономическими интересами нередко возникала конвергенция. Это относится даже к дебатам об атомной энергетике: остановив грандиозные планы начала 1970-х годов со всеми их реакторами и переработкой ядерных отходов, протестное движение спасло энергетику от крупнейших в ее истории сомнительных инвестиций. Отчетливая конвергенция существует также между экологическим движением и падением значения индустрии по отношению к третичному сектору и снижением роли энергии в эпоху электроники. В сельском хозяйстве вследствие сверхпроизводства стало рациональным забрасывать земли, сажать лес и создавать новые территории для «дикой природы». В лесном хозяйстве рост расходов на зарплаты и падение прибылей поддерживает тенденцию предоставления лесов их собственной судьбе. Сегодня могут возникать сомнения, а существует ли еще экологическое движение как самостоятельный институт, иногда кажется, что его мотивы, если они имеют практическое значение, уже давно вобрали в себя иные политические и экономические силы. Этот процесс присвоения мотивов, заметный в первую очередь раздраженным сторонним наблюдателям, может создать новые проблемы, к которым общество пока не готово.
5. НЕПАЛ, БУТАН И ДРУГИЕ ВЫСОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА, ПОМОЩИ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ И КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Осенью 1966 года в среде хиппи ходило выражение «на Рождество в Катманду», и на Рождество «дети цветов»[230] и вправду сотнями устремились в непальскую столицу. Далекое Гималайское королевство стало зачарованным миром для любопытных любителей дальних стран. После 1969 года за «мягкими» хиппи последовали гораздо более «грубые» треккинг-туристы, а к 1979 году их количество выросло чуть не в 100 раз. После создания в Непале национальных парков к этим потокам добавился поток экотуристов, открывших для себя прелесть не только высокогорий, но и южных джунглей. Рекламный слоган авиакомпании Royal Nepal Airlines гласил, что в Непале наряду с индуизмом и буддизмом появилась третья религия – туризм. В тот же период гималайское государство стало настоящей меккой для этнологов и специалистов по помощи развивающимся странам. Сегодня Непал – одна из наиболее изученных стран третьего мира и занимает одно из первых мест в получении финансовой помощи развивающимся странам в пересчете на душу населения.
Если в начале Непал презентовал себя как эльдорадо богатейшей древней культуры и грандиозной природы, то с конца 1970-х годов он воспринимается и с другой стороны – как пример тяжелейшего разрушения и культуры, и природы. Новый лейтмотив задала в 1975 году статья Эрика П. Экхольма с тезисом, что ни в одном другом горном регионе мира силы «экологической деградации» не работают так стремительно и так наглядно, как в Непале. В 1980-х годах Непал считался страной с самой высокой степенью обезлесения в Южной Азии, примером того порочного круга, звенья которого образуют перенаселенность, обезлесение, эрозия почв и рост демографического давления. Однако, присмотревшись внимательнее, можно увидеть здесь и другую историю, как минимум не менее поучительную, – историю восприятия окружающей среды извне, историю конструирования экологических проблем по заданной схеме, обратного воздействия «проектных» интересов на дефиницию экологических кризисов, а в целом – проблем экологической политики на большой части нашей планеты (см. примеч. 51).
Стремительное развитие туризма расширило и обострило взгляд на окружающую природу, и именно в критическом ключе, не только по линии туристических проспектов. В отпускных путешествиях эйфория и отрезвление часто сопровождают друг друга. Здесь, как и везде, турист склонен к экстремальным крайностям в восприятии окружающего мира: между адом и раем почти не остается промежуточных ступеней. Свои новые национальные парки Непал презентовал как рай «биоразнообразия», в то время как долина Катманду, до 1970-х годов казавшаяся сказкой из «Тысячи и одной ночи», задохнулась в выхлопных газах, смоге, шуме и мусоре. На этом адском фоне экологическая катастрофа казалась более чем очевидной. Пешие туристы в Гималаях видели экологические нарушения, оставленные предыдущими туристами, неустойчивость и хрупкость высокогорных террас. Уже с самолета повсюду видны оползни, правда, остается неясным, имеют ли они антропогенное или естественное происхождение. Ниже, в сельскохозяйственных регионах, туристов практически нет, ученым эти места также не слишком интересны. Экотуристы стремятся в «первозданные» леса и практически не замечают бесчисленных, мелких бамбуковых рощиц в земледельческих районах. К этому добавляются и временные рамки: до 1950 года Непал был закрыт для внешнего мира, и иностранцы склонны думать, что все эволюционные процессы начались здесь именно с этого времени.
Между туристическим восприятием окружающей среды, организациями помощи развивающимся странам, инстанциями самого Непала, а также общественностью Индии сложились различные взаимодействия, связи и пересечения. Поскольку модель развития по линии традиционной идеи прогресса уже давно вызывает сомнения, организации помощи развивающимся странам уже с 1970-х годов заняты активным поиском новой экологической легитимации. Им нужны такие дефиниции экологического кризиса, которые могут стать фундаментом для их проектов. Если корнем всех бед считать обезлесение, можно обосновать крупные проекты по восстановлению и созданию лесов, даже если они помогают вовсе не там, где рубка деревьев приводит к пагубным последствиям. Если видеть кризис в дефиците энергии и сверхэксплуатации дровяных лесов, получит смысл создание водохранилищ и электростанций, даже если при этом будут затоплены ценные сельскохозяйственные земли. Сооружение гидроэлектростанций в Гималаях – чрезвычайно соблазнительная идея, до сих пор проекты такого рода тормозили технические сложности и трудности кооперации между гималайскими государствами.
В 1978 году отчет Всемирного банка предрекал, что через 20 лет в Непале не останется доступных лесов. Проекты по восстановлению лесов стали проверенным средством получения денег из Всемирного банка и других фондов, занимающихся вопросами развития. Непальскому государству не потребовалось много времени, чтобы выработать языковые нормы для приспособления к новой ситуации. Экологическая катастрофа стала официальной доктриной. Чтобы облегчить реализацию госпрограмм по защите леса, лесные службы объявляли на деревенских собраниях, что без предлагаемых проектов сельскохозяйственные почвы в Бенгальском заливе подвергнутся эрозии и будут смыты. Теория катастрофы была также поддержана Индией, ведь таким образом на Непал перекладывалась вина за наводнения в Бенгалии. В одном индийском сборнике говорилось даже об «экологическом холокосте» (1989) в Гималаях, однако представленные доказательства были недостаточны для обоснования столь трагичной теории (см. примеч. 52).
Если проанализировать подоплеку происходящего, то в непальских страхах перед потерей лесов можно заметить некоторое сходство с европейскими лесными тревогами конца XVIII века: определенные дефиниции кризиса привлекаются для оправдания вмешательства сверху. В обоих случаях жалобы на обезлесение основывались на узком определении понятия «лес», не включавшем в себя ни осветленные пастбищные, ни рассеянные в пространстве крестьянские леса. Во многих горных регионах Непала наличие леса можно установить лишь с помощью аэрофотоснимков. Степень облесения будет разной в зависимости от того, при какой сомкнутости крон участки, покрытые деревьями, определяются как лес. Однако в отличие от Германии XVIII века, где восстановление и создание лесов проводилось в реальной жизни, в Непале XX века оно слишком часто осуществляется только на бумаге!
Что и как можно понять о реальной экологической ситуации в Непале и ее причинах? Общие суждения всегда будут уязвимы, потому что в такой стране, как Непал, региональные различия достигают экстремальных значений: это обусловлено уже географией, не говоря о разнице культур. Общие обвинения по адресу горных крестьян, сконструированные по всемирной модели, скорее всего ошибочны. К разрушению террас в горах часто приводит не перенаселенность, а наоборот, уход людей с земли. Если часто можно услышать, что горные крестьяне рубят на дрова последние деревья, то путешествие по Непалу легко убеждает в обратном: поскольку многие крестьяне используют древесную листву в качестве корма для скота, то в стране широко распространено выращивание деревьев. На селе дефицит дров мало ощущается. Правда, здесь надо вспомнить, что в Непале, как и во многих других странах, дрова традиционно собирают женщины, и мужчины просто не знают, что за дровами приходится ходить все дальше!
Утрата лесов на обширных территориях подтверждается прежде всего в равнинной части страны, в Терае. Вырубки начались здесь в 1957 году, после того как с помощью ДДТ была ликвидирована малярия, и земли начали осваивать прибывавшие из других мест переселенцы. Однако эти рубки не только начались, но и закончились, к настоящему времени здесь создан национальный парк. До 1982 года Непал был значимым экспортером леса, до последнего времени непальцы жили с ощущением, что леса в их стране очень много. Это тоже объясняет отсутствие давних традиций его охраны (см. примеч. 53).
Экологический ущерб от туризма в целом, видимо, не так страшен, как кажется туристам, настроенным критически. Туризмом затронуты прежде всего шерпы – носильщики и любимцы альпинистов. Однако вопреки прежним утверждениям, их культура под влиянием туризма скорее стабилизируется, чем разрушается. Глубочайшим переломом в экологической истории шерпов стало появление картофеля, предположительно в конце XIX века. Однако поскольку источник новых калорий шерпы использовали, в частности, для учреждения монастырей, то в их случае картофель косвенно послужил контролю над рождаемостью. Однако шерпов, тибетских буддистов, в традициях которых прослеживаются некоторые обычаи охраны лесов, никак нельзя считать типичными жителями Непала. Заменять общие обвинения в адрес горцев столь же общим экологическим гимном было бы неправильно. Безусловно, здесь идут и такие процессы деградации почв, которые шерпы не могут не только преодолеть, но даже как следует понять (см. примеч. 54).
Вообще не стоит слишком увлекаться мыслью, что многое в экологических катастрофах конструируется намеренно, и делать вывод, что все экологические кризисы – не более чем искусственные конструкты. Если эмпирические данные пессимистов и неполны, то это еще не дает оснований для оптимизма, особенно в Непале. За тем, что происходит в этой стране, даже критики катастрофизма наблюдают с большой тревогой. Да, нельзя забывать, что порочный круг «перенаселенность – обезлесение – эрозия» – всего лишь идеальная схема, реализующаяся лишь отчасти и лишь в определенных условиях. Но противоположный идеал, когда рост численности населения приводит к более совершенному использованию почв, как правило, к Непалу еще менее применим. Повышение плотности населения сопровождается не ростом, а скорее, падением дохода с земли. Хотя многие шерпы так же внимательны к удобрению почвы, как немецкие крестьяне XVIII–XIX веков, тем не менее существует много признаков недостаточности удобрения и снижения плодородия.
Сколь бы живописными ни казались непальские земледельческие террасы, они, как правило, не особенно стабильны. В большинстве своем они не имеют подпорных стен, их откосы каждой зимой разбивают и сооружают заново. На крутых склонах любой сильный ливень в сезон дождей может вызвать оползень, а с ростом плотности населения террасы поднимаются все выше и выше. В Непале с его гетерогенными культурами не формируется дисциплинированное гидравлическое общество, как на Яве или Бали, здесь крестьяне склонны по ночам рыть канавки, чтобы отобрать воду у соседа. Основой земледелия служат животные удобрения, то есть необходимы обширные пастбища. Но при росте численности и плотности населения площади пастбищ сокращаются. Если об острой экологической катастрофе речь пока не идет, то на вялотекущий кризис указывает множество признаков.
Однако этот кризис, видимо, не таков – чтобы справиться с ним, помогали проекты помощи развивающимся странам и иностранные эксперты. Хотя «соучастие» (participation) горных крестьян уже давно вошло в жаргон специалистов по развивающимся странам, но даже публикация Международного центра комплексного развития горных регионов, расположенного в Непале, признает: «Для тех, кто делает политику, горцы остаются невидимками, даже в такой горной стране как Непал». Проекты по развитию, как правило, не имеют ничего общего ни с бамбуковыми рощами, ни с террасированными склонами. Общий стиль политики, разрабатываемой за пределами страны, далек от проблем горного крестьянства. Здесь, как и везде, притязания государства на лес, никогда не сопровождавшиеся эффективным менеджментом, настроили местное население против охраны лесов сверху.
Письменные источники по экологии Непала весьма внушительны. Но феноменально и показательно отсутствие какой-либо связи между экологическим дискурсом и реальной жизнью. В такой стране историку приходится еще более тщательно, чем в Европе, следить за тем, чтобы не спутать историю дискурса с реальной историей. Экологическая публицистика требует особого отношения к источникам. В Непале, как и во многих других странах третьего мира, наиболее фатальным кажется то, что большая часть сельского населения уже не верит в будущее собственной формы жизни. Вместо этого наиболее активная часть молодежи стремится в город, а более всего – в США. Принцип устойчивости, напротив, требует в качестве социальной и ментальной основы такое население, которое чувствует себя дома не только внешне, но и внутренне, и верит в будущее родного края. Так было с европейскими крестьянами во время прежних аграрных реформ – их надежды и вера в будущее легко читаются в великолепных надворных постройках. Но в век всеобщей мобильности этому менталитету грозит эрозия еще более губительная, чем эрозия почвы (см. примеч. 55). Многие консультанты по развитию уже одним своим присутствием с их вызывающим зависть стилем жизни и невероятными по масштабам третьего мира зарплатами невольно способствуют победе менталитета «Только-бы-отсюда!»
После того как долина Катманду утонула в смоге, кто-то из туристов обнаружил в непосредственной близости от Непала еще один гималайский рай, и вправду архаичный и нетронутый – Бутан. Это уединенное и до сих пор почти неизведанное буддийское королевство, столь сходное по природным условиям с Непалом, с 80-х годов XX века являет собой пример, экстремально противоположный ему, и последовательно избегает повторения непальских ошибок. Нет в мире другой страны, которая, обладая такой привлекательностью для массового туризма, так упорно сопротивлялась бы ему. Туристическое планирование в Бутане считается «одним из самых совершенных в мире», как гордо сообщает отчет «Биоразнообразие и туризм», составленный для Федеральной службы по охране природы (1997). Показатели лесных площадей в пересчете на душу населения в Бутане почти в 12 раз выше, чем в Непале (1990). Бутан – одна из очень немногих стран третьего мира, реализующая эффективную охрану леса за пределами природных резерватов, причем в рамках общей политики сбережения традиционных деревянных и текстильных ремесел и сдерживания импорта промышленного ширпотреба.
Для своих поклонников Бутан стал новой Шангри-Ла, буддийской мечтой, заменив оккупированный китайцами и бесцеремонно вырубленный ими Тибет. Туманные горные леса Бутана кажутся путешественнику сказочной страной, где время остановилось, а природа осталась нетронутой. Но и здесь тоже был период безжалостных браконьерских вырубок, и лишь с 1980 года, с началом всемирной экологической эры, правительство страны перешло к активной политике сбережения и восстановления лесов. Эта политика производит впечатление в общем успешной, даже если не везде удается реализовать запрет на подсечно-огневое хозяйство. Главное объяснение благополучного состояния лесов заключается, безусловно, в низкой плотности населения. В Бутане нет широких долин, где могло бы развернуться аграрное производство, а полиандрия и высокий процент монахов (возможно, и относительно высокая независимость женщин) удерживают на стабильном уровне численность населения. Географическая изолированность и отсутствие у высших слоев общества соблазняющей привычки к роскоши способствуют созданию атмосферы относительной непритязательности. В стране нет крупных городов и практически нет двойственной экономики (dual economy), то есть резкого разделения между современным и традиционным экономическими секторами. Это означает отсутствие главных проблем третьего мира, затрудняющих эффективную охрану окружающей среды. В 1960 году леса Бутана были национализированы, однако в отличие от Непала и многих других стран негативных последствий это, видимо, не имело (см. примеч. 56). Все это – преимущества небольшой страны с обозримой территорией, где столица государства лишь чуть больше крупной деревни, а правители и управляемые, вопреки авторитарному режиму, равно держат друг друга в поле зрения.
С 1990 года бутанская экотопия имеет и темную сторону, тоже очень показательную, – изгнание из страны свыше 100 тыс. иммигрантов, в основном непальцев. Сегодня беженцы составляют примерно шестую часть населения Бутана. Непосредственным толчком к этому послужили беспорядки, произошедшие вследствие политики «бутанизации», проводимой правительством в 1980-е годы. Внешним ее знаком было повсеместное введение национального костюма, а также создание «зеленого пояса» (Green belt) – незаселенной лесной полосы на границе с Индией. Именно там и стали концентрироваться выходцы из Непала. Правительство объясняло выдворение недостаточной лояльностью мигрантов, а также квазиэкологическими аргументами – число непальцев растет быстрее, чем местных жителей, они разрушают леса своим подсечно-огневым хозяйством, и в таких условиях коренные жители вместе со своей культурой и природой стали бы «угрожаемым видом» (см. примеч. 57). Это соответствует общей картине экологического кризиса в Непале, которая, правда, при ближайшем рассмотрении верна лишь отчасти.
Можно видеть, как тесно спаяны в Бутане экология и сохранение политической системы. Предостережением для него послужила судьба соседнего Сиккима, потерявшего независимость после того, как непальские иммигранты стали в этой стране демографическим большинством. Опасность, грозящая бутанской культуре и природе, явно не была чистым измышлением. Экологическая дилемма, которая в западных экологических дискурсах пока только появляется на горизонте, в Бутане приобрела остроту; и архаическая горная страна могла бы послужить здесь указателем на будущее (см. примеч. 58). Правда, неясно, насколько устойчивым окажется особый путь Бутана в дальнейшем.
Институт глобального мониторинга в Вашингтоне уже считает общим правилом, что по мере роста плотности населения и нехватки региональных ресурсов люди «в целях своей защиты» обращаются к «этническим и религиозным общностям» (см. примеч. 59). И такое поведение даже нельзя считать полностью слепым: действительно, баланс между человеком и природой легче представить себе в культурно гомогенных социальных микромирах. Но что делать, если возврат к этим малым традиционным мирам уже невозможен или путь к ним лежит через потоки крови? Выходом было бы национальное государство на основе исторически сложившегося симбиоза соседствующих культур. Однако в значительной части мира лояльность по отношению к государству очень низка, люди лояльны скорее к семье, роду, племени, религии, партии. Государство – зачастую оправданно – считается коррумпированным, в нем видят лишь инструмент правящей фракции. Вероятно, в этом заключается основная сложность не только социальной, но и экологической политики в большой части современного мира. Этим объясняется и расцвет неправительственных организаций в сфере помощи развивающимся странам, а также в международной экологической политике. В Непале в 1984 году даже король учредил неправительственную природоохранную организацию!
Бессилие многих государств наводит на мысль, для многих привлекательную, что эффективную экологическую политику можно осуществлять только на международном, а лучше всего – на глобальном уровне. Аргументация здесь богата: взгляд на этом уровне будет наиболее широк, полномочия максимальны, а дистанция до губительных для природы частных интересов велика, как нигде. Экологическая наука не знает национальных границ, как не знает их и большинство промышленных выбросов. Именно те опасности, которые ассоциируются с апокалиптическими сценариями, то есть деградация атмосферы и мирового океана, целиком зависят от глобального подхода. Кроме того, экологические налоги на промышленность лучше всего вводить так, чтобы они относились ко всем и не отдавали конкурентное преимущество какой-либо национальной индустрии.
Уже с 1945 года мысли об апокалипсисе, прежде всего от ужаса перед новой мировой войной, приводили к одному и тому же выводу – что сегодня целью всех разумных людей должно стать создание мирового правительства. Глобальные экологические угрозы усилили логику этих аргументов. Однако поскольку этой цели противостоят неслыханные сложности и бесконечные группы интересов, то именно стремление к универсальным решениям способно втянуть человечество в самые тяжелые конфликты. Экологическая мудрость могла бы в итоге состоять в том, чтобы понять бессмысленность этой цели, исходя из понимания, что конкретный симбиоз человека и природы всегда происходит в небольших единицах, функционирует оптимально через осторожное взаимопроникновение регуляции и саморегуляции и в принципе не может быть организован сверху. Эрих Янч, автор теории «самоорганизующейся вселенной», считает, что нам следовало бы «сконцентрировать внимание скорее на симбиозе субглобальных аутопоэтических систем… чем на мировом правительстве и глобальной культуре» (см. примеч. 60).
В пользу такого предпочтения решительно говорит не только теория систем, но и исторический опыт. Решающим фактором эффективной экологической политики является не абстрактное сознание, а организация, коалиция участников, общий практический код. Часто не хватало именно их, а не принципиального осознания экологических проблем, и подобные практически-организационные задачи легче всего решать в конкретных регионах и ситуациях. Хотя многие экологические проблемы во всем мире более или менее сходны, однако пути их решения будут различными в зависимости от региона и исторической ситуации. Они могут различаться даже в соседних альпийских долинах. Как раз большинство проблем среды, свойственных третьему миру, носит в основном местный и региональный характер. Охрану и восстановление лесов, лесопольное хозяйство (agroforestry), социальное лесное хозяйство (social forestry), щадящее почвы орошение – все это невозможно организовать в глобальном масштабе, напротив, подобные вещи зависят скорее от местного знания и согласования интересов на месте. В целом понятно, что на глобальном уровне понятие «устойчивость» остается пустой формулировкой, наполнить его содержанием можно только в очень ограниченном пространстве и в приложении к конкретным моделям.
Плюс ко всему вопрос власти! Те разговоры, которые эксперты ведут в своих сценариях, например, когда ФРГ через «совместную реализацию» (joint implementation) экологически перевооружает китайскую энергетику, ведутся в странной, нереальной атмосфере, как будто в мире вообще нет власти и собственной воли государств! И если лояльность в вопросах экологии ничтожна по отношению к собственным государствам, то на уровне международных инстанций она может быть еще меньшей.
Эффективная охрана среды обитания, мобилизующая массы людей, не может состоять лишь из запретов и предельно допустимых значений. Она должна группироваться вокруг позитивных моделей. Это тоже немыслимо на глобальном уровне. Чтобы подобные модели не исчерпывались пустыми формулировками, а принимали конкретные очертания, они должны разрабатываться в гораздо более узком пространстве. Достаточно вспомнить обращение с отходами: очень многое зависит здесь от национальной культуры и региональных условий, лишь на этом уровне возможна созидательная политика. Одна из наиболее тяжелых экологических проблем – шум, сам по себе локален, при глобализации экологической политики он просто игнорируется.
Это не призыв к противоположной крайности, полному отказу от международной экологической политики как бессмысленной. Экологическая история не дает оснований думать, что местное знание (local knowledge) решает все проблемы, тем более, если, как в основном и бывает сегодня, местные традиции утрачены вследствие ухода с земли и миграции (см. примеч. 61). В поисках исторических аналогий нужно задуматься о том, не возможно ли, чтобы определенные экологические нормы становились для тех, от кого сегодня зависят судьбы мира, «второй природой», примерно так, как это произошло с нормами гигиены. Один из путей решения лежит, вероятно, в этом направлении. Тем не менее, судя по опыту, было бы непродуманным останавливаться исключительно на глобальных решениях, как это делает часть немецких экологов, испытывающих ужас перед национальным государством.
Пробным камнем, на котором проверяются возможности и ловушки глобального подхода, служит ООН. Стокгольмская конференция по проблемам окружающей человека среды 1972 года сыграла очень важную роль в том, что понятие «окружающая среда» вышло на глобальный уровень, а Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года с ее ключевым понятием «устойчивость» (sustainability) стала эпохальным событием международного экологического дискурса. Однако экологическим инициативам подобного рода всегда грозила опасность уйти в слова и символические жесты, лишь отвлекающие от того, что в реальности никаких серьезных изменений не было. В некотором отношении Конференции ООН действовали даже контрпродуктивно, потому что окружающая среда становилась на них игральной фишкой между властными блоками и альянсами. В этой игре, как правило, задается тенденция, согласно которой сохранение среды выглядит делом индустриально развитых государств, в то время как в третьем мире распространяется навязчивая идея, что речь идет не о собственных интересах, а о чем-то, что надо делать только за плату из первого мира. При этом, как утверждает фрайбургский политолог Дитер Оберндёрфер, во многих странах третьего мира в кратко– или среднесрочной перспективе как раз «нет противоречия между экологией и экономикой», и развивающаяся между первым и третьим миром ролевая игра отвлекает от интересов собственного выживания. Однако охрана окружающей среды может быть эффективной только тогда, когда она исходит из собственных интересов (см. примеч. 62).
Лучшим образцом международной экодипломатии до сих пор служит Конференция в Монреале (1987), которая привела к запрету производства некоторых аэрозолей в целях защиты озонового слоя. Это была проблема глобального масштаба, и требовалось принять контрмеры. Она касалась почти исключительно индустриальных государств, и отказ от производства вредных аэрозолей дался им не так трудно. Переговоры продвигались в основном через инициативы отдельных государств, иногда США, иногда Германии. Глобальный уровень также требует национальных участников! (См. примеч. 63.)
Европейский союз, основанный в 1957 году как экономическое сообщество, получил полномочия в сфере экологии только в 1987 году. Сама по себе эта организация намного более дееспособна, чем ООН. Центральная и Западная Европа в культурном и экономическом отношении имеют много общего, в экологическом сознании также происходит сближение. Поскольку экологическая политика – это не в последнюю очередь вопрос промышленных стандартов, ключ к ней лежит в выравнивании европейских норм. Однако в политике экологически чистого производства ЕС отстает. Германия, в 1983 году введя в действие постановление, регулирующее работу крупных отопительных установок (Grofeuerungsanlagenverordnung), вырвалась вперед в снижении выбросов диоксида серы, но как страна автомобилей и автомобилестроения ведет себя менее образцово в отношении оксидов азота. Как минимум на вербальном уровне между странами – членами Европейского союза периодически происходит настоящее соревнование, кто лучше сохраняет окружающую среду. Вспыхивают и межнациональные распри, которые трудно погасить путем переговоров, поскольку в этом случае сталкиваются друг с другом различные экологические философии, каждая из которых имеет свою логику с точки зрения конкретного государства. Англия на своем продуваемом западными ветрами острове предпочитает такую эмиссионную политику, которая включает в себя контроль качества воздуха, но не лимитирует выбросы. Континентальная Европа с ее промышленными агломерациями имеет в этом случае иную точку зрения. Зато в сравнении с жителями континента британцы более болезненно воспринимают ущерб, который аграрная политика ЕС наносит орнитофауне. Общественное мнение на европейском уровне работает не слишком успешно, так что главный импульс к собственным экополитическим инициативам в Брюсселе отсутствует. В переговорах по озоновому слою Европейский союз как единое целое активной роли не играл. В 1990-е годы, приняв Директиву по охране естественных мест обитания дикой фауны и флоры[231], ЕС вышел вперед в охране природы, правда, это не решило проблему повышения популярности природоохранного движения. Защитники Средиземного моря, работавшие над организацией морского национального парка «Северные Спорады» и согласовывавшие его с местными рыбаками, воспринимали природоохранную политику Европейского союза с ее игнорированием интересов местных жителей как фактор беспокойства и даже «манию величия» (см. примеч. 64). Серьезную роль в этом недовольстве сыграло то, что в ходе европеизации экологическое право стало окончательно необозримым, а охрана природы – делом, доступным исключительно экспертному сообществу. Возможно, еще важнее всеобщий рост мобильности, обусловленный появлением и расширением ЕС, ведь транспорт возглавляет сегодня список экологических «вредителей». Вместе с тем образцовая экологическая политика таких стран, как Дания и Нидерланды, показывает преимущества стран с небольшой территорией, где консенсус в практических вопросах достигается относительно легко, а проблемы сравнительно конкретны. Это еще раз доказывает, что не умно без особой нужды отбирать у дееспособных национальных государств полномочия в экологических вопросах для перевода их на более высокий уровень. Австралийский эколог Тимоти Ф. Флэнери полагает, что страны с растущим экологическим сознанием не склонны к объединению, а, напротив, предпочитают скорее расходиться, и в этом есть внутренняя логика. Если так, то интернационализация экологической политики не имеет смысла (см. примеч. 65).
Фундаментальный вопрос о том, на каком уровне должна осуществляться экологическая политика, не только обсуждается рационально (если это вообще происходит), но задействует сильные эмоции. Связаны они не только с понятием национального государства, но и с процессом размывания границ. Чувству, что современному экологу необходимо думать в первую очередь глобально, дали сильный импульс полеты в космос и аэрофотосъемка. Родился образ «Земли как космического корабля», цельного и уязвимого, который требует единого управления и вынуждает обитателей Земли к солидарности. «Мы странствуем вместе, пассажиры маленького космического корабля, – произнес в 1965 году, за несколько дней до своей кончины, постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон, – только забота, тольо труд сохранит его от уничтожения и, я бы сказал, та любовь, которую мы дарим нашему хрупкому судну». Метафора космического корабля вскоре обрела популярность. Парадокс первого полета в космос состоял в том, что он разрушил свою собственную магию и донес до сознания людей, насколько Вселенная пустынна и безжизненна. Как пишет немецкий публицист и социолог Вольфганг Закс, «подлинным откровением открытия космоса стало новое открытие Земли». Если в 1950-е годы многие еще верили в марсиан, верили, что человечество сможет переселиться на другие планеты, когда Земля окажется перенаселенной, то теперь стала ясна вся безрассудность подобных фантазий – люди поняли, что Земля у них только одна. Произошел в некотором смысле «антикоперниканский» переворот: Земля, которая со времен Коперника считалась всего лишь одной из множества планет, вновь обрела уникальность, вновь стала единственной во Вселенной. Люди увидели ее из Космоса – маленькую, одинокую и хрупкую, покрытую атмосферой, по словам немецкого космонавта Ульриха Вальтера, как «тончайшим слоем инея» (см. примеч. 66).
С тех пор глобальный взгляд кажется знаком экологического озарения. Безусловно, свою роль сыграли и рациональные знания. Исследования озонового слоя дали NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) идеальный шанс выступить в роли экологического пионера и предать забвению свою связь с прежними планами космических войн. NASA позиционировало себя, по словам Лавлока, «принцем», освободившим Землю от участи Золушки. Спутниковые снимки предоставили подробные как никогда картины состояния тропических лесов, процессов дезертификации. Правда, некоторые специалисты считают, что космические снимки послужили началом эры заблуждений, когда дезертификацию стали принимать за единый всемирный феномен (см. примеч. 67). Навязанное этим представление, что с дезертификацией нужно бороться на самом высоком уровне, через реализацию глобальных проектов, абсолютно нереалистично.
Эмоциональной основой восприятия природы сегодня служит в первую очередь туризм. Путешествия ради путешествий – сначала скорее к центрам культуры, чем к природе – вошли в моду в обеспеченных слоях общества уже в XVIII веке. В истории современного массового и дальнего туризма, напротив, есть собственный «синдром 50-х». Резкий взлет произошел прежде всего с развитием чартерного туризма в конце 1950-х. Он особенно заметен среди немцев, вынужденных долгое время подавлять свою тягу к странствиям. Кажется, именно в ФРГ люди больше всего склонны видеть в путешествиях главный смысл своего существования. В сравнении с традиционными познавательными путешествиями в туризме стало доминировать стремление к природе – пусть даже в виде купания и солнечных ванн. Если туризм во всем мире уже несколько десятилетий является сектором экономики с максимальным ростом, то внутри него самого максимальный рост демонстрирует экологический туризм, тяга к буйной, благодатной природе, идет ли речь о Каринтии или Индонезии (см. примеч. 68).
В истории чувства природы, идеалов природы, а также разочарований, связанных с ее обезображиванием, роль путешествий несказанно велика (см. примеч. 69). Наряду с тревогой о здоровье они, вероятно, являются наименее признанным источником сегодняшнего «экологического сознания». Для массы людей с путешествиями связан не только эмоциональный опыт, но и опыт познания окружающей среды – пусть даже поверхностного. Цветение водорослей и отмирание коралловых рифов обостряют чувствительность курортников к загрязнению и повышению температуры мирового океана. Путеводители и туристические проспекты с их псевдорайскими яркими картинками самым назойливым образом обрушивают на клиентов потоки экологической информации по всему миру и беспрестанно ищут новые культурные и природные аттракционы, от оросительных каналов Мадейры до мангровых болот Малайзии. Но в своих постоянных попытках заколдовать знакомый мир они неизбежно спотыкаются о реальность, не вписывающуюся в создаваемую картинку.