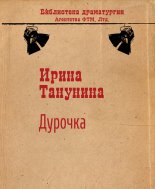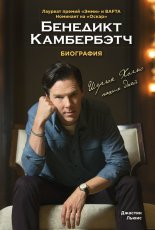Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
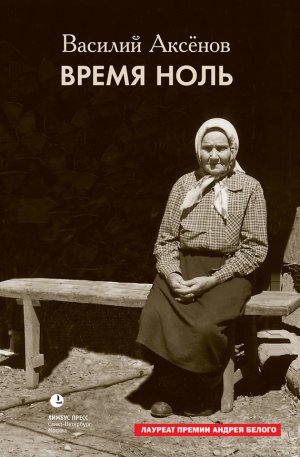
«Когда спит», – подумал я, но не сказал.
Вышли мы за ворота. Стоим. Тётя Аня лицом к солнцу, я – от.
«Ну, я пошёл».
«Ну, с Богом, милый… Ты уж пиши ей… раз хоть в месяц».
Держит меня за руки – прощается; в глаза глядит мне – молится: зрачки через меня – к небу.
«Конечно».
«Господи, храни и наставляй».
«Привет Наташе и Володе… Жаль, не застал».
«Летом уж, будем живы, приезжай… Как снег сойдёт, так все глаза там проглядит – так тебя ждёт-то».
«Конечно».
Земля в ноги вцепилась – не отпускает: она – магнит, а я – чугунный. Но пересилил – человек.
Повернулся. Пошёл. Как за слюдой глаза – под пеленою – солнце их атакует, вот и спрятались, – до рези. Иду. Чувствую – будто проваливаюсь во что-то зыбкое и рыхлое, как погружаюсь, – и ухватиться вроде не за что, только за воздух – и тот как будто разредился – почти бесплотный: чаще приходится вдыхать. Но – шаг за шагом – утверждаюсь. И передумать успеваю – одновременно всё, как Юлий Цезарь, – пока к машине продвигаюсь, – давно уж думанное-передуманное, и тут вот повод:
«Ох, как горько-то, как горько… Почему так получилось?» – Задаю этот вопрос, но ответа на него не получаю. – «И не с кем-то там, а с нами». – И опять так – рассуждаю-то – словно записываю; конспективно, после как будто разверну: – Родилась она, тётя моя родная, Анна Дмитриевна, красивая, помню, женщина, теперь красивая старуха, в год начала русской смуты, всепопирающего мятежа, за месяц до октябрьского уголовного переворота, в – том же, естественно, где мама, – глухом таёжном волостном селе Большая Белая, или Вельске, бывшем остроге, поставленном от набегавших с Тюлькиной землицы на первые русские прикемские поселения злобных нехристей, кыргызов, – за тысячи вёрст от взболтанной революцией столицы. Времена не выбирают, – будто записал я это, скоренько подумал и продолжил: – Но, предоставь такую вдруг возможность, предложи ей, тёте Ане, поменять и место и время своего рождения, она, уверен я, не согласится. «Когда бы мы ни родились, и где, а искушения сносить придётся. За всё благодари Бога, Господа твоего, – как-то сказала она мне, когда мне было это напрочь неприемлемо и непонятно, мало того, и неприятно, казалось это мне тогда обычной человеческой серостью и жалкой, деревенской, забитостью (я же уж был тогда продвинутый: читал вовсю Хемингуэя; битлов, кримов и роллингов слушал; ну, лет шестнадцать-то тогда мне уже стукнуло), – и за хорошее, и за плохое, за всякую нечаянную радость и посланную тебе скорбь. Без креста к Христу не ходят. Это в другую сторону – как с горки; туда – один, оттуда – тысяча». Только потом уже, много позже, станет для меня предметным и очевидным, что это – писал, писал, остановился – шага четыре до машины, – задумался, двоечник, после подсмотрел будто в чужую тетрадку, к Ивану Александровичу Ильину, отличнику, и дописал, списал, вернее: «не пассивная слабость, не тупая покорность, а напряжённая активность духа». Ну вот. А когда отца её, тятеньку, раскулачили-расказачили и со всем его семейством отправили с обозом – и я как будто (до ущему сердца) был в обозе этом – из Сибири в Сибирь, было ей, значит, лет двенадцать, а когда в том же составе выслали их уже за Полярный круг Игарку строить – тринадцать. После войны, за фронтовые заслуги братьев и отцов, Москву отстоявших, разрешили великодушно желающим вернуться на родину. Никто из наших не остался там – в Игарке: земля и наша вроде, но не родина. Вернулась тётя Аня. Вышла вскоре замуж за Плисовского Владимира Степановича, бывшего фронтовика, а в ту пору молодого председателя маленького колхоза, родила впоследствии шестерых детей – трёх мальчиков и трёх девочек. Сыновья её, мои двоюродные братья, Виктор, Василий и Иван умрут один за одним, но в зрелом уже возрасте – от разного. Пережила и это тётя Аня. Как? Не знаю. Можно догадаться. Но не видел, чтобы плакала, – тайком-то. Дочери же, сёстры мои, все, слава Богу, живы, берегут, как могут, свою мать, хвала и честь им. Одна, Наталья, живёт с ней, Галя и Валя – поблизости. Владимир Степанович председательствовал, а тётя Аня воспитывала детей. На работу её, как врага народа и как богомолку, не принимали. В сорок восьмом году, через три года после окончания войны, с пятью детьми на руках, выслали её в Хабаровский край за тунеядство. Мужу её было предложено остаться – вот изуверство, так уж изуверство – изобретательны на это бесы. Но Владимир Степанович жену и детей не бросил, а, отказавшись от председательства, поехал за семьёй. В пятьдесят шестом году, после смерти главного Мучителя, отбыв на чужбине назначенный срок, они возвратились домой, но обосновались уже не в деревне, а в городе – в Елисейске.
Машина, дверь – до ручки только дотянуться. А я – дописываю будто, и будто так – не успеваю:
Из православной семьи – казаки-крестьяне, русские из русских, – с матерью, Анастасией Амвросиевной, и с бабушкой, баушкой Марфой, в детстве и в церковь православную ходила, Христорождественскую, – стала вдруг тётя Аня пятидесятницей. Не в один день, конечно. И не только что. А там ещё, в ссылке, в Игарке, или после уже, на хабаровском лесоповале, – сама она не рассказывала, а я не распрашивал, не лез ей в душу. И не встретился тёте Ане, к великому моему сожалению, в её мытарствах свой Стрельцов Пётр Андреевич, отец Арсений, старец, иеромонах, заключённый номер 18 376, воспитанник оптинских старцев отца Анатолия и отца Нектария, чтобы утвердить её в прежней, родовой-то, вере, а попался ей на жизненном пути какой-то агент злополучного мистера Парэма.
Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», – не верьте…
Без крестного знамения, без предстояния перед иконой. Без апостольской благодатной преемственности, без силы святых таинств. Без дорогих для сердца русского Святых. Без благообразного православного батюшки.
И так печально представлять мне и дописывать, что будто села она, моя родная тётя Аня, отделившись от матери своей и баушки Марфы, моей прабабушки, и от меня в какой-то степени, в ладью и поплыла совсем по другой, неведомой нам, речке, не сливающейся с Пельшмой, Учмой, Выгой, Чуругой, Обнорой, Елдой, Сянжемой, Андогой, Коряжемой, Ковдой, Куштой, Авнегой, Пешношой, Пёсьей Деньгой, не проплывая под горой Сторожей, возле городов Саров, Свияжск, около Соловецкого, Красного и Анзерского островов, по Радонежским и Комельским дремучим лесам, через Троице-Сергиеву Лавру и Оптину Пустынь. Так уж печально.
Но: признаёт ведь тётя Аня Пресвятую Троицу, наличие в человеке первородного греха, божество Спасителя и Его искупительную жертву, любит и Господа, и ближнего своего всей душою, всем разумением своим и всею крепостью – уверен, да и вижу, – носит тяготы других и терпелива к скорбям – знаю, – а тем закон Христов и исполняет, так что не зря ли я печалюсь? Разве у Господа-то меньше милосердия, чем у меня? Если и власы уж изочтены. Утешусь этим.
Подумал так, тут же подумал и обратное. Никак в этом не определюсь, беда-то.
Сел я в машину, оглядываюсь на дом, который только что покинул, вижу – в воротах тётя Аня – глядит на нас из-под ладони – старенькая, мамы младше только на два года; прямая – не сгорбленная. Рукой нам: с Богом, дескать, с Богом. Крестным знамением не осеняет. Я её – мысленно.
Дверцу захлопнул.
Я – на заднем сиденье. Сижу. Молчу. Дима – на переднем, но пассажирском. Спрашивает, ко мне не оборачиваясь:
– Всё?
– Всё, – говорю.
– Попроведовал?
– Проведал.
– Ну всё, так всё… Уец, поехали.
За рулём племянник Димы – Женька. Лет восемнадцати. Ещё и не служивший. Смирный. Послушный. «А куда денется, – говорит про него Дима. – Зарплата – от меня: зависит, как щенок от мамки».
Поехали.
Не оборачиваюсь.
Смотрю вперёд – между двумя затылками – племянника и дяди; мой – тот опять как будто приотстал; догонит, может.
Молчим.
Спрашиваю после:
– А почему Уец?.. Уец, уец… ни от кого не слышал, только от тебя. Что за уец?
– Надькин сын, сестры. Племянник, – говорит Дима. – Бабушка Фиста так всё говорила. – Уец – племянник. Сам не знаю, по-каковски?.. Взял вот… Я – поддал-то – дальше не могу: те, милюковские, гаишники ещё не куплены мной с потрохами, – смеётся.
– Понятно, – говорю.
– Понятно… На выезде магазинчик будет… винный, продуктовый, – говорит Дима Женьке. – Притормози там.
Едем.
С двух сторон в глазах теперь мушки – похожие – как сёстры; слева и справа ничего теперь не вижу из-за них – так заслонили… Перед собой только – как из танка.
И на него, на город, я не обернулся.
Но цицероновское вспомнил:
«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает моё сердце и моё чувство…»
Как ни длился, вспоминаю, этот день, будто растягивал его кто, как экспандер, вижу теперь, всё же закончился – для меня в этом году, дай Бог не в жизни, на моей тихой родине, в бывшей Макутской волости, последний, к сожалению: только что солнце закатилось, упало в Самоедию – если смотреть отсюда, где стоим мы, – под Ялань, косым, но выверенным Творцом всякого движения падением, озолотив вокруг Ялани венец обеззвученного предвечерием густого ельника, обагрив угоры и поляны, богоозарив – в честь неизбывного престола – стены обезглавленной и осквернённой когда-то неустанными строителями обезбоженного ими мира церкви Сретенья Господня, запалив и оплавляя под самым куполом небесным свечи поднимающегося из огородов дыма от собранной в кучи и сгорающей там и там картофельной ботвы, бархатно вычернив глазницы брошенных, полуразвалившихся домов и плеснув будто, как живой водой, на прощание в подслеповатые глаза ещё жилых клюквенным морсом… и тому, новому, большому, что на взлобке: хоромине… Долго теперь, мол, не увидимся, до встречи. Нависший охраняюще с востока над Яланью Камень, с остывающею на нём за день накипевшей пеной лиственниц и сосен, как раз сейчас, в эти минуты, на фоне чистого, аквамаринового неба, принял малиновый окрас, скоро угаснет, потускнеет, позже, поднимая и раскручивая над собой, если всё в мороке не скроется, бессчётно-звёздный полог, скромно погрузится во тьму, сольётся с ней: день на нём длиннее, чем в Ялани, – и встречает солнце раньше, и прощается с ним позже – Камень. Ночь в село через него вползает – неизменно, вот уже без малого четыре века, с самой первой, проведённой там, на пустоплесье, приплывшими на стругах по Кеми или пришедшими водораздельным волоком от предыдущим летом лишь поставленного Маковского острожка казаками-первопроходцами – может быть, и бессонно: опасались местных, сидящих по ручьям и речкам, воркотно и прозрачно втекающим поблизости в Кемь, и правящих о лещадки самородные и без того острющие ножи намацких остяков или заворовавших и забредших в воровстве из-за Ислени злых тонгусов. Себя меж ними, казаками, в стане представляю – не представляется: Ялань, какая она есть теперь – состарившаяся, разорённая, мешает, ещё ж и… мушки… и сам-то я ещё: маленько… Сердце встревожил только – ульем загудело. Но не кирпич – уймётся, успокоится – на то оно и сердце.
На перроне мы. Не одни. Малолюдно – хоть и не как в лесу, но – как в Ялани. Группами – как для игры какой-то будто разделились – так мне кажется. Все говорят – как шепчутся – будто таятся. Это от предвечерия – так, думаю – людей оно смущает. И только мы – ко всеобщему сведению – ничего ни от кого не скрываем. Нам и скрывать, конечно, нечего – простые, как войлок. Я и Дима. Женька – тот в рот воды будто набрал – безмолвный, как его дядя выражается: рядом со старшими не вякает – похвально.
Уже и поезд подогнался. Сам по себе будто – по виду-то его – такое впечатление. Попыхтел, полязгал, погудел распорядительно. Туда-сюда, с пути на путь, вдоль молчаливых, солидных товарняков, порожних и гружённых лесом, круглым, покатался, маневрируя. И замер – около вокзала. Как ребёнок – играл, играл – да и сморился. Вскоре и объявили: номер такой, маршрут такой и через столько, дескать, отправление. Далеко, пожалуй, слышно. Лысый, с пшеничными усами, машинист, или помощник машиниста, разбери их, в высокое окно кабины, как из ходиков кукушка, высунулся, облокотился по-хозяйски – народ разглядывает, кого везти ему и тех, кто провожает тех, кого ему везти, – любознательный; не курит. Закоптелый, как печная вьюшка, локомотив, старенькие, но чистенькие почему-то – вагон общий, вагон плацкартный, ничем один от другого не отличающиеся, ни снутри и ни снаружи, только ценою на билеты, и купейный – весь и поезд. С горки, в дороге-то, разгонится – и сам не свой от радости, развеселится – так кажется, в горку едва-едва уже взберётся, хоть, озаботишься, выскакивай да помогай ему, подталкивай. Стоит у каждого столба, бурундуков и зайцев пропускает, с каждой коровой разговаривает – такая про него молва сложилась. Но свой он тут, незаменимый. Поголосуй среди тайги – он, несомненно, остановится. Так от деревни до деревни – на юг, в землицу Тюлькину – десять часов – не спать-то если, изведёшься.
Стою. Думаю: как бы нуждающимся всем помочь, не за большим, хотя бы моим близким, не знаю уж и чем, в тяжкий для них момент побыть бы с каждым, поговорить, послушать, поприсутствовать… стакан воды подать, и то бы дело? – ни средств, ни времени – жизнь так сложилась – суета. Заела – так, точнее и не скажешь, – как вошь тифозная. Везде сразу, мыслью лишь разве, не окажешься. А жаль. Стою. Сокрушаюсь – что не исполнимо. Со всех сторон – как обложило – и не вырваться. Потом: гордыня – думаю – она, изворотливая. Молиться только. Если и волос с головы… Но так непросто: ведь человек, известно, звучит гордо – погни тут шею, поклонись, высокоумый, – трудно. И вспомнил: «…живёшь не так и не там, как и где бы хотелось, а где и как приводит непостижимый Промысл Божий», – Святитель наш, Епископ Кавказский, Игнатий Брянчанинов к сестре своей родной Елизавете так в своё время написал – и сохранилось. Прочитал когда-то это я, давно, теперь вот вспомнил. Память у меня такая – сама по себе живёт, особенно тогда, когда маленько я, – вовсе уж как чужая, мне не подвластная.
И Дима с Женькой – те стоят. Рядом. Рослые. Только один в комплекции, другой – тощий: каши мало в детстве ел – про второго первый говорит так. Тоже о чём-то, поди, думают. Они-то, ладно, никого пока из своих, немощных, горевать в одиночестве надолго не оставили. В иных тревогах.
Собака, бомжиха, пожилая, с вислыми ушами и хвостом, с беспристрастным, как у судьи, взглядом, с сиреневыми проплешинами по спине, серой, как у волка, поношенной, рубашки, привстав на задние лапы, с головой в урну с мусором сунулась, пакет полиэтиленовый оттуда извлекла и подалась с ним в зубах, как со щенком, от нас подальше, но неспешно; повалилась в траву под акацией, пакет меж лап под мордой положила, но пока его не трогает – то ли кого-то поджидает, с кем ей надо будет честно – по любви, по иерархии ли – поделиться, то ли просто с удовольствием в пакет забраться не торопится – толк в своей бродячей жизни знает.
– Погода завтра начнёт портиться, – говорит Дима. Без интонации – как об обыденном, о безразличном будто – по-крестьянски. Смотрел он только что сквозь клуб выпущенного им из себя табачного дыма на пылающий горизонт, пристально и с грустью, после просеменил глазами весело по мне, теперь уже по сторонам блуждает ими. – Похоже, завтра и испортится. Как пить дать, – говорит. И говорит: – Девки вон с тобой поедут. Хорошенькие. Всё, что положено, при них. Фигуристые. Как рюмки. Одна из них – как контрабас – дак та особенно… с мешком зелёным – с рюкзачишком…
– Тлеешь в похотях прелестных.
– Ну уж. Я – по-отцовски… Штанишки нравятся на них – смешные… Как пионерки. Может, пионервожатым к себе возьмут?
– Напросись.
– Да и мордахи, глянь-ка, милые. Сколько их, долгоногих, развелось – вроде и радует, и беспокоит… В наше время таких не было. Или в башке у нас опилки были, а через них кого увидишь… Ещё одежда много значит… Кольца в пупах – привязывать кого-то… или – к кому-то?.. И чем их кормят? От молока да картошки такими не бывают… Куда едут, зачем едут? Оставались бы… Женька ещё вон не женатый…
– Ага, о Женьке озаботился.
– О ком ещё… Поедешь, к ним не приставай, а то… я знаю.
– По себе, – говорю, – не суди.
– А ты другой, ты марсиянин?.. Эх, до Исленьска, что ли, прокатиться?.. – Сигарету докурил Дима, окурок метко в урну бросил, другую достал, не вынимая из кармана пачки, помял её, сигарету, в пальцах, от спички прикуривает – ветра нет – не заслоняет. Коробок спичечный в руке всё время держит – чтобы, хлопая по всем карманам, не искать его каждый раз долго. – С уборочной… дожди направятся – прибьют, снег ли повалит… не успею. А-а… Не до жиру, быть бы живу. Верно?.. Есть листвяжок на Подъяланке – продам – от покупателей пока отобою нет… И сосняжок на Богоданном. Пусть вырубают – нарастёт…
– Осинник, – говорю.
– Ну, чё, сначала и осинник – всегда так… Людей-то надо чем-то выручить – живут без денег… Я про колхозников своих, – говорит Дима. – Застрелят они меня… или утопят… И никто не узнает, где могилка моя… Точно – испортится погода.
– Похоже, – говорю, глядя как завороженный в окна с фирменными, раздвинутыми на края занавесками будто объятого изнутри пламенем вспыхнувшего там вдруг пожара, а снаружи окутываемого быстро наступающими нежными сумерками моего вагона с открытыми, прибранными купейными клетками, в одной из которых как-то придётся нынче ночевать мне. И думаю, вспомнив почему-то, Царство Небесное, про Диминого сына: «Вот – как название – “Предтеча"… Кто раньше в вечность переступит, и как от этого зависим мы, часа своего не знающие, но пока ещё здесь пребыващие неисповедимо – в изменчивом и временном… У Димы – сын, в четырнадцать годков, а у меня – отец, в полных восемьдесят пять… Прах их, того и другого, давно уже покрыт землёю… И между нами, живыми и мёртвыми, смерть – непроходимый ров, перегородка или пустота – преодолеть которую способна лишь молитва… Бывает так – как будто слышишь». Это думаю, а через сердце, словно разрывная пуля, прорвалось вдруг: Спиду к сыну моему сетуя во ад – и опять, откуда и какой снайпер пулю эту выпустил в меня, не понимаю. «Вот ведь, – подумал я. – Вокруг, вовне и ничего такого вроде – подозрительного».
– Да чё похоже-то, испортится, – говорит Дима. – Стопроцентно. Обещаю. И на небо не заглядывай, мой метеоцентр – мои суставы, всё сообщили уж – не ошибаются. Ты нет, конечно, – птица перелётная, а мы-то с Женькой тут увидим, ещё и сутки не пройдут, может, уже сегодня ночью – в тёплые края на зиму не отлетаем… Турецкий берег нам не нужен.
– Да не особенно и тёплые…
– Могу поспорить, после проставишься, когда назад приедешь… что изменится…
– Не буду спорить.
– На ящик водки. Проиграешь. Дождь-то, ладно, пусть немножко и помочит, давно не было, если на месяц не зарядит… не подопрёшь… снег бы сразу не посыпал – очумеешь. Такое зарево, и к бабке не ходи, – не на тепло и не на вёдро… Вроде на севере уж выпал. Где-то, в Игарке, или выше… Краем уха чё-то слышал, то ли по радио, то ли – откуда… Табак трещит – курю – примета верная – тоже никогда ещё пока не обманывала: на что кивнула, к тому и готовься, – не государственные синоптики – зря только деньги получают… Мне посулили – сводку дали на всю осень: сухо чуть не до Покрова – хорошо бы, если так. Никак не верю. Оно – и явно – высушит, так думаю, и скоро… Уж разойдутся, так уж разойдутся… В Питер хорошую от нас увозишь. А та ничё… как контрабас-то.
– Туда попробуй привези – своя не пустит.
– Сырость?
– Да широта-то та же самая.
– Раз на костях да на болоте… Со школьной парты ещё помню. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь… Федю, историка, помнишь?
– Помню.
– Поэмы нам свои читал всё. Вам, поди, тоже… Служил-то где он?.. Про Корею… Вот уж где чудик, так уж чудик. Как заведёт – на полурока: Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу-бу – складно… А нам хорошо: не спрашивает – и ладно. Тихонечко и в карты можно было перекинуться… на папиросы. Думал, он – русский, он – татарин. Фарид. А то всё – Фёдор Николаевич. Или – Фарух?.. Узнал, когда его в могилу посадили… Тут, в Милюково, на татарском… Муса Джалиль. И как ты там, Олег, живёшь? Не представляю, – отправил Дима в небо табачный дым, смотрит на меня весело и продолжает: – Я один раз на юг, в Сочи, съездил – никуда больше не тянет, мне заплати ещё, я не поеду. У нас тут вон… оно – и дома… Опять на Таху не схожу, не попаду – занепогодит… А ни послать ли Женьку нам за водкой?.. Уец, давай-ка, ноги молодые… Время есть ещё, успеем. На дорожку надо выпить.
– Не успеем… Мы уже пили, – говорю.
– Ну, тоже вспомнил! – говорит Дима. – Когда это было… И на какую пили-то – на ту ещё дорожку… Мы ж добрались – благополучно. Теперь на эту… Тебе и нам ещё тут ехать…
– И на дорожку пили и в дорожке.
Уец стоит около. Помалкивает иронично, щурится чему-то – как хитрый. За рулём: трезвый – поэтому. Но кажется, что – пьяный, кажется так: пьянее даже нас.
Оба рыжие – и дядя, и племянник – не по природе – от заката. Так-то – русые – как пакля. И зрачки у них – в охре – заря осыпала, опудрила, что распылалась над Яланью. Свои зрачки – чувствую – как два гвоздя: затылок ими пробую приколотить… то разгулялся.
Тоска, тоска – такая: Господи!.. Силюсь, силюсь – как Андрей Юродивый… Не получается. Конечно. Кто Андрей и кто я.
Неслышно, как к глухим, подступил к нам почти вплотную бич – так приближаются, чтобы обнять или зарезать. Ниоткуда будто появился. Как мистер Уинстон и его пёс Казак – бомжиха-то, материализовавшаяся тут, на перроне, около нас прежде своего хозяина, – с хроно-синкластического инфундибулума. С запрокинутой, как у нюхающего ветер зверя, вверх ноздрями пипкой носа и с провалившейся навсегда в череп переносицей на битом-перебитом, мятом-перемятом, не жёваном только, но светлом и спокойном, как выдыхающаяся водка в поминальном стакане, лице. В парусиновой бейсболке с розовым целлулоидным козырьком, надвинутым на затылок. Под бейсболкой кудри – как у Александра Блока, поэта-декадента. Костюм – как от Армани, модельера. Без галстука – стильно. Под пиджаком зелёная, как национальный флаг Ливии, футболка. В растоптанных, заляпанных оранжевой краской зимних полусапогах с расстёгнутыми до упора, сломанными скорей всего, молниями. Без носков. Пахнет – как цветок. Резко – как щёлочь. Чем-то ещё – неузнаваемо. Сунулся мистер Уинстон в ту же урну, которую только что обшарила его собака, как опытный шпион за секретным контейнером – будто обыденно, несуетливо, ничего там подходящего для себя, наверное, не обнаружил, но на лице его ни тени огорчения от неудачи – как в бесконечности – и не убавилось, и не прибавилось. Выпрямился. Поджарый – как русская псовая борзая. Смотрит – мимо и небрито – куда-то – аж завидно. Сложил грязные, заскорузлые, с ярко-синими, как у негра, ногтями, пальцы викторией, маячит, как немой, Диме: закурить, дескать, не будет? – а нас с Женькой вниманием не удостаивает – мы для него не существуем будто. Угостил его Дима сигаретой. Заложил космический бродяга сигарету себе за ухо – под пегие блоковские локоны. Показал после бровями на стоящую рядом с урной пивную бутылку – можно, мол.
– Бери, бери… санитар, – говорит ему великодушно Дима. – Тут, поискать-то, их полно, наверное… ещё в траве вон.
Подобрал бич бутылку, остававшееся в ней на дне пиво, вывалив язык на подбородок, выплеснул себе в свободный от зубов рот и, словно свежее яйцо, устроил бережно посудину в кошёлку, пипкой носа протыкая, а ноздрями сипло втягивая в глубину свою сопротивляющийся вяло тёплый ещё воздух, побрёл прочь, как-то сразу ссутулившись и обвиснув, но громко шаркая теперь обуткой по асфальту – чуть-чуть, кажется, та с ног его не сваливается, хлябает – как-то удерживает – наловчился, – пересидеть где-нибудь какое-то время до обратной материализации в каком-нибудь другом пункте Вселенной? – а почему бы нет, вполне возможно; и мне бы так – и тут, и там-то… без поездов, без самолётов. Стою, завидую. Завидушшый.
– А что, в общий или хотя бы в плацкартный не было билетов? – спрашиваю у Димы, проводив взглядом поникшего и сгорбленного – от непривычной для него здесь, на земле, быть может, гравитации – мистера Уинстона за угол какого-то давно, похоже, до Перестройки ещё, начатого, но так и не достроенного белокирпичного сооружения: я в машине, помню, оставался, за билетом ходил Дима.
– А в купе, чё, гордый, не доедешь?.. Так же, – говорит Дима. – В одну сторону, по тем же рельсам… Шестьсот-весёлый – одинаково, другой тут не ходит, этот только – наш. Часто курсировал на нём когда-то – еженедельно, ещё на праздники, почти на каждый – было же время. Сейчас меня заставишь разве… Хотя, убавить бы забот… Живот и тут не помешает.
– Деньги…
– Отдашь, когда разбогатеешь. Наври сначала про меня, но – положительно – условие, строчи после хоть про бабушку, хоть про дедушку всех русских революций и переворотов, хоть про Ивана-царевича и Серого волка, книжку подпишешь мне – и мы в расчёте… Подружка в Гачинске жила, вот это де-евка, ты бы посмотрел, тебе бы я не показал, теперь под Минском где-то – за границей. Было на что в упор и издали уставиться – как на пожар – не оторвёшься… Куча детей уже, наверное… Мечтала. Так ли молола языком – они на это мастерицы: и чем уж только, лишь бы заженить, сладкоголосые, не завлекут – сирены… Уши развесил, простодырый, воском их сразу не заткнул, тут тебе вскоре Скилла и Харибда… А мне тогда – какие дети! – сам понимаешь: секс важнее был, чем дети, секс здесь и сейчас, – говорит Дима, – а дети – там, как ангелы, в необозримом. Это теперь: дети – как долг, а секс – как обязательство… Забудь про деньги.
– Нет у нас секса, – говорю.
– Нет. Согласен, – говорит Дима. – Как и ангелов – не видел. Мы обязательства не любим, у нас хоть плохонькая, но любовь, или из ненависти – тоже… Секс – это спорт – для олимпийцев – те пусть потеют… Правда, и сексу-то у нас с ней было – год к ней, пока в армию не забрали, ездил, а снять с себя мне разрешила только тапочки – всё остальное, дескать, после свадьбы. А служил когда, всем ребятам сны снились нормальные, если не врали, а я всё тапочки во сне снимал с подружки – на этом дело и кончалось – какая служба… Подъём крикнут, слетишь с койки, как очумелый, одеваешься, а снятый тапочек в руке – мешает… пока совсем уж не проснёшься. Так, с этим тапочком, и дембельнулся. Танька меня уже лишила девственности, так в оборот взяла – не пикнул… За лётчика выскочила, – говорит Дима. И уточняет: – За военного. Она – подружка. Танька – за меня. У них там полк стоял… Стоит, наверное, куда он делся, если китайцам самолёты не продали… вместе со взлётной полосой. Пока я честно барабанил срочную. Оно и правильно: кто лётчик, и кто я: тот – полетал по небу, полетал орлом, приземлился и – до следующего полёта сидит рядом, в глазки тебе, любимой и единственной, из-под пропеллера на фуражке заглядывает, в ушко про штопор, бочку и про мёртвую петлю нашёптывает жарко, за ручку, как за штурвал, держит… одной рукой, другой – бомбит грамотно точечными ударами по эрогенным зонам, а я где – Ди-има, Ди-има?! – нету Димы, далеко Дима – на Чукотке, чумазый, мучаясь по ночам с твоими тапочками, готовясь с ними стать отцом-героем, в автобате лямку тянет, дальние рубежи Родины укрепляет, – смеётся Дима, умело отбиваясь от заката золотым зубом. И продолжает: – В пятницу – к ней, туда, а к понедельнику – обратно, в поезде только отсыпался… в общем вагоне, правда, до купейного не добирался – казалось дорого…
– Ну вот…
– Ну вот… Баран – избегался – обычно, а я – баушка Фиста так и говорила: паринь, сувсем изъездился, ни рожи, мол, ни кожи – как бытто колышек обглоданный. Дело известное. Ох, ёлки-палки. До сих пор, как вспомню, так будто спирту неразведённого поллитру залпом выпью… Вот уж где жэншино-то было… И тут, и тут – миниатюрная, но это… Что-то почтовый-то не подцепили?
– Дорого, – говорю. – Купе. Пересидеть мне где, какая разница, в каком… и в общем можно. Ночь-то – не сутки.
– Писем не пишешь матери, и нечего возить вон… Я говорю: почтового не вижу… На этом не выгадаешь, – говорит Дима. – В постель завалишься… Пересидеть… Тебе и разница. По-путнему хоть отдохнёшь. Там же готово всё – постелено. Нет, сказали. Есть, конечно. Им дорогие продать надо – для мамы, мама – государство, сами-то – чё они имеют с этого?.. Не знаю… Билеты левые, фальшивые? – так это вряд ли – теперь же всё через компьютер… На контрабасе поиграешь… В одном купе окажетесь вдруг – может… Она такая – для отдельного… С тобой мне, что ли, прокатиться?
Смотрю я на Диму, думаю, он, как и я, маленько… больше ли? А – как огурчик. Я же – маленько… и маленько.
– По старой борозде, – говорит Дима. Сказал, достал после сигарету. Курит.
– Скоро от курева зелёным станешь.
– Зелёным – ладно – Таньке спокойней будет на меня глядеть… Врачи в зелёных же халатах.
Пришагал вразвалочку к урне – всех к ней, единственной на перроне, всю местную фауну, на мёд будто, притягивает – голубь, сизарь – грудь на заре его переливается пунцово-фиолетово, идёт, налево и направо франтом поворачивается, как кавалер перед дамами раскланивается, и всё поклёвывает что-то, от каждого нашего движения крыльями резко взмахивает, но не взлетает – кушать хочется.
И воробей, упав с неба камнем, присоседился к голубю, тоже поклёвывает что-то – и тоже, видно, опасается – глазом-дробиной скорострельно изучает нас.
– Мунгалову, Андрюхе, позвони. А то забудешь, – говорю. – Предупреди. Кто меня встретит?
– Милиция, – говорит Дима. – Тьпу-тьпу-тьпу, не приведи Господи… Чур нас от них, а их от нас, не к ночи будь упомянуты… Да не забуду, ты не бойся, я из ума ещё не выжил… Смотри, а небо-то какое… Как на Канарах.
– Я не боюсь.
– А ты куда-то глядя на ночь… Добрые люди по ночам, Олег Николаевич, не шляются. Сейчас нашли бы куда съездить. Водитель есть – и увезёт, и привезёт – доставит в целости-сохранности… Я на Канарах, правда, не бывал. А ты?.. Ты всё в Ялань… И как ты там живёшь – без бабы?.. Целое лето… С ума сойти, тут только тапочком не обойдёшься… Вряд ли уже когда и побываю. Но небо-то везде, наверное, одно и то же. Чё нам Канары, у нас на пасеке не хуже. А то поехали?.. Ты не заботься, – говорит Дима. – Не переживай. Тебя проводим, к Ляпину заеду… Директор молокозавода… Номенклатура высшей пробы – такого пуза ты не видел – топор об него можно поправлять… Здесь по пути. А от него и позвоню… Мне за сметану много задолжал он. Денег у красного директора, а по совместительству буржуя, море, а за рубль бабушку родную порешить может. Держит ротвеллера – того вот любит. И ест с ним с одной миски. В постель к себе только не кладёт – ещё откусит… Я, правда, свечку не держал…
– По городскому не найдёшь, – говорю, – звони на сотовый.
– Как скажешь, – говорит Дима. И говорит: – Да не забуду, не забуду. Андрюха – сволочь предпоследняя – ещё найди его попробуй, но постараюсь.
– Да уж найди, – говорю. – Постарайся. Поезд мой с Исленьска ровно через двое суток. Ждать столько на вокзале – усохнешь.
– К Нинке пойдёшь, перекантуешься… Размочит.
– Лучше уж на вокзале.
– Дело твоё. А я бы – к Нинке… И коньячку тяпну у Ляпина – не удавится… Только сначала дозвонюсь… А ты не хочешь?
– Не хочу.
– А я бы тяпнул, – говорит Дима. – Подружку с Гачинска вспомнил, и, как мальчишка, растревожился. Ещё и спирту попрошу. Неразведённого… Времени сколько?.. А?!. Ох, ё-моё, а где часы-то?!. – Уставился Дима с изумлением на голое своё запястье, со светлой поперечной полосой на загаре – ей, полоске этой, будто удивился. Перевёл взгляд на меня – и я его не меньше будто поразил – часы-то я украл как будто. И говорит: – Смотрел же только что, ведь были!.. Он – бич! – зараза, скоммуниздил!.. Тёрся, тёрся, вот… умелец! Сигарету-то когда ему протягивал… И ты проверь свои карманы… Уец… А-а, у тебя ни денег, ни часов – ещё счастливый… Ох, паразит!.. Каких уж вроде где ни навидался, а тут, стою, как ротозей, не понял, – говорит Дима. Смеётся. – Продаст ведь, сволочь… за бутылку – прогадает, если за две ещё, то – ладно… Во, марсиянин. И ему, инопланетному, выпить хочется, хоть и без печени уже, без почек – по роже видно, по прямой, как через шланг, протекает… Как нам теперь без времени-то с Женькой?
Полез я в карман, в один, в другой сунулся – и успокоился: всё на месте – паспорт, ключи, водительское удостоверение, книжка телефонная, билет на поезд, ну и деньги – и мои, и те, что тётя Аня мне дала в дорогу.
– Не спёр?
– Не спёр.
– Ну, слава Богу… Да к вам-то он не приближался. Это со мной – маленько не обнялся. Хотя такой и за два метра выудит – настроил цапки, а с виду – попа вроде круглая… Скажу Ляпину – всех тут на уши поставит, всю местную шелупень вздыбит, перевернёт всё Милюково… вот уж не город-не деревня… Отыщут… Пока предание свежо… Ох, ты! Орехи-то забыли! – говорит Дима. – Сбегай, Женька, принеси… Красный мешок полиэтиленовый, там, на полу, у заднего сиденья… слева. А не отыщутся, шут с ними – уже давно их собирался поменять… теперь, наверное, и поменяю… На три минуты в сутки отставали… И не заметил, как… Ловкач. Ладно, чё злюсь, пусть пользуется – хоть на бутылку заработал – день для него прошёл не зря.
Ушёл Женька. Вернулся с орехами.
– Принёс? – спрашивает у племянника Дима.
Молчит Женька.
– Принёс, – отвечаю за него я.
– Вот, – говорит Женька, кивая на мешок.
– Вижу, – говорит Дима.
Уложил я мешок в свой рюкзак – поместился.
– Ну, – говорит Дима. – Пора, наверное, тебе залазить. Уец, рюкзак… Пойдём, проводим.
– Да сам я, – говорю.
– Ещё наносишься, успеешь, – говорит Дима.
Подхватил Женька рюкзак. Пошли мы. Тут, рядом.
Подступили.
– Добрый вечер.
– Добрый вечер.
– Ты, – говорит Дима проводнице, разглядывающей подробно мои паспорт и билет на поезд, после меня – ещё внимательней – как стосковалась, – его, поедете, не обижай, это мой друг, – говорит Дима. – Наш… из Ялани. Нос, видишь, русский – не кавказец… А мы зайдём, посмотрим, как устроится, и выйдем… Ага, красавица?
– Тока недолго. И не подумайте там распивать, – говорит красавица. Серьёзная. Лет тридцати. Красивая, на самом деле. Глаза – закат, в тени стоим, их не хватает – ясно-голубые, без ржавинки. И униформа ей к лицу. Волосы рыжие – от хны, густые – под беретом – едва тот их сдерживает.
– Вот распивать-то, жалко, нечего… Не будем, – уверяет её Дима.
– Пошевелитесь там, – говорит проводница.
– Успеем, – говорит Дима. – А не успеем, с тобой до Гачинска прокатимся.
– Ага!
– Или его проводим до Исленьска.
– Тогда я вызову милицию.
– Не надо.
Дима смеётся, проводница улыбается.
Поднялись мы по очереди в тамбур. Прошли гуськом по проходу – Дима первым, я последним, – нашли моё купе. Открыта дверь. Втроём втесняемся – пошевельнуться негде.
Сидит в купе, за столиком, мужик. Руки на столе, пальцами в замок стиснуты. С бородой. Нос крупный, кирпичом будто натёрт – это, уж точно, от заката. Ничего больше в мужике не замечаю – не до него мне пока – мельком лишь по нему глазами пробежался.
– Во, попутчик, – говорит Дима. И говорит попутчику: – Здорово.
– Здрасте, – отвечает тот.
– А девка тут не заходила? – спрашивает Дима.
– Не видел, – отвечает попутчик.
– Значит, не заходила, раз не видел, ту бы заметил… Рюкзак под лавку положи, – велит Дима Женьке. Поднял Женька полку с аккуратно застеленной на ней постелью, устроил на бок рюкзак в ящик, опустил полку на место.
– Постель поправь.
– Она не сбилась.
– Вижу… Время есть ещё, пойдём, – говорит мне Дима, животом подталкивая Женьку. – Ведь говорил – за водкой сбегать надо было.
Вышли мы в обратной последовательности из вагона. Стоим на платформе. Прощаемся. Обнялись раз, другой раз обнялись. Крепко.
Небо светлое ещё, но на земле уже смеркается – мягко-мягко обволакивает.
Луна в небе. Подточенная. Кто-то из неё как будто шпонку начал делать. Стареет. Не тот, кто делает, – луна.
Вороны из тополя, совсем ещё зелёного, без желтизны, выпрыснули – как будто кто-то их оттуда жменей вышвырнул, поорали, погалдели, в небе ошметьем чёрным поболтались беспорядочно и опять в листву, как блохи в шерсть собаке, втиснулись – снова не видно их, не слышно – и о чём там только думают?
– К тётке Елене я заеду, отчитаюсь, – говорит Дима, натирая ухо мне своей щетиной – за день, успела, отросла, как у абрека, благо, светлая, не видно. – Буду заглядывать – Ялань-то проезжаю. Не унывай… Сегодня – нет уже – назад, домой, скорей всего, поеду поздно, ночью – кое-какое дельце тут наклюнулось… не смейся… а завтра утром – обязательно… в город мне надо будет… совещание.
– Хорошо бы, – говорю.
– Пообещал ей мешок комбикорму, – говорит Дима. – Тогда ещё, на той неделе. Вот прямо завтра же и завезу. Нечем корову, жаловалась, подкормить… Раньше лафа была, теперь проблема с этим… Но в девяносто лет… Олег… не знаю…
– Ладно, – говорю. – Завези. А деньги?..
– Какие деньги?!
– За комбикорм.
– Да перестань… Жаль, – говорит Дима. – Будет не хватать. Сильно. Когда и мимо еду, без заезда, знаю – тут ты – как-то спокойно… Полсердца будто отрывается… Ну. Возвращайся. Будем ждать.
– Ладно.
– Ладно… Деньги отдашь, когда разбогатеешь.
Объявили отправление – далеко разнеслось.
Опять из тополя вороны выпорхнули – как будто выдавил их кто-то – сок так из стиснутого фрукта вылетает – брызгами, сок необычный только – чёрный. Прочь теперь сразу улетели, около не болтались. Расселись вразнобой по полувагонам, гружённым лесом – лиственницей и сосной. Помалкивают – как мишени. Смотреть будут, как поезд мой поедет, – расписание знают. И я про них догадываюсь: ушлые – не просто так там притихли – что-то затеяли.
– Всё, – говорит проводница. – Хватит вам уже прош-шац-ца. Счас будет трогац-ца.
Обнялись мы с Димой. С Женькой попрощались за руку. Ещё раз с Димой обнялись.
– Да вы ишшо мне, мужики, тут расцалуйтесь, – говорит, посмеиваясь, проводница. Говор – чалдонский. Взгляд – лукавый.
– А чё, возьмём и расцелуемся… Можно с тобой, – говорит ей, отстранившись от меня, Дима. – Нас уговаривать не надо долго.
– Ага, – отвечает ему проводница. – Стою, об этом тока думаю.
– И я тоже, – говорит ей Дима.
– Ага. Конечно. Обойдётесь.
– Ну, всё, – говорю.
– Давай, – говорит Дима. – Счастливого пути. До будущего лета. Возвращайся. Ждать – и мы, и Таха – будем… Соберёмся всё же, может, сходим?
– Сходим, сходим… Бог даст, сходим.
– Ну, давай, – говорит Дима. – И не грусти там.
– Куда денусь, – говорю, – стану.
Поднялся в тамбур, зашёл в вагон. Никого в коридоре. В большинстве купе двери настежь – без пассажиров. Тихо. Красная ковёр-дорожка. С рыжими поперечными на ней полосами – от заката – там, где двери-то открыты. Свет не включён – только от улицы – и того пока хватает.
Тронулся поезд – плавно, без дёрганья. Разгоняется надсадно.
Смотрю в окно на Диму и на Женьку, они с перрона – на меня, душа моя съёживается, сжимается – как поролон – тот-то бесчувственный, душе вот – больно. Скрылись из виду дядя и уец.
«Бог даст, до встречи, дорогие».
А так уж хочется, чтоб дал-то.
Постоял я в коридоре. Посмотрел в окно – тоскливо – острое у неё жало, у тоски – аседия – глубоко проникает.
Зашёл в купе. Сел на свою постель. Сижу.
Заря ещё вовсю пылает – над Яланью.
Мужик молчит. Борода у него русая, неухоженная. Словно дичка – как растёт, так и растёт. Заступом. Расчесал бы, мельком думаю. И думаю, его забота, я-то так, лишь отмечаю, пусть хоть в валенок скатается, веником-голиком ли торчит – он ей хозяин. Лицо продолговатое. Возраста моего мужик. Так, в бороде-то, лишь примерно угадаешь, а на самом деле сколько – непонятно. Но не старик – определённо. В самом прыску, сказал бы мой отец.
Смотрим – в окно оба; я – назад, откуда уезжаю, он туда – по ходу поезда.
Сидим – незнакомые – попутчики.
Позади осталось Милюково. Червяком обполз его состав наш. Протяжённое – вдоль Ислени – на многие километры. Ощетинившееся всевозможными подъёмными кранами, безразлично оттеснившими людей и их жильё от всё ещё живописного берега. Флагман Российской лесной промышленности. Миновали по задворкам, захламлённым флагманскими отходами – горами горбылей, обрезков и опилок, кое-где незатухаемо, изо дня в день, из года в год, зимой и летом, дымящимися, пуще торфяников. Тайга пошла – одно название, тайга – давно уже вырубленная, в войну ещё – на нужды оборонки, на гробы, остатки – жалкая. Там и там торчат по горизонту высокие, облитые зарёй, словно глазурью, лесины, – как-то топор с пилой не добрались до них за это время, – несменно родину мою осматривают, пока не высохнут, не упадут ли; а я – за них душой цепляюсь малодушно – оторви меня небольно, Господи, до времени, после – смогу когда – приблизь.
– До Гачинска? – спрашивает мужик. Голос у него сиплый – простуженный, наверное; кричал ли перед этим на кого-то долго; острым перцем сжёг ли горло? Бывает. Водку с уксусом когда ли перепутал? Мать ли у него, как и моя, глухая?
– До Исленьска, – отвечаю.
– А-а… А я до Гачинска. Мне ближе.
– Ближе.
– Чуть не вполовину.
Сидим. Молчим. После:
– Да как раз что вполовину… Сам-то отсюда, с Милюково? Вроде, по взгляду-то, не местный.
– Нет. С Ялани.
– Там живёшь?.. Или оттуда родом?
– Родом.
– Знаю. Бывал в Ялани… в Маковск ездил… Собаку, лайку, покупал… у старовера.
В купе темнеет.
Небо гаснет – в последний раз будто. Изумрудное. Только по горизонту – полоса оранжевая – вянет.
– Красивая деревня, – говорит мужик.