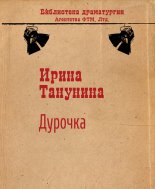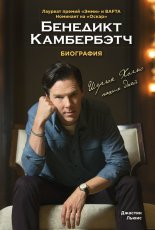Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
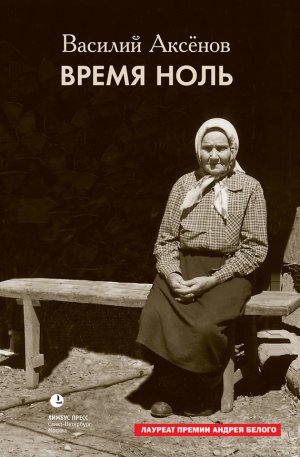
Луна.
Светит.
Бывают вечера такие – лунные.
И этот.
Чтобы заметить в ней ущерб, надо быть зорким, как бинокль. Или – подзорная труба. Будто в руках её, луну, сняв с небосклона, кто-то повертел и с краю пальцем чуть примял нечаянно, неосторожно – даже не выкусил, не выел. Метеоритом, мало ли, чуть чиркнуло. Нож начинают так затачивать – легко касаясь.
Крадутся мимо неё – хоть и чёрные, но – полупрозрачные, как капроновые колготки, тучки. С золотыми окаёмками – как от неё, луны, будто испачкались – будто осыпало их кромки.
Редко из них какая её скроет. И ненадолго. Может, и нет в этом случайности, а – уговор такой у них – возможно. Если и скроет, то угадать её тогда за тучкой всё же просто. Проглядывает. Словно девица сквозь кисейную фату. Есть в ней, на самом деле, что-то от девицы. Если подумать, можно догадаться. Или – от Девы.
Плывут они, тучки, откуда-то куда-то, будто пустые лодки в океане, – куда их ветром надоумит. Ко всему они, путницы, или беспутницы, кажется, безразличные, даже друг к дружке.
Чуть ли не ко всему – одно есть исключение:
Только не к бьющемуся в груди, как загнанный в клетку свободолюбивый зверь, сердцу Ивана Сергеевича – в таком смятении оно сейчас. И всё сильней колотится, чем ближе встреча. И так всегда – никак с ним, с сердцем, самочинным, не управиться – уж и не юноша неопытный, а муж бывалый.
Осведомлены – так ощущается, глядя на них, на эти тучки, – хотя бы к этому неравнодушны.
Или – уведомлены кем-то.
– Здесь вырубки, – говорит Иван Сергеевич. – В городах – застройки бесконтрольные, в старых районах, исторических. Как называется там?.. Новострой. Кому-то прибыль. Но там и тут – лишают людей памяти. Кому-то выгодно, наверное, и это. Только кому вот, непонятно?.. Была Красавица – отсюда видно вон, над Вязминым ручьём… На горизонте. Теперь туда хоть не ходи… Место осталось вроде, но уж не Красавица. И само место не узнаешь. Был там недавно – растерялся. Как дядя Миша вон, хоть плачь аж. Чуть и на самом деле нюни не пустил – печаль такая одолела. Встань из могил сейчас покойные яланцы, что бы сказали? Туг же от горя умерли бы снова. Хотя бы дед мой – был охотником. К примеру. Вроде не сам всё это натворил, а стыдно. Ну, хорошо, что Елисейск пока не трогают, – безденежный – не оправдаются в нём небоскрёбы. И тут: нет худа без добра. Гремел когда-то. Нынче – нищий… Всё в этом мире так изменчиво. Нет постоянства. Ни вверху, ни внизу. Ни спереди, ни сзади. А в человеке – и особенно. Всю жизнь – как разный.
Сам с собой разговаривает Иван Сергеевич – от времени отвлекается – как бы ему хотелось, то не поторопится.
– Как кто-то где-то говорил: «Путь вверх и вниз один и тот же». Верно. То есть вся Вечность – это перемены. А постоянное в ней – лишь несовершенство. И зло оно же. Наука даже – та устаревает. Подумать страшно.
Спустился под гору. Прошёл Песочницей – тропинка так называется. И по ней весь листвяг, какой был, лет десять уже назад, вырубили – тут-то совсем уже в деревне, – не постеснялись.
Вышел на яр.
Кемь далеко внизу, на шивере луну разбило на осколки, раздробило – те золотятся, никуда не уплывая, хоть и – стремнина; в плёсе вода – как будто неподвижна. В нём, в плёсе, небо ясно отражается; и звёзды редкие в нём даже не дрожат – так безмятежно оно, плёсо; круги пошли – сплеснулась тихо…
– Рыба… Или бобёр с луной играет… Вот и круги – расширились, и скоро их не будет… Никто не вспомнит.
На другом, противоположном, берегу, коса песчаная, искрясь, белеет. Темнеет на ней одиноко, возле самой воды, перевёрнутый вверх дном, обласок, чёрный от старости, долблёнка по-ялански; лежит на обласке, поперёк него, как стрелка-указатель, двухлопастное деревянное весло; высохло – не блестит. Кто-то на Камне, может быть, бруснику собирает, с ночёвкой, видимо, остался там – так поступают. То и – охотник за ондатрами. Капканы ставит или проверяет – в старице. Может и так: бобра в ней караулит – тех расплодилось чересчур, и те теперь как наказание: деревья валят, как промышленники, хоть и без пил, без топоров. Кого-кого, но рыбаков-то допекают они крепко – рыбу отпугивают, пусть и не едят.
Над Кемью Камень возвышается – сосновым гребнем в небо врезался. Вчесался. Освещены луной его бока. Как декорации – софитом. Манит, к себе влечёт – летишь туда душой щемящей, часто она бывает там, иной раз в теле. Можно сейчас и сосны разглядеть, отдельно каждую. Даже отсюда. Как-то до них ещё не добрались – стоят. Какая – прямо наверху, какая – косо на откосе. Но доберутся, ненасытные. Есть на то краны и лебёдки – всё, что способствует наживе, употребят, применят, лихоимцы, вплоть до «Сибирского цирюльника». Как новобранца, Камень остригут. Как каторжанина ли. Пока в красе, не жалкий он, не оскорблённый. Но за него и наперёд уже переживаешь.
А может – больше за себя.
Глядишь вокруг – захватывает дух.
– Какой толк от всей этой красоты, – говорит Иван Сергеевич, – если на душе у меня дурно, если она, душа моя, страдает? Тогда бессмысленно всё это. Сколько сейчас… до половины?.. Что ж я часы-то не ношу…
Кедр. Огромный. В два обхвата. Вершиной в небе. Кто-то в нём зашумел – зашелестел, зацокал. Белка, наверное, проснулась.
Кто же гнездится там – в его вершине?
Ждёт-не дождётся он, Иван Сергеевич. До дрожи в теле.
– Как мальчишка.
Спустился к реке. Хрустя галькой, прошёл берегом до курьи. Отыскал в траве им же там спрятанную сухую и длинную палку. Дотянулся ею до сети, потряс её, сеть, чтобы от мусора очистить. Рыбы не видно в ней – пустая.
– Хоть бы одна… для подтверждения… А-а, ладно. Помыл руки. Отметил: тёплая вода. Набрал в ладони – всю выпил. Вкусная.
– Для Маньки даже не попалась.
Побыл ещё на берегу, послушал речку: с кем-то беседует она – с дном, может быть, своим, а может – с берегами. А то и – с небом. Скроется скоро подо льдом, под толщей снежной – и надолго. Лишь перекат – как-то увёртывается он от мороза, не может тот его сковать – всю зиму полый, насмехается.
– У каждой речки свой язык, свой говорок… своё наречие. И у Кеми вот – хоть и непонятный.
После:
На яр взобрался. Осмотрелся.
Припал плечом к кедру. Стоит. Сердце колотится, не унимаясь. И оттого ещё, что – запыхался: яр метров двадцать да крутой – взбеги-ка.
Опустился на выпирающий из земли толстым змеем корень кедра. Или – не змеем, а – драконом. Сидит на нём. Не может успокоиться.
Видит:
Идёт.
– Ну, наконец-то.
Поднялся резко и пошёл навстречу.
Обнял. Целует. Воздуху не хватает в волосах её – те были собранные на затылке – распустились.
– Ты что так долго, Катенька?.. Еле дождался.
– Как договаривались – в половине.
– Ну а пораньше-то?
– Да не могла… Чё-то Васюшка рассопливился.
– Что с ним?
– Не знаю. Может быть – надуло.
Бурая хвоя под ногами – мягко ступать по ней – ковром упругим накопился.
Подступили, не выпуская друг дружку из объятий, к кедру. Катя – спиной к стволу. Тугая. Крепкая. Сюда-то чуть ли не бежала – потом её так сладко пахнет из-под мышек; на лбу – испарина – нектар.
Обнимает её Иван Сергеевич. Целует. В губы – долго, до головокружения. После – и шею, и лицо. Будто сквозь землю он, Иван Сергеевич, проваливается – так ему радостно, так счастлив.
Пьянеет.
– Как я люблю тебя, родная.
– Ой, дёрнул волосы, мне больно.
– Прости, нечаянно. Пойдём на наше место.
– Нет, мне нельзя…
– Ну почему?
– Ещё и завтра…
– Почему?
– Ну почему – ну потому, – шепчет она, Катенька.
– Ну, по-че-му? – в самое ухо спрашивает он, Иван Сергеевич.
– Не знаешь будто, не догадываешься… И Стёпка, – говорит Катерина, увёртываясь от целующего её Ивана Сергеевича, – сегодня он не очень пьяный.
– Я же купил ему бутылку.
– Они с Флаконом её выпили. С утра ещё… Что им бутылка?
– Катенька, милая… ещё и завтра?
– Ваня, не надо.
– Только – грудь.
Отстранив почти золотые, как лунный бой на перекате, в серебряном лунном свете, словно в окладе, волосы Катерины, расстегнул Иван Сергеевич рубашку на её груди. Разомкнул лифчик.
Цедит лунный свет сквозь хвою кедра, обозначет смуглые соски. Вокруг сосков – будто гало. Как к непогоде.
Целует их Иван Сергеевич. Как младенец.
– Мне нравится, – шепчет он сбивчиво. – Мне очень нравится… Из них ещё сочится молоко.
Вздохнул при этом глубоко.
Опять целует.
– Только не так… так, Ваня, больно.
– Прости, прости. Я не хотел…
Мечется белка в кроне кедра – беспокоится: её тут дом, пока не вылиняла – после уйдёт, от человека дальше. Человек – сосед опасный.
– Мы и на том свете будем вместе? – и не спрашивает, а утверждает Иван Сергеевич. – Да, моя милая?
– Не знаю, – говорит Катерина.
– Да того света нет… только сегодня… Только – сейчас… Скоро зима, и часто видеться нам будет невозможно. Пошли…
– Нет, мне нельзя.
– Ну, Катенька.
– Я же сказала.
Луна светит. Ей в глаза. Ему – в затылок.
Утки где-то крякают.
Прокричал кто-то где-то:
«У-у-у».
Эхо сказало то же самое. Или – об одном и том же.
– Пойду, – говорит Катенька.
– Катенька, милая, ну как же можно… Теперь когда?
– Дождя не будет если – в воскресенье.
– До воскресенья не дожить мне.
– Пойду.
– Я провожу тебя.
– Не надо.
– Ну, на прощанье.
Крепко, крепко.
Не оторваться – как срослись.
– Пойду.
– Ещё чуть-чуть.
– Нет, всё, пора мне.
– Катя, во сколько – в воскресенье?
– Так же.
– А если дождь?
– Тогда – не знаю.
– Ты не своди меня с ума.
– Ну, ладно, Ваня.
– Ладно, милая.
Ушла. Не оглядываясь – как обычно. За кустами краснотала скрылась. Не проглядывает.
Ну хоть следы её целуй – так сразу в мире стало пусто.
– Горько.
Как это скоро всё кончается – молниеносно. Ждать новой встречи – словно век.
Всё тело помнит. Взгляд. И голос. Такого нет больше нигде на белом свете. И пальцы – мягкие – как воск.
Ещё про голос – из груди.
Ещё про волосы – красивые.
– Если дождя не будет – в воскресенье, – вслух повторяет. И опять:
– Если дождя не будет – в воскресенье.
И говорит:
– А как дождаться?
Упёрся лбом в кедр. Стоит. Он – Иван Сергеевич. На себя не походит. Обычно – не такой.
Повернулся.
Самолёт летит. На светлом небе чётко виден. Мигает красным огоньком – не сам же себе – кому-то. Для кого-то. А звук пока ещё не слышен. Тому, возможно, звуку и мигает – чтобы, отстав, не заблудился.
– Как в догоняжки.
Уже доносится.
– Как эхо… Или – как гром – раскатисто, издалека.
Лесина в старице упала, ухнув. И выстрел тут же прозвучал.
– Так оно всё… И смысл в этом?
Отстранился Иван Сергеевич от кедра резко. Пошёл.
Не торопится.
И сердце так уже не бьётся, поуспокоилось.
Переживает:
– И она, Катенька, скоро начнёт стареть – кошмар какой-то. Скоро и у неё на шее и лице появятся морщины. И грудь станет не такой упругой, и свою форму поменяет, станет такой – непривлекательной, как… Подумать страшно. Почему?.. И кожа… Кожа – гладкая… как… Губы… Не отрывался бы – всё целовал.
Веткой талины по щеке его стегнуло – не заметил.
– И даже запах… Но так люблю её я, так люблю.
Идёт.
– И к Нинке не было такого…
Будто на что-то обозлился – шагает твёрдо – как на смерть.
– И было ли, если сравнить?.. Как день и ночь. Как небо и земля…
Оступился на ямке. Не упал. Осмотрел, насколько можно, впереди дорогу – в тумане еле проступает та.
– И ни к какой другой…
Дальше идёт.
– И ни к Наташке – та просто первая была. Только вздыхал, ни разу к ней не прикоснулся… Долго жалел, теперь – и хорошо.
Попало что-то в сапог. Остановился. Вытряхнул. Пошёл.
Идёт.
Щека горит – рукой её потрогал.
– Бог, если Он есть, если Он всё это сотворил, – говорит Иван Сергеевич, – то суетливо это сделал. Сам не меняется, вечен, а наша плоть – как издевательство… Не суетливо, так – нарочно, Своей забавы Божьей ради. Какая мне польза от этой кратковременной силы и красоты, если я знаю, во что всё это скоро превратится? Свежий пример вон – дядя Вася… Свежий – пример. А дядя Вася?.. Сила и красота. Которой не было когда-то и скоро вовсе не останется. Моей и… чьей-то, дорогой мне. Чуть расцвела, и увядает. С чужой что будет – всё равно мне. Ну, если бы она такой до смерти сохранялась, тогда бы проще было жить… Ты мне, создав меня, не сделал этим чести! Ты – если Ты есть… Но это невозможно. Если б Ты был – всё было бы иначе. Если Ты есть – то нас не любишь. Нет, не осознан этот мир, не сотворён сознательно… случаен.
Кричит птица где-то.
На Камне.
Одинокая.
Боится кого-то. Чего-то.
Или так.
– А если сотворён он, этот мир, то или в спешке или – как насмешка. Был просто Взрыв первоначальный – всё от него.
Умолкла птица.
– Всё вспыхивает и гаснет, и мы вот… Но мы не искры же от дров. Значит, недобрый Кто-то сделал человека. Или, вернее, безразличный.
Морось – лицо свежит. Через туман – как продираешься.
– Эк-спе…
Поднявшись в гору, вышел из него.
– … ри-мен…
Идёт.
– … та-тор.
Не оглядывается. Не на туман, не на луну. Не на высокий горизонт. Не на то место, где была Красавица.
– Теперь Уродина.
Прошёл вдоль изгороди.
– Кто отомстит за это беззаконие? Кто обуздает?
Вышел на улицу.
– Власть и не думает пока. Не видно что-то, чтобы беспокоилась.
Фонари. Живые будто – от мошки.
– Рука, конечно, руку моет.
Возле дома Плетикова Василия Серафимовича – три машины, одна к одной, одного цвета, серые, и с одинаковым фирменным знаком на багажнике в виде немецкой буквы W.
– Три «дабл вэ». Как интересно.
Свет в окнах горит. На кухне. Но в доме тихо.
– Галька и Светка, с мужьями, приехали… Двойняшки. Живут в Исленьске. А их фамилии теперь?.. Не знаю. И их могу уже, увижу, не узнать… Время не красит. Им уж под сорок… как и мне. Как это всё несовершенно. Сердце сжимает от тоски. И что, Он благий?.. Всё враньё. И с лесом-то… не допустил бы.
Минуя лужи, обочиной, под дружный собачий лай, прошёл Иван Сергеевич Линьковский край.
– Меня возьми, я их, машины эти, перепутал бы.
Прошёл Забегаловкой. Мысленно повздорил с Есауловыми – и те его как будто поджидали: дерзкой оравой высыпали из своих домов, из виртуальных, – подался дальше победителем.
– Уж не осталось и кола. Вот это – правда.
Затем – пустырём.
Спустился и поднялся в лог.
Подходит к дому.
Как на каторгу.
И жить совсем уже не в радость.
– Мать её, тётя Клава, тёща, рано умерла. Что-то там с почками… И у неё больные почки… Нет, нет, нельзя так думать… И дети взрослые уже… И почему такие мысли лезут в голову?.. Нельзя так думать… Я ж не хочу, чтобы случилось это… Конечно – люди умирают… Нет, надо думать о другом… о чём-то.
Открыл ворота.
– Надо поленницу перетаскать в ограду… пока нет снега. Зимой так редко мы встречаемся… Ох, Катя, Катенька. Скоро и у тебя… И ты… И даже волосы твои поблекнут. Как называют все тебя?.. Гривастая. Катенька. Милая. Люблю.
Нет в окнах света. В одном луна лишь отражается – где спальня.
– И дядя Вася… Ну, там возраст…
Оглянулся. Первый раз за день. На луну.
Отвернулся.
Входит в дом.
Светло. И пол ещё сияет – изобразить луну не в состоянии, всё же пытаясь.
Видит Иван Сергеевич туфли жены. Стоят те возле порога – к поездке в город приготовлены. Пожалуй.
Лакированные – брезжут.
– Как раздражают, – шепчет под нос себе Иван Сергеевич, снимая сапоги. – Как раздражают-то они меня. И почему так?.. У них и форма-то… какая-то… как говноступы… И так нельзя… Но почему вот?.. Я не хочу так жить. Я не хочу так думать… Вот если б с Катенькой… И та начнёт стареть…
Чуть отодвинул их – как будто пахнут – туфли.
– А то поставила тут – не пройти… И губы у неё, – бормочет Иван Сергеевич, снимая куртку, – как у её отца, дяди Володи. Лицом в него. Вылитая. А телом – в мать, покойницу… Толстопятая. И толсто… всякая. Раньше – целуешь её в губы, и думаешь, что не её целуешь, а его… дядю Володю.
На кухне мышь – упала со стола.
– Противно. Правда, давно уже не целовал… Ну, хоть бы, хоть бы не проснулась. Если не спит… Да хоть бы уж спала.
Заходит в свою комнату-кабинет, бывшую детскую. Перед компьютером стоит. Но не включает.
Идёт на цыпочках в спальню.
Раздевается.
Ложится в постель – как в ледяную.