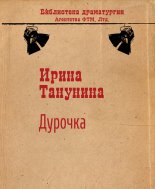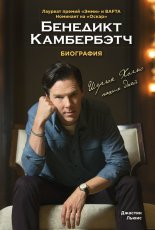Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
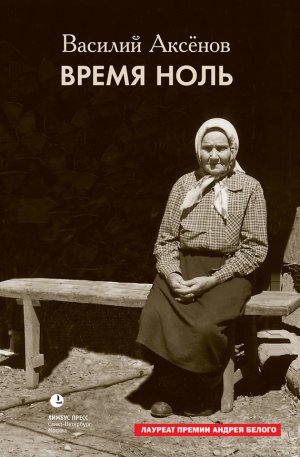
– Ну вот, и выяснишь.
– Нет, не хочу.
– А что ты хочешь?
– Уже знаешь.
– Ну и напрасно, алкоголик. То оттопырился бы нахаляву – за просто так, по старой дружбе. Нашли хороших бы, шершавеньких… А у моей Галины и подружки дорогой моей, последней и единственной, эти… проблемы… в одни дни… Так неудобно.
– Не говори, Андрюха, пакости, а то… что черемшой не пахнет тут, в машине, пожалеешь… Мне это знать совсем не хочется. Воротит. По телевизору прокладки надоели. Ещё и ты тут…
– Кержак. Истомин, – говорит Андрей. Хохочет. – Воздерженец. Ещё не пил бы, и вообще…
– Зубы об руль, смотри, не вышиби… жеребчик. Живчик.
– Это же жизнь…
– Бока надсадишь.
– Или ты этот – женоненавистник?.. И седина вон, вижу, пробивается, блестит на солнце…
– Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина.
– Ага, старик, уже украсился… Только навыворот: бес не в ребро тебе, как у нормальных мужиков, а в печень въелся… как солитёр… тьпу на тебя!.. Цирроз ещё не заработал? Сходи, проверься.
– А разве в печени?.. С чего бы это?
– А с Димой больше пообщайся, попей с ним всякого говна – денатурата, водки самопальной – чё вы там жрёте?.. Какая разница, Истомин! Главное – не в ребро, как полагается… Без секса жизни не бывает. Так, прозябание сплошное… А телевизор не смотри, зачем тебе он?.. Время тратить… Только футбол когда транслируют…
– Не увлекаюсь, – говорю. – В окно гляжу – там интереснее. В Ялани – вовсе.
– Ага. Коровы и быки – одно сплошное загляденье. Там уж, поди, и этих не осталось. Старики вымрут, – говорит, – и скотину держать будет некому. И самой Ялани скоро не будет – место распашут под картофель… под коноплю ли.
– Ты ж говорил – под лук… Не пьёт Дима денатурат – с чего ты взял? – пьёт медовуху – чаще, реже – водку…
– Смотри на девок, здоровее будешь.
– Какая есть, из заграницы не заказывает…
– Не на экране – на живых, как можно ближе, а не издали…
– Такие же, как ты, бизнесмены обновлённые и производят…
– И смотри, а не подглядывай, как психопатошный.
– И в магазины поставляют…
– Спрос если есть, и поставляют… Да, с тобой, Истомин, не соскучишься… Тут как-то, весной ещё, засел у Эльки – надо было отлежаться, то стресс за стрессом, как на фронте… Зима-то год – без витаминов истощился. А Галька номер Элькиного телефона назубок выучила – по моей записной книжке, как по бутику, погуляла, – говорит Андрей. И говорит: – Заскочить надо, фильтр поменять. Ну ладно, после, ты уж как уедешь… скорей бы сплавить уж тебя, – и продолжает: – Сижу, пялюсь в телевизор: концерт, не помню, или сериал – какая-то мутотень, как обычно. Звонок мне по мобильнику. Не отключил. Беру без всякого. Не думаю. Моя… А Элька в ванне плещется и благовонится. Разговариваю. Тут вот с клиентами, мол… разбираюсь, в офисе буду до утра. И телефон звонит, нормальный – железяка. Откуда знать… Кто-то приехал в город, что ли?
– Почему?
– Да поплавки… За каждым вон столбом. Гибэдэдэ… язык сломаешь.
– Я вот приехал.
– Ты – понятно… Так-то она всегда снимает, Элька. Тут я: алё-алё-туё-моё!.. Со мной по сотовому, секельдя, треплется, а сама по городскому номер набирает. Кто подсказал или сама допёрла – развела меня, как лоха… Так кое-как потом отлаялся. Деньги ей в зубы сунул, чтобы не кусалась… Вцепилась – не вырвать… К себе тебя не повезу. Там дочки, Злата с Виолеттой. Занимаются. Одна – на скрипке, младшая, другая, старшая, – на пианино… Пива там, точно, не попьёшь… Такие талантливые: играют – слёзы наворачиваются. Я, правда, редко там бываю – времени нет, в разъездах больше.
– Ясно.
– Нанял учителей им, двух, приходят на дом. Ясно. Да ничего тебе не ясно. Детей родишь когда, тогда и будет, может, ясно… Одному из них помог издать какую-то книжонку… ноты сплошные, ерунда, а он – взахлёб об этих закорючках – хлюпик. Зоб, как у этого… у голубя. Нищий такой же, как и ты. А ты: с пристрастием… Чумные. На правый берег тоже не поедем – там знакомая моя остановилась. Просто знакомая, Истомин!..
– Да дела нет мне до твоих знакомых.
– А чё скривился?
– Я о другом.
– Вспомнил про гадость ту, что вчера пили?.. Ну, пусть и выйдет эта книжечка, кто её купит, а, кому она нужна?.. Тут у меня, на левом, есть квартирка. Малогабаритная. Для Златы приобрёл. Для Виолетты есть, давно купил уж. На будущее. Они пока, мои, о ней не знают. Ни девчонки, ни Галина. Этим – рано, а той – вредно. Есть у неё подружка, у Галины, вместе они на юридическом учились… Всё нелады какие-то по жизни… да тут ещё… по женской чё-то части… Отдал квартирку ей на юге, в Краснодаре… Вот тоже… горе… женские-то части. А ты… Ефрем ещё какой-то… Филин. Я тебе – Данте… Алигьери…
– Выучил, – говорю.
– Ну, всё, приехали… Вот это книга.
«Ну, наконец, – сижу, в испарине холодной, думаю. – Ну, наконец-то».
Свернули с улицы, медленно, объезжая детские, пустые, скучные сейчас, без детей, площадки со сказочными избушками на курьих ножках, с жёлто-синими лесенками, качелями, песочницами и красно-мухоморными грибами, покрутились по двору и остановились в тени под дикой яблоней, усыпанной, как забрызганной, сплошь красными ранетками, напротив одного из подъездов многоэтажного белокирпичного дома.
Сидим в машине. Отвыкаем от скорости, от набегающей дороги и мелькающих обочин.
– Тут, – говорит Андрей.
– Слава Богу, – говорю я.
– На солнце всё… Глаза устали, – закрыл Андрей глаза и пальцами одной руки их помассировал. – Элитный дом. Заметил, – говорит, – въезд под шлагбаум… Ещё к глазному надо, выбрать время, съездить, тянуть с этим нельзя… То как песок порой в них будто. А ты не знаешь, отчего?
– Не знаю… Может быть, от блуда.
– Блуд!.. Для здоровья, а не блуд… Худо, скажи, кому от этого?
Подходит к машине женщина лет тридцати пяти-сорока – откуда появилась, я и не заметил, словно из воздуха сформировалась, – просто, но не бедно одетая и, судя по ровной, гладкой коже на лице, непьюшшая, в косынке чёрной, газовой, с искрой, повязанной, как у старушки, наклоняется к окну и говорит Андрею тихим, сдавленным голосом:
– Вы не дадите денег мне… немного?
Повернувшись к женщине и окинув её долгим изучающим взглядом, Андрей ей отвечает:
– Ходишь, попрошайничаешь. Ещё не старая. Не образина. Девки есть пострашнее тебя, а идут и зарабатывают, не ходят и не клянчат. Вон, на проспекте. К ним подошла бы – объяснят… Не на проспекте, место не уступят, ну на трассе, – сказал так и окно закрыл, ко мне обернулся. – Много вас тут… Так разлениться, представляешь! Проще им руку протянуть, чем на панели честно заработать.
Не захотелось мне при этом, чтобы женщина увидела моё лицо – склонился вниз – штанину будто поправляю.
Отошла женщина. Скрылась за углом дома – и за собой весь воздух будто утянула.
Не догнал я её, не дал ей денег. Душа в малодушии – как ноги в вязкой глине – трудно ей оттуда вырваться – черствеет. Только подумал: «Не для неё ли деньги тети Анины предназначались?»
– Дело тут у меня одно наклюнулось, Истомин, – говорит Андрей. – Не знаю, как и быть. Это по поводу того железа… Папка там, в бардачке… открой, достань-ка.
Достал я из бардачка коричневую кожаную папку с кодовым замочком, подал её Андрею.
– Нельзя в машине оставлять, – говорит Андрей. И говорит: – Мужик объявился, как с неба свалился, готов купить… довольно много. Оплата сразу. Наличкой. Из рук в руки. Но что-то мне в нём не понравилось. Сейчас поеду с ним на встречу… И не мужик, по виду-то… а полубаба-полухряк.
– Обманет, думаешь?
– Да нет, не то чтобы обманет… Нет, что обманет, и не думаю. Дело не в этом. Время не то уже, когда так, в наглую, все кто хотел кого, кидали… Было… Всё же немного устаканилось, – говорит Андрей. Взглянул на себя в зеркальце. Ощупал пальцами свой подбородок. – Побриться надо, – говорит. – А то, как этот… Дикобраз… Бритву оставил… где, не помню.
– У Эльки.
– Вряд ли.
– У знакомой, – говорю. И говорю: – Не устаканилось, а умогилилось.
– Хорошо тебе – не бриться… Пока опять всё не взболтнули… Умогилилось… Да, полегло ребят, немало. Как листьев осенью… Щетинка вон, – рукой ощупал подбородок. И говорит: – Ну, есть, конечно, отморозки-беспредельщики. Но у него на лбу же не написано… Вряд ли обманет – бизнесмен. Да и такой, к тому же, верующий… Крест золотой. С камушками. И не искусственными, не стекляшками, а природными. На половину туши, как на крышке гроба. Поверх рубахи его носит, не скрывает. И цепь – вот, в палец – золотая, – показал мне, вверх подняв его, свой палец. – Такой-то верующий – вряд ли… И я ж его потом, как простыню, катком разглажу – ляжет заплатой на асфальте… На ширину дороги хватит – боров толстый… А интуиция, ты знаешь… В глазах его мне чё-то не понравилось… То ли еврей, то ли татарин, может – и немец – если Мармер – у тех же ер всё на конце, как у нас – ов…
– Есть ин…
– Есть ин… Ага – Истомин… Ты не из них?.. Шучу… Глазки навыкат, бегают, на месте не торчат, чё там у него, у рыхлого, на уме, не угадаешь, но то, что хитрый, сразу видно: Анд-гюша, мой годной, Анд-гюша… Когда это я ему родным стал!.. Но он же крестится почти при каждом слове. Ты же не станешь просто так креститься… Не знаю… Не упадёт в цене железо, не прокиснет. Лежит – и пусть себе лежит… Может, где крутится, пронюхал чё про сбыт, про рынок? А я… пока там месяц на загрузке… и пропустил… Плохо без информации. Хуже, чем без рук. Скажи, Истомин, посоветуй? – просит.
– А я тем более не знаю, – говорю. – С рынками вашими никак не связан, слава Богу. И со сбытом. С базаром только, с барахолками, и то по мелочи – блесну купить, леску дешевле… Сам, – говорю, – решай. То насоветую, угробишь заодно с ним, с этим… бизнесменом… лягу тут где-нибудь, как мёртвый полицейский… к тебе на дачу по дороге. – И говорю: – Андрей, пойдём. По пиву умираю.
– Умрёшь – не первый – похороним… Ну, ничего, и мы не промах… А вдруг в Чечню, бандитам, хочет сплавить?.. Я не прощу же себе этого…
– Сплавишь-то выгодно, простишь.
– Правда, зачем оно в горах им, козлодоям?.. Перепродать?.. Так чё-то чёрных не люблю. Узнал их больше, так и вовсе.
– Расист… Ты на себя бы посмотрел.
– Я чуть раскосый, а не чёрный. Чёрный – не нация, а – сволочь… Не знаю, есть ли там у них нормальные? Здесь вот, у нас, среди наплывших, как говно, ни одного из них не видел путнего. Может, и есть – всех же их много.
– Путние тонут.
– В смысле?
– Не наплывают.
– Будет сейчас тебе, Истомин, пиво.
– У Димы пасека – он медовуху себе варит. Не сам, а пасечник…
– Ты надоел уж с этим Димой.
Выбрались мы из машины.
– Рюкзак, – говорю.
– А тебе в нём чё-то надо будет? – спрашивает Андрей, тыкая пультом в сторону машины.
– Нет, – говорю.
– И пусть тогда лежит в багажнике.
– А черемша?
– Чё черемша?
– Пропахнет-то…
– Ну а в квартире?..
Вошли в чистый, просторный подъезд, обвешанный по сияющим девственной белизной, не опороченной обычным творчеством не могущих молчать подростков, стенам всевозможными горшками и корзинами с разными, больше похожими на океанические водоросли, цветами – по стенам вьются и причудливо свисают – как будто в ботаническом саду.
Среди цветов – картина. В раме багетной, золочёной. Масло – не поскупился сибиряк художник – щедро, пастозно, положил. Холст. Метр на полтора – примерно так. Пейзаж. Местный: горы, Ислень, на ней баржа, гружённая лесом. Буксир. Моторные лодчонки – снуют вдоль и поперёк по водной глади. Впечатляет.
Я озираюсь даже – так диковинно, хотя и головой вертеть сейчас мне без особой надобности не хотелось бы – и догоняй потом глазами окружающее и возвращай его обратно – всё следом устремляется за головой, срываясь с места, словно по сигналу, как будто гончие за мимо пробежавшим зайцем, – можно, не справившись, и растянуться, – так, осторожно уж, без резких поворотов.
Поздоровался Андрей с вахтёршей, женщиной далеко ещё не пенсионного возраста, в самом прыску, крашеной-перекрашеной, будто испачкавшейся и выстиранной потом с хлоркой не один раз, блондинкой, в косматом ядовито-розовом, как чупа-чупс какой-нибудь, мохеровом свитере, в такой же, одной вязки явно, пышной, как взбитый крем, шляпке, с выщипанными жестоко и тщательно, как боровая дичь перед готовкой, бровями, с тяжёлыми, как саморезы, от косметической туши ресницами, хлопнет, как взрыв-пакет, такими рядом, и оглушит – страшно приблизиться, сунул в оконце ей какую-то конфету в яркой хрустящей целлофановой обёртке и получил в ответ улыбку златозубую:
– Андре-е-ей Петрович! Здрасте, здрасте. Давно вас не было, не посещали, – угодливо, через оконце грудью чуть не вырвалась – как пламя – чуть не опалила. – Уж не болели ли? Без вас тут скучно.
Ну, думаю.
– Дела, – говорит Андрей, слатостями только – разговорами не балует, похоже, – фасон держит.
Я, грешным делом, и не знал, что он Петрович, хоть и росли мы с ним, с Андреем, одногодки, вместе, на одной улице в Ялани, и учились в одном классе, пока в колонию он не попал перед десятым; всегда Андрюха и Андрюха; сам он себя при мне, не помню, чтобы величал когда-то полностью, а я стеснялся отчество его спросить; вот и узналось: Петрович, значит.
Поднялись мы на лифте на третий этаж. Из лифта вышли.
– Ну? – спрашивает.
– Отлично, – отвечаю.
– Плачу я ей… Приплачиваю то есть.
– Кому?
– Кому ещё… Консьержке.
– А с ней не спишь?
– Совсем рехнулся!.. Да жалко просто – баба незамужняя.
– Что незамужняя?
– Что без достатка.
– Мало таких… Годам к семидесяти на грудных потянет…
– А перед смертью – на зародышей!.. Думай, чё говоришь…
– Отвечу за базар?
– Ответишь… Не в Голландии, – говорит, – не чумные, и там чёрных уже – больше, чем в Африке… Картину видел?.. Я купил… Художник есть, знакомый Галькин… Помогаю… Вы же все нищие: пода-а-айте, Бога ради.
– Спонсор.
– Не спонсор – так, по-человечески… С начала августа уже сидит дома безвылазно – и без аванса согласился – портрет мой пишет.
– Не в мастерской?
– На мастерскую он ещё не заработал.
– Благодетеля, – говорю. – Пишет-то.
– По фотографии, – говорит. – Я там на десять лет моложе, правда…
– Ну ничего, для вечности без разницы.
– Аванс ему, мазилке убогому, дай, станет думать, как потратить деньги, а не про искусство, и козью морду нарисует… а не портрет. Похожий буду – не обижу… А то наляпают-намажут… Шеде-е-ервы, тонкая рабо-ота – смотреть тошно. Заказ нашёл ему. У арика. Для ресторана три картины. Не подведёт, надеюсь… То урою. Шею сверну ему, как зяблику. Не я, так арик – тот не спустит.
– Может, ты Мамонтов, а не Мунгалов…
– Все вы, завистники, такие.
– Или Морозов… Пива сначала дай народу, опохмели, насыть, потом и про искусство…
– Тебе давно лечиться надо… хроник.
– Ну, так и я тебе о том же.
– Без алкоголя жить уже не можешь… Дочкам на память пусть останется. Потом – и внукам.
– И Отечеству.
– Истомин, ладно… И Отечеству.
– Тогда уж Шилову бы и заказывал.
– И закажу. А это – пробно… Я, – говорит, – дело делаю, Истомин, Россию с колен поднимаю, а вы, бумагоизводители и холстомаратели, филологи-учёные, олухи и архиолухи, языками только зудите да под американский образ жизни подстилаетесь – окей да вау… Стоит, жвачку жуёт, вау да вау, как попугай, тростит, а по-русски, сучье вымя, и двух слов связать не может, только: на жизь подайте бедному интеллигенту… не ради брюха, мол, ради искусства.
– Ох, завернул… Интеллигенты многие устроились неплохо.
– Так бы по морде-то и въехал… Всех по своим местам рассадит время… кто чего стоит.
– Данта не зря с собой, похоже, возишь.
– Ой, ну не надо… Пиво, пиво.
– Не это – Элька?
– Кто?
– Вахтёрша.
– Ты чё, Истомин, обалдел?
Вступили в квартиру. Холостяцкая – сразу себя и обозначила – по обстановке и по запаху: густо мужской – хозяина, так надо полагать, хоть и нечасто тут, как говорит, оттягивается; чтобы отметиться, достаточно – и едва, но всё же выделяемо из общего, приходящих или приводимых сюда хозяином подружек – что-то ж от каждой остаётся – ароматная молекула, волос душистый ли с себя обронит, вовсе уж что-то еле-еле уловимое – от имени; чем-то чуть дышит и из нижней бездны, может быть – крайностями – похотью и негой.
Небольшая. Однокомнатная. Малогабаритная. Вся из прихожей и просматривается. Прямо – кухня, слева – комната, справа – удобства. В комнате – кресло, стол, кровать двуспальная, магнитофон кассетный, видеомагнитофон и телевизор с плоским экраном, форматом чуть ли не с окно, – какой-то, вижу из прихожей, THOMSON, так, на паркете прямо, и стоит – шкафчиком притворился – для меня будто: чтобы не приставал к нему, дремучий. Но он не шибко мне и нужен. Совсем не нужен. Обои тёмные, с цветами – распустившимися розами. На кухне – столик, табуретки, одного со столиком набора, холодильник белоснежный – от пола и почти до потолка – такой огромный; тут потолки-то, правда, низкие, но всё равно – могуч уж очень холодильник – я никогда таких не видел, меня в нём стоя можно заморозить. Дверей-то две! – а не одна. Вот провинюсь, и заморозит…
К нему вниманием я, к холодильнику. Как прилепился. Смотрю, и он ко мне, уже отчаявшемуся, зоркой зелёной, обнадёживающей лампочкой – обещает. Вроде и мелочь, но приятно – после страдания такого. Местный, наверное, исленьского происхождения. Земляк. Всего скорее, «Бирюса». Не то что THOMSON, галл надменный, не строит из себя лишнего, пустой сундук не изображает – стоит там, на кухне, один среди немой и бесчувственной мебели – то еле слышно заворчит, то умолкнет, сам с собой. Почти живой, так и – соскучился, поговорить ведь с кем-то надо же, – а тут и я к его услугам, и я к нему глазами кролика.
– Пива там нет, Истомин, зря не пялься, – говорит Андрей. – Уже и зенки засверкали… Не покупаю, не держу. Так только, – говорит, – для анализа, когда мочу нужно сдать, немного выпью. Какое было, всё использовал.
– С чего другого не годится? – спрашиваю.
– С другого долго ждать приходится, а время – деньги, – говорит. – А я – не ты – я не могу себе позволить…
– Анализы. Продукт переводить, – говорю. – Без удовольствия-то… Время дороже денег, так мне кажется.
– Когда кажется, тогда крестятся… Найдёшь там, чем опохмелиться… Коньяк армянский – это точно. Чё-то ещё, не помню, есть.
– Адрес бы уточнил.
– Какой?
– Да в холодильнике. Искать-то стану, заблужусь.
– А ты там долго не гуляй и глубоко не забирайся… На дверце, – говорит, – в нижней половине… Не нагружайся, как свинья… Пивом напрасно, кстати, увлекаешься, Истомин… Ты вспомни немцев – разнесло как…
– Немцы есть всякие, – говорю, – есть и худые. Как и везде, как и другие… Разве что чукчи… По тундре бегать – жир не накопишь… ну и едят они не гамбургеры, а сырую рыбу.
– И оленину.
– Оленину.
– Тощих фашистов я не видел… Как от водянки… Только Гитлер.
– А Геббельс, Йозеф?
– Пива с сосиками попей-ка столько.
– Расит, как ты же, и насильник… Тогда и чехи.
– Лопнуть только… Те же немцы… Все толстопузые, и твои чехи, всех их обабят скоро турки. Или обабили уже… раз демократы.
– Арабы, может?
– И арабы… Арабы – турки – те же чурки… Тапочки вот, любые выбирай, только не трогай эти – женские.
– Да почему?
– Не для медведей косолапых – на твою лапу не налезут… Да потому… Лучше уж стопку водки, но хорошей… Что те, что эти… онемечились.
– Ты про кого?
– Про твоих чехов. А те, кто пепси пьют, – американцы… Жуют всё время, как скоты.
– Сказал. Хорошую. Да где её возьмёшь?.. Я так, в носках… Ноги от обуви устали… Не увлекаюсь им особенно. – Снял куртку, впервые за сутки, повесил её в прихожей – обвисла сразу – как устала. Говорю: – Уже три месяца не пробовал, вот только с Димой… Да и – по баночке – всего-то.
– Нашёл, чё пить. В банках – особенно… сплошные химикаты. Печень не жалко?
– Опохмелиться – ради этого.
– Возьми ключи… Куда пойдёшь вдруг. Опохмеляться лучше всего водкой. Стопочку холодненькой тяпнул, но не больше. Пивом, – говорит, – дурную голову обманывать… Про Диму мне не поминай.
– Да не пойду я никуда, – говорю. – Бери их с собой… Откуда ты, Андрей, всё знаешь?.. И про водку.
– Знаю. Я, парень, десять лет по северам копейку заколачивал, когда ты джинсы протирал в студентах, лясы точил да девок соблазнял портвейном…
– Ещё служил до этого три года… Портвейном. Уж не портвейном, а вином. Ну, правда, было, и портвейном…
– Было… Ну, послужил – на всём готовом… А там, на Севере, с компота не согреешься… На полке, тут вот, их, смотри, оставлю, – и положил ключи на полку, прежде побрякав ими в воздухе. – Без них не выйди, дверь захлопнется… потом без слесаря не попадёшь, – говорит. И спрашивает: – Весь день дома, что ли, просидишь? И на улицу не выйдешь?.. Я ведь не скоро.
– Просижу, – говорю. – Есть если с чем. А что?.. Туда идти – мимо вахтёрши… Я их боюсь, робею под их взглядом, перед Медузой будто, цепенею. Это ж мне сколько выпить надо – много, чтобы загородиться, как щитом… Они страшнее для меня любого зверя. Ещё и тех, что в жилконторах, тех – пуще смерти… И нечем мне ей приплатить… И что я там, на улице, ещё не видел? – сказал так и запыхался – от нетерпения: ждёт меня там один, с зелёным, добродушным оком, тихо мурлыкает – не забываю. Андрей – здоровье бережёт и за рулём пока – тут лишний.
– Совсем в Ялани своей чокнулся… Истомин! Ты чем старее, тем чуднее. Тебе бы валенки сейчас, шапку-ушанку, драный полушубок, – говорит, – на грудь четушечку принять и на завалину – свежий пока яланский воздух портить.
– Возможно, – говорю. – И с радостью бы… А Гитлер пиво пил и ел сосиски – не растолстел. Только распутчился. Так что не надо клеветать на немцев… они такие – и арабов перемелят… и кому надо нос утрут. Или в Судетах, или в Гданьске. Они ещё на нас полезут… чтобы обабить… вожделеют.
– Да нет уж. Крякнули. Слабо им, – говорит. – Выродились. На трёх толстозадых немцев-демократов два нагрянувших в Германию пожить с комфортом чёрножопых террориста, от которых они, гостеприимные хозяева, с белокурыми детками и рыжими гретхенами под кроватями в своих благоустроенных домах прячутся – додемократились, арийцы, дальше некуда… И белобрысых бестий скоро не останется.
– На всё воля Божья, – говорю.
– Ты Бога с немцами не путай… Часам к семи только приеду. Не раньше. Может, чуть даже задержусь… Как получится… И хрен с ним, – говорит, – с Гитлером, он – извращенец… И был да сплыл. Пусть хоть… как эти, калоеды… Люди мочей, читал тут, лечатся… Пораньше постараюсь.
– Своей?
– Своей.
– Вот это да!.. А сам-то пробовал?
Не отвечает.
Ну, я бы тоже промолчал…
– Чё толковать с тобой – ты неотёсанный.
– Своей-то если, ещё ладно… своё всё же – не пахнет… хотя моча и есть моча – пописать можно и необходимо, но ведь не пить же – не шампанское, даже не пепси… Сам себе, – говорю, – и нужник, и аптека.
– Ради здоровья, – говорит, – и не то выпьешь.
– По мне уж лучше помереть…
– Чё ж ты без пива-то не помираешь?.. Душу всю вымотал мне – клянчил.
– Ну, несравнимое сравнил – мочу и пиво…
– Одно и то же, – говорит. – За малой разницей.
– Тебе виднее, – говорю, – спорить не стану… Организм это, – рассуждаю, – за негодностью из себя выкинул, а ты подобрал и опять в него пихаешь – нелепо вроде… Как младенец.
– Вот именно, – говорит. – Младенец. Ум-то ещё незамутнённый – чётко читает информацию из космоса. Это у нас программа сбилась…
– Из космоса – про мочу?.. Это интересно… А есть ли он у него ещё – ум-то – у младенца?.. Это как одни питаются в ресторане, а другие – тем, что выносят из него на помойку… Ради себя я пить не стал бы, – говорю, – ради тебя, может, и выпил бы, если тебе бы это жизнь спасло… А ты, – спрашиваю, – когда добро своё, хоть и ненадолго, но с риском для жизни и с постоянной оглядкой на пользу или вредность первопродукта приобретённое, на анализы сдаёшь, потом его по весу-то не проверяешь?
– Зачем?! – удивляется.
– Зачем. Как, – говорю, – зачем! Да, может, гады, отпивают?! Они же, эти неподконтрольные аналитики, не одну собаку на чужих отходах, поди, съели, точно знают, чем лечиться, и пристроились на дармовщинку, потягивают себе в своих лабораториях, смакуя, ни чью попало там, а бизнесменскую – рафинированную, безопасную, не то что наша – после метилового спирта, палёной водки и другой разной дряни. Я – про урину. А ты тут, сидишь в тоскливом одиночестве, пивом вредным давишься – почки нежные свои, не дядины, терзаешь и, хуже-то всего, время бесценное зря переводишь, вместо того, чтоб деньги множить. Я бы их, точно, раскатал… дорогу ими бы поправил… к тебе на дачу… в особняк. Продумай это…
– Умника из себя не строй, Истомин, ладно, и лицо попроще сделай… Всё равно, – говорит, – не получится, не лысый… как там его?.. министр-то культуры… и, как Пушкин, не кудрявый. Сразу же видно, что из глухоманки, хоть сто лет в столице проболтайся, а то – ури-ина… Созвонюсь с девчонками, договорюсь, где захватить их после по дороге, ждут не дождутся… Ты, правда, сильно-то не увлекайся, чтоб не краснеть мне за тебя, а то нажрёшься тут… Урина… слово-то вспомнил. Горе одно с тобой, Истомин. Моча мочой, а не урина.
– Тебе-то что? – спрашиваю. – Мунгалов. Опечалился.
– Пока ты здесь, у меня, я за тебя, за поросёнка, отвечаю… Скорей бы сплавить. Поезд во сколько у тебя?
– Не много на себя берёшь?.. Ответственный… Вечером, – говорю, – после семи… И Кёнигсберг-то!
– Завтра?
– Завтра… Как Судеты.
– Как хорошо – не послезавтра… Вот в поезд завтра загружу, ручкой мне из него помашешь, – говорит, – и выделывай там после всё, что взбредёт в твою опухшую и больную голову. Можешь всю водку в ресторане вылакать… Димы с тобой не будет, жалко…
– Всю не осилю, – говорю. И говорю: – Жалко, что Димы-то не будет… Но попытаюсь.
– Может, ссадили бы… пешком по рельсам, представляю: ты и Дима – два придурка… Ещё намучаюсь с тобой… Больше, чем сутки. Одуреть. Ну, всё, – говорит, – поехал. Время поджимает. Захочешь спать – бельё в кровати… Помойся только, Кёнигсберг… На паровозе прокоптился. И чем там, в купе, занимался, я же не знаю. Везде заразы – подцепил – об чё там тёрся… Галина может позвонить. Я ей сказал вчера, что паразит нагрянуть должен – ты-то. Привет просила передать. Ох, умереть с тебя, Истомин. Ну, оставайся.
– С Богом. И ты привет передавай.
– Кому? – спрашивает.