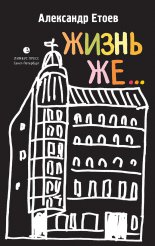Классика, после и рядом Дубин Борис

К типологии современных российских читателей. Мне кажется, что мы здесь и сейчас, в России 1990-х, а потом 2000-х гг., присутствуем при некоторой стадии очередной кристаллизации и, вместе с тем, склеротизации литературы и других медиа в качестве средств сообщения. Между различными способами коммуникации, разными типами текстов от бумажной литературы до электронных средств, точнее, конечно, между сообществами, которые этими средствами коммуникации объединены, происходит очередной пересмотр отношений, а значит, и рутинизация каких-то из них, отделение готовых, привычных для нас слоев, как бы сбрасывание этой «кожи», удаление ее следов и проч.
С одной стороны, в телесмотрение за это время ушли целые слои населения, раньше принадлежавшие к читателям. Кстати, вместе с ними на трех-четырехчасовое ежедневное смотрение телевизора перешла за 1990-е гг. преобладающая часть так называемой интеллигенции – и перешла, кажется, нисколько не сокрушаясь о подобном переходе. А нынешнее российское телевидение построено в целом на двух типах коммуникации – сериале и клипе130. Клип останавливает время, разрывает его. Сериал постоянно жует и растягивает это время, раз за разом вставляет пропущенные части, делает наш опыт непрерывным ото дня ко дню и, соответственно, ведущим к благим целям – свадьбе, богатству, завидному положению. Клип же (по конструкции это метафора) ставит нас в тупик, без объяснения, встык соединяя одно с другим или передавая одно в образе другого: что мы перед собой видим? Повествование останавливается, и перед нами предстает некоторая загадка данного визуального образа, всегда недостающего, отсылающего куда-то не сюда, не наглядного, а заставляющего думать, что же за этим. Это принципиально другой тип телеповествования и коммуникации автор – герой – зритель. Характерно, что любители телесериалов не выносят рекламы, потому что это переключение самого устройства опыта.
Итак, самый массовый тип сегодняшнего коммуниканта – вчерашние читатели, ставшие телезрителями. Если они читают книги, то такие же серийные. Здесь либо книга – запись по известному фильму, либо фильм – экранизации популярной книги. Один коммуникативный канал тут поддерживает другой, и никакой борьбы между ними я не вижу.
Столь же типологически обобщенно я бы хотел представить другой тип читателей. Это читатели поэзии, некий исчезающий человеческий вид. Впрочем, он едва ли не всегда (если за него не вступались мощные медиа – эстрада, радио, ТВ) находился в состоянии исчезновения. Таков, вероятно, способ его существования и, вместе с тем, способ существования литературы вне ее массового изготовления и потребления. Поэзия дает ее авторам и читателям ощущение пограничности существования, что совершенно по-другому организует опыт. Тут человек рискует и не боится вступать в воды последнего дня. Поэзия заставляет его соприкасаться с таким опытом, который пределен, небезопасен, в любом случае его смысл проблематичен, неоднозначен, загадочен. Перед нами другая форма коммуникации – другой тип сообщества – другая антропология, конструкция человека и значимого опыта.
Но это полюса, а что между ними? Между ними, мне кажется, во-первых, осколки и обломки того, в чем мы жили прежде, в 1960 – 1980-е гг. (в культуре, литературе ничто ведь не исчезает, оно лишь уходит на другое место и получает другой смысловой заряд). Рудименты и сочетания прежних поэтик, представляющие проблемы общества, явления его распада как значимые события и рутинизирующие эти события до понятных и знакомых, составляют сегодня, по-моему, основу литературы толстых столичных журналов. Вокруг них складывается своя аудитория. Точнее, она не складывается, а остается: к этим журналам (но все чаще – к их интернет-версиям) обращаются сегодня так называемые «первые читатели», но за ними нет «вторых», «третьих» и т.д., которым нужна была бы рекомендация и интерпретация со стороны «первых». Я хочу сказать, что дальше коммуникация обрывается, образцы этой журнальной культуры не распространяются шире. Читательский социум фрагментируется. Напомню, между тем, что литература на стадии ее становления как института мыслилась в качестве универсальной, «всемирной» – надежды того периода многим приходится признавать и переживать сегодня как иллюзии.
Еще одно литературное образование и тип читателей, сравнительно новые для России (хотя сам способ организации реальности в такой литературе и тип ее коммуникации с читателем достаточно давний, по крайней мере одновременный с модерной эпохой), – это модная литература и ее модная публика. За последнее десятилетие в России возникла модная литература – можно называть ее глянцевой, гламурной. Такая литература, если говорить о ее содержании, не должна «грузить». С другой стороны, ее внешний вид (оформление обложки, вынесенная на обложку реклама, место в книжном магазине) броско сигнализирует читателю модной литературы, что это его книга. В-третьих, такая литература и ее читательское обращение строятся на работе массмедиа, так что словесность становится игровой приставкой к медиасистеме.
Границы, отделяющие модную литературу от всей другой и структурирующие, организующие ее как условное целое, проводят сегодня глянцевые журналы: вот книги которые рекомендует журнал «Elle», вот – рекомендация «Афиши»131. Медиа выступают здесь как знаки второго порядка, они не столько несут значения, сколько их организуют. Так они создают и поддерживают новый тип автора как модный персонаж, они лепят звезд, кроят репутации. Беря книгу NN, мы знаем о нем/о ней из медиа. Их репутация создана, и мы получаем ее в качестве такого же готового продукта, как и написанная книга. Больше того, медиа снабжают литературу технологиями раскрутки имен (брендов) и продвижения литературы к читателю (промоушен). Наконец, медиа изменяют самые техники литературного письма. Я уже говорил о связи между сериалом и серийной литературой. Книги Минаева или Робски – порождения компьютерной эпохи, это компьютерное письмо (впрочем, это можно сказать и о книгах Умберто Эко). Но интереснее куда более сложные случаи.
На технику построения поэтического образа, скажем, у Шамшада Абдуллаева или у Елены Фанайловой, несомненно, влияет кино, а у Фанайловой еще и радио (радиотехнологии, радиоакустика, звуковое кишение радиоэфира). Или Интернет: стихи Ники Скандиаки построены как наброски компьютерных текстов либо монтируют черновики с беловиками, задавая разные возможности прочтения. Больше того, на наших глазах уже сложилась сетература как особый тип словесности, которая и не собирается принимать бумажную форму или, по крайней мере, не настаивает на этом (инициативу скорее проявляет бумажная литература, ее организаторы – премиальные жюри, журналы, книжные издательства).
Интернет построен как сообщество сетевое, горизонтальное. Тогда как многие из нас привыкли к мысли, будто литература при любом ее горизонтальном распространении немыслима без вертикальной, иерархической оси. В роли таковой может выступать классика, ее может воплощать школьный учитель и т.д. Но вот сетература работает без оси иерархии, и это заставляет думать о возможностях такой словесности за пределами Интернета. И тогда наталкиваешься на формы современной словесности, которые вообще не предусматривают идею иерархии, классики, распространения образца сверху вниз, авторитета и пантеона авторитетов, литературной учебы.
Вот лишь один пример. Существует и очень активно о себе заявляет турецкая немецкоязычная литература в Германии132. Нередко ее язык – не турецкий и не немецкий, это социолект, на котором говорят турки в Германии. Он обозначен отрицательным, с точки зрения немца, названием – «язык чужака» («канак шпрак»). Эта словесность не собирается встраиваться в немецкую, это литература без традиций (будь то турецких, будь то немецких). Она не собирается «учиться у классиков» и не намеревается попасть в программы школьного преподавания. Она существует как сеть для «своих» – причем объединенных не принадлежностью по рождению к данному этносу, не следованием тем или иным предписанным традициям, а выбором данного типа культуры как актуального существования культурных номадов, живущих здесь и сейчас. Такая литература не отсылает к сложившимся сообществам, принятым в них традициям и авторитетам, а создает тип сообщества, которое объединено данной литературой и воплощенным в ней типом существования культурного меньшинства. Такая литература меняет контексты существования прежней литературы, а стало быть, и ее значение. Делёз и Гваттари писали в свое время о малой (миноритарной) литературе133 – может быть, мы сегодня, во все более глобализирующемся мире, переживаем процессы миноритаризации культуры в целом (своего рода глокализации). В «малых» литературах нет классики, а значит, по определению, нет эпигонства, там как бы всё впервые. Представляется, что один из возможных путей развития нынешней российской литературы на русском языке – попробовать писать ее не как великую, а именно как малую, в указанном выше смысле. Мне кажется, это был бы чрезвычайно интересный эксперимент.
2008
РЯДОМ
ДЕТЕКТИВ, КОТОРОГО ЧИТАЮТ ВСЕ
Впервые имя Сан-Антонио я встретил в первой половине 1970-х гг., начав заниматься социологией чтения, а потому, понятно, феноменами «массового успеха». В тогдашней Государственной библиотеке СССР им. Ленина я натолкнулся на почему-то не попавшие в спецхран, чьими завсегдатаями мы с коллегами стали позже, материалы очень авторитетного для французской гуманитарии 1960-х гг. коллоквиума в Серизи-ла-Саль, очередное заседание которого и вобравший его доклады и дискуссии тематический выпуск 1970 г. были посвящены так называемой «паралитературе», и в частности писателю Фредерику Дару и созданному им персонажу – сыщику Сан-Антонио. Прием, отождествивший автора детективных романов, их повествователя и главного героя, плюс замечание о том, что эти серийные, «бульварные» выпуски читают и профессора университетов, и водители такси, запали в память (у нас в 1970-е гг. детективы – но безо всяких приемов – тоже запоем читали, если удавалось достать, и работяги, и интеллигенты, о чем теперь как-то забылось). С той поры я не видел практически ни одной из обобщающих франкоязычных работ по массовой словесности 1950 – 1990-х гг., где бы в том или ином объеме и ключе не обсуждался «феномен Сан-Антонио»134.
Подробнее о данном герое-авторе, о составляющих этого редкого, если не уникального для Франции вообще и для второй половины уходящего века в частности, явления, о его социальных, общекультурных и собственно литературных контекстах рассказано на страницах одного из номеров «Нового литературного обозрения»135; добавлю только, что Алексей Берелович – это придает помещенной там его статье «Сан-Антонио и другие» еще и значение исторического свидетельства – смотрит на свой материал «изнутри» французской культуры и глазами во многом очевидца описываемых им событий. Я же хочу предложить несколько самых общих соображений и напоминаний, имея в виду отчасти здешнюю и нынешнюю культурную ситуацию, но глядя на нее через оптику теоретической и сравнительной социологии культуры.
Прежде всего, о самом феномене «книги-которую-читают-все». Это, если угодно, метафорическая формула письменной культуры.
Во-первых, только в пределах значимости этого типа (плана) культуры, в исторических рамках авторитетности подобных представлений о культуре и ее «собственными» средствами – средствами письма как универсального и формального способа смысловой записи – стали возможными, необходимыми, а далее и «естественно-привычными» те символические барьеры и уровни, которыми письменно образованное меньшинство в определенный момент дифференциации социокультурной структуры общества отделило (в частности – в искусствах и литературе) «высокое» от «низкого», «центральное» (и потому подлежащее репродукции) от «периферийного» (а стало быть, при всех прочих, факультативного, а то и напрямую вытесняемого из культуры, за ее – тогда же обозначенные и «поставленные на охрану» – «границы»). Более того, утвердило подобный оценочный ранжир и сам момент групповой оценки в качестве «внутреннего» механизма динамики культуры, вот этого самого «как-бы-ее-собственного» свойства и импульса. Все эти социокультурные процессы растянулись на многие столетия вплоть до XVIII, а кое-где и XIX в., найдя воплощение в предприятиях по соответствующему упорядочению национальных языков (разработка и утверждение их общих для всех граждан «литературных» вариантов, создание языковых академий и словарей, борьба с «местными» отклонениями и «низкими» наречиями), по регламентации жанров и стилей в искусстве (классицизм нормативных поэтик, а затем возведение пантеонов национальных классиков) и др.
Во-вторых, представление о «всеобщности» письма и чтения, о принципиальной возможности, «исторической необходимости» и как бы даже «реальных» перспективах повсеместной экспансии письменных образцов на правах самого высокого, самого эффективного и т.д. законодателя и регулятора во все сферы и типы человеческих отношений составило «базовую легенду» (не более, но и не менее) письменной культуры Нового и Новейшего времени136. Легенда эта разворачивалась в форме «истории грамотности» («распространенности чтения», сказали бы библиотечные работники) и как бы узаконивала – тем более, от лица Истории, последнего допущенного «божества», предельного авторитета светского общества – притязания ее носителей на социальное положение, общественное влияние и т.д. Тем самым она выступала, говоря социологически, фундаментальным компонентом определенной групповой идеологии культуры, да и литературы, на заданных исторически-конкретных фазах, в доставшихся подобным группам хронологических пределах.
В-третьих, претензии на всеобщность письменных образцов, активно отстаиваемые их носителями, выразили, в этом смысле, и явную утопийную (по Карлу Манхейму) энергетику поднимающихся общественных групп с их легализуемой по ходу дела жаждой успеха и признания, и известный идеологический (в его же терминологии) ретроспективизм их ориентаций. Выразили, говоря короче, новое в плане культуры и промежуточное в социальном плане положение автономизирующегося мало-помалу слоя интеллектуалов-литераторов. Они ведь взяли на себя (а письменность долгое время, можно сказать, только и описывает то, что в предшествующие эпохи делали) задачу рационализации, упорядочения, кодификации предшествующих традиций – немыслимую, кстати, без их условно-формальной зафиксированности на письме, – а потому помнят и напоминают о «былых временах», когда едиными образцами в обществе как бы руководствовались все137.
Подобная культурная метафорика – мета– и автометафора «культуры» («Культуры»), след ее значимости как социальной программы и антропологического проекта в Европе – даже и «после классиков» остается, при всех содержательных пертурбациях и модальных превращениях, идеей достаточно значимой (напомню только о символике «всеобщего языка» или «сверхкниги»). Отсюда важность и интересность того, что именно в разных обществах и культурных средах при разнящихся их традициях, в разные эпохи и в различных ситуациях пробуется на такую роль «книги-которую-читают-все», а иногда – на какое-то время! – даже и утверждается в этой роли. О сверхвысоком престиже русской (а впрочем, и немецкой) «классики» и сменяющихся кандидатах в классики («наше все!») в подобном аспекте уже не раз говорилось. Про еще один крайний случай, маоистский цитатник, за неимением места только упомяну. На таком фоне «феномен Сан-Антонио» весьма и весьма показателен.
Что, когда смотришь из теперешнего и отсюда, в первую очередь бросается в глаза? Популярность романов (о) Сан-Антонио, скажу вкратце так, обеспечена жанром, но связана с языком, причем языком, представленным и развернутым как игра.
Во вполне определенных социально-исторических условиях во Франции 1950 – 1960-х гг. – движении к более современному, динамичному и открытому обществу, при растущей с той поры миграции и эмиграции из прежних французских колоний и «третьего мира» в целом, демократизации и массовизации культурного обихода, а соответственно, в обстановке нарастающей критики жестко-нормативных идеологий культуры и вообще критики идеологии, усиления зарубежных, и прежде всего американских, влияний, вообще многое и важное в послевоенном мире определивших, – широко распространенным, «всеобщим» становится в данном случае образец из современной «низовой» словесности, в котором новый, не связанный с заметными литературными течениями и авторитетными кругами, не отмеченный культурным престижем автор экспериментирует с языком. Он обильно и напористо вводит в повествование элементы, казалось бы, столь же непрестижной и некодифицированной устной речи, причем создает этот жаргон сам, на правах авторского слова, и далее строит на нем рассказ, постоянно играя языком и семантикой «устного» (отсюда, думаю, и совмещение образов автора и рассказчика, «речевая маска», символически мотивирующая и имитирующая как бы спонтанный, в сию секунду и на глазах читателя бьющий, ничем не предуказанный и не стреноженный словоизобретательский поток). Поддержанный этим игровым моментом, ролевым совмещением (сдвоенной, строенной ролью повествователя), язык перерастает узкие рамки «реалистической» характеристики персонажей и становится для автора особым автономным предметом (героем) и своеобразной оптикой изображения (нормой действительности изображаемого, его «реальности-условности»). Далее, через воздействие опять-таки на устную речь читателей, через цитаты в их разговорах как своеобразные опознавательные знаки, «шифровки для своих», Сан-Антонио – автор и герой – входит в сознание разных слоев французского общества, включая молодых и левых парижских интеллектуалов.
По фундаментальным особенностям французской цивилизации, строения французского общества Нового и Новейшего времени, взаимоотношений в нем «центра» и «периферии», власти, элитных групп и «народа», о которых сейчас не место и не время говорить, язык, централизованная кодификация языка и нормативная языковая идентичность, обучение языку и практической риторике занимают во французской культуре весьма важное место138. Однако при всей культурной авторитетности при этом «единого центра» (допустим, Парижа) и «нивелирующей нормы» (скажем, разнообразных комиссий по языку при президенте) значимость локальной периферии и ее разнообразных особенностей, сельских диалектов и городского арго, массовых и популярных жанров литературы и искусства, как и вообще «низовой» повседневности и быта (жилья, обычаев, кухни и т.д.), для французской цивилизации чрезвычайно велика. Подобные моменты не только не дисквалифицированы, не вытеснены из обсуждения, а, напротив, постоянно тематизируются, выводятся в публичное пространство, дебатируются в общественном мнении, обыгрываются в искусстве, рационализируются в гуманитарии. Крайне значимы они для процессов культурной инновации, новых школ в гуманитарных и социальных науках (структурализм, социология вещного мира, история повседневности), для авангардных образотворческих групп – французских кубистов, Аполлинера, сюрреализма и др.139 В этом смысле упомянутый выше объемистый языковой «Словарь Сан-Антонио», о котором детально рассказывает в спецномере «Нового литературного обозрения» Сергей Дубин, – явление для Франции, при всех оговорках, в общем, естественное или, по крайней мере, понятное. Неожиданный, даже шоковый эффект оно способно произвести уж скорее в наших отечественных условиях.
До самого последнего времени, когда в здешний обиход начали проникать то созданные на Западе, то сделанные уже в России словари ненормативной – лагерной, блатной, матерной, хипстерской и др. – лексики (по-прежнему, впрочем, оценочно-отделенной – только знак поменялся на как бы положительный – от языка в целом, то есть от реально существующих в обществе ролевых, групповых, институциональных отношений и взаимодействий), словарь авторского языка был возможен в России, конечно, только для суперклассика, по определению – одного-единственного. Это, конечно же, Пушкин.
Что, в завершение этих беглых заметок, можно по типу и по функции – как компоненты общего, масскоммуникативного языка – сопоставить в российских условиях с романами Сан-Антонио, взахлеб читавшимися «всеми» и расхватанными на цитаты, которые за пять последних десятилетий стали элементом молодежного сленга, ресурсом «семейной» семантики, одной из примет своего времени, а для кого-то и эпизодом собственной биографии?
Что-нибудь из разряда «крылатых слов»? Но авторы тут, конечно же, опять-таки заведомые школьные классики – басни Крылова, «Горе от ума», «Евгений Онегин», из советского периода – обязательный Маяковский и подзапретный Есенин (и псевдо-Есенин). Скорее, нужен иной алгоритм поиска.
Во-первых, искать стоит, видимо, уже в советской эпохе – временах более широкой грамотности, урбанизации и развития городской культуры, создания соответствующих инфраструктур необходимого масштаба (школ, издательств, библиотек), появления массовой, уже советской интеллигенции. Во-вторых, обращаться здесь, вероятно, имеет смысл к периодам известных свобод либо относительного смягчения идеологического прессинга и централизованного контроля, появления каких-то признаков социальной проницаемости и ненасильственной мобильности, культурной динамики, расширения информационных горизонтов.
Например, это могут быть – обо всех оговорках помню! – 20-е – начало 30-х гг. Тут героем номер один в интересующем нас плане будет, вероятно, Зощенко. Для следующего, шестидесятнического «потепления» – дошедшая от предыдущего периода дилогия Ильфа – Петрова и молодежный сленг городской прозы и эстрадной поэзии, журнала «Юность» и т.д. (условно помечу этот узел символическим именем Василия Аксенова). Начиная с 70-х, при нарастании застойных тенденций, сенильных симптомов в обществе, идеологической эрозии, с одной стороны, и при формировании умеренно-критической, а частью и оппозиционной по отношению к официозу «второй культуры», довольно широкой области промежуточных между ними феноменов, с другой, к явлениям, создавшим своего рода «пробой», захватившим большинство социальных групп и слоев городского населения страны, я бы в интересующем меня здесь плане отнес два образца устной, «магнитофонной» культуры – песенную поэзию Высоцкого (феномен Окуджавы, по-моему, другого состава и типа) и прозу Жванецкого (тоже работавшие с «низкими» жанрами и устными пластами языка Вен. Ерофеев, Алешковский, Довлатов все же, насколько могу судить, не получили распространения, сравнимого по массовости с двумя предыдущими авторами).
В качестве отличия от Сан-Антонио и в перспективе, кто знает, возможного будущего анализа я бы в предельно общем и отвлеченном плане, самым грубым образом схематизируя, отметил, что в основе стилистических экспериментов перечисленных отечественных авторов как норма лежит все-таки не автономный жаргон и не самостоятельное языкотворчество, а интеллигентская речь (мало того – речевая маска интеллигента в разных ее ролевых вариантах – казенно-бюрократическом, идеологически-нормативном, приватном и т.д.). Исторически мотивированными вкраплениями в нее то здесь, то там выступают блатная, матерная и т.п. лексика и фразеология. Перед нами – опять-таки отвлекаюсь от различий между авторами – своего рода «пародия» (в смысле Ю. Тынянова) на интеллигента, каким его потребовала и создала социальная реальность соответствующей эпохи (применительно к дилогии об Остапе Бендере этот момент проницательно отметила в свое время Н.Я. Мандельштам). Добавлю, что если примеры плодотворного подхода к речевой работе Зощенко, Ильфа и Петрова, при их более чем редкости, все же есть (М. Чудакова, А. Жолковский), то к словесным, а уж тем более социальным, феноменам Высоцкого, Жванецкого и других названных писателей с заслуженной ими серьезностью нынешняя гуманитария пока не подступалась.
1996
КНИГА ДЖЕНИС РЭДУЭЙ И ПОЭТИКА «РОЗОВОГО РОМАНА»
Американский историк современности, профессор Дженис Рэдуэй (родилась в 1949 г.) долгое время работала в Пенсильванском университете, а затем преподавала в Университете Дьюка; ее специальности – американская цивилизация, французская литература, изучение культуры (cultural studies), феминистская теория. Подготовленная в развитие диссертации книга Рэдуэй «Читая любовные романы»140 вышла в США и Великобритании тремя изданиями (1984, 1987, 1991), вызвала волну откликов в прессе, разошлась в количестве свыше 30 тысяч экземпляров и представляет собой один из образцов культурологической работы – она прочно включена в арсенал гуманитарных дисциплин, в практику их преподавания в англоязычных странах.
Предмет многолетних исследований Рэдуэй (в 1997 г. она выпустила, а в 1999-м переиздала новую обстоятельную монографию о читательских вкусах среднего класса, замеченную как прессой, так и академической средой141) – это мир устремлений и страхов, привычек и оценок, эмоциональных стрессов и жизненных дефицитов американских женщин. Но свой объект исследовательница всегда рассматривает в особом ракурсе, с исключительным вниманием к проблемам человеческого взаимодействия, опосредованного образцами культуры, к техникам коммуникации в обществе. Ее по преимуществу интересует то, как образ мыслей и чувств ее современниц выражается, конструируется, поддерживается, воспроизводится средствами книгопечатания – в процессах массового производства, тиражирования, распространения и потребления романов, «романтической прозы» (romance).
Поэтому работы Рэдуэй примыкают, с одной стороны, к уже традиционным для Америки исследованиям массмедиа и общественного мнения (начало им в США на рубеже 1930 – 1940-х гг. дали, среди прочего, работы выходцев из межвоенной Австрии и Германии – Пауля Лазарсфельда и других), к трудам по социальной истории книги и чтения в Великобритании и США (Ричард Олтик, Питер Манн, Уильям Чарват), к эмпирической социологии литературы и читательских вкусов – как бордоской линии в традициях Дюркгейма (Робер Эскарпи), так и неомарксистской бирмингемской школы (от Ричарда Хоггарта и Реймонда Уильямса до Терри Иглтона и Стюарта Холла). С другой стороны, Рэдуэй разделяет и развивает психоаналитический подход к проблемам, процессам, формам символического самоопределения личности и, прежде всего, самоидентификации женщин в их поисках самостоятельного «я», вместе с тем востребованного окружающими и с ними соотнесенного (Дональд Уинникот или Бруно Беттельхайм в их исследованиях детства, Нэнси Чодороу в ее изучении девичества и материнства). Третья «составляющая» исследовательской позиции и программы Рэдуэй – структура и семантика литературного текста, но, опять-таки, в его обращенности к потенциальному читателю. Отсюда ее интерес не только к трудам российских, европейских, американских авторов структурно-семиотического направления (Пропп, Барт, Эко, Джонатан Каллер), но и к немецкой «эстетике восприятия» (Вольфганг Изер), американской школе «читательского отклика» (Джейн Томпкинс). Понятно, что в первую очередь нашего автора занимают тексты массовой или популярной культуры, – этим определяется интерес Рэдуэй к культурантропологическим исследованиям «формульных повествований» в работах Джона Кавелти, к исследованиям ритуала в трудах Клиффорда Гирца.
Впрочем, о большей части всего только что перечисленного – причем в хронологическом порядке и автобиографическом развороте – Дженис Рэдуэй с американской деловитоcтью и обстоятельностью рассказывает сама во вступлении к книге, в других ее главах, в примечаниях142. Я лишь позволю себе суммировать авторские свидетельства на сей счет; добавлю к этому, не пытаясь подменить ход наблюдений и рассуждений Дж. Рэдуэй, несколько соображений о любовном романе, точнее – о той его формульной разновидности, которую Рэдуэй по преимуществу исследует. Мне кажется важным сделать это здесь и сейчас, в частности, еще и по той причине, что, судя по данным социологических опросов в России, переводной (прежде всего – англо-американский) любовный роман в массовом чтении российского населения занимал в последнее десятилетие и занимает поныне одно из ведущих мест; по популярности с ним может конкурировать лишь криминальный роман, но и он в последние годы («женский детектив») все больше сближается с любовным романом и женской прозой. Так что проблематика, исследуемая Дж. Рэдуэй, в высшей степени актуальна для сегодняшних российских обстоятельств, а монографических отечественных работ подобного профессионального уровня, исследовательского кругозора и читательского отклика, увы, пока нет143.
Сразу замечу, что Рэдуэй, вполне осознавая границы собственной работы, во-первых, имеет дело только с семейными читательницами зрелого возраста и среднего, по американским понятиям, достатка, а во-вторых, концентрируется почти исключительно на единственной одобряемой ими разновидности романа, в центре которого «одна женщина плюс один мужчина», связываемые постепенным нарастанием их взаимного чувства (момент конкуренции, сравнения, выбора различных ценностей и образцов, включая гомосексуальную любовь, читательницами из их обихода и обсуждения устранен, видимо, как слишком проблематичный и небезопасный)144. То, что любовный роман читают по преимуществу, хотя и не только, женщины, известно и понятно; менее известно то, что на протяжении последних полутора веков женщины вообще составляют статистически преобладающую и читательски более активную часть публики. С одной стороны, это связано с самой концепцией женской роли в Европе Новейшего времени, точнее – с более традиционными моментами этой концепции (романтическая чувствительность и мечтательность в девичестве; ведущая роль в создании эмоционального климата семьи, воспитании детей, «формировании души» своих домашних после замужества). С другой, печать играла ведущую роль в процессах освобождения женщин от патриархальной опеки, а потому право на чтение – вместе, понятно, с правом на образование – входило в кодекс современной «новой женщины», в программы женских движений середины и второй половины XIX в. наряду с избирательным правом.
Социальными рамками «воспитания чувств», включая их укрепление, поддержание и потребление через книги, а позднее – радиосериалы, кино и телевизионные саги, выступает современная ядерная и относительно обеспеченная городская семья. Она объединяет, как правило, лишь два ближайших поколения: двоих родителей и одного-двоих детей (обмирщенный образ «святого семейства»). Собственно здесь – за пределами предписанных и однозначных прежде традиций, твердого сословно-корпоративного положения, воли старших и т.п. – и становится проблемой любовь как относительно свободная, но этим опасная и притягательная, а значит, более чем серьезная, жизненно-серьезная игра. Игра доминирования-подчинения, доверия-самопожертвования – постоянное и постоянно же остающееся неокончательным согласование перспектив, в которых мужчина и женщина видят друг друга, устанавливают и поддерживают взаимность своих ожиданий, уверений и поступков.
Исходный мотив в сюжете любовного романа (а сам этот сюжет можно обозначить формулой «человеческая цена социальной эмансипации и женской самостоятельности») составляет угроза устойчивому «я» героини и потребность в обновлении, восстановлении этого «“я” во взаимосоотнесенности с другими» через активное взаимодействие – отношения с любовным партнером. Как правило, в начале романа читатели обнаруживают героиню на той или иной критической точке ее жизненной карьеры, прежде всего профессиональной (дело, напомню, происходит в современных развитых странах Запада, по преимуществу англосаксонских145). Кроме того, героиня (по собственной болезни, из-за смерти близких, по условиям долгосрочной и далекой командировки, отпуска в диких или экзотических краях) оказывается вне привычных связей, на которые могла бы надежно опереться. Вместе с тем, в протагонистке подчеркивается ее независимость, привлекательность и необычность, чем сразу устанавливается известная дистанция между нею и обычной семейной читательницей из среднего класса (об этом речь пойдет ниже).
В образе противостоящего ей мужского персонажа, застающего героиню на распутье, в точке замешательства и неопределенности, сочетаются и умело дозируются две обобщенные характеристики. Причем обе они, в свою очередь, строятся на борьбе противоположностей: это составляющая «природная» (дикость либо естественность) и «аристократическая» (социальное превосходство или благородство души). И то и другое – источник его силы и демонстрируемого героине, пускай даже невольно, преимущества. Дальнейшая игра доминирования-доверия проходит стадию «чисто сексуального» интереса героев друг к другу; фазу демонстративной холодности героини, ее попыток перехватить инициативу, стать ведущей; затем непонимание, конфликт, (временный) разрыв, что приводит в конце к воссоединению героев, их взаимному признанию – смягчению доминантной позиции мужчины, превращению ее в заботу, на которую его партнерша отвечает доверием, и тем самым к искомому восстановлению (обновленной) идентичности героини.
В финале героев ожидает брак. Этот последний момент для читательниц, ставших объектом исследования Рэдуэй, принципиален. Для них важно увидеть в книге и реанимировать в воображении «человеческий» потенциал именно семейной жизни. Роман и говорит им о возможности возвышения женщины в глазах мужчины (добавлю – исходя из ценностей мужчины); идея же эротического приключения, тем более – сексуальной ненасытности, им, по их признаниям, совершенно чужда. Внутренняя задача читательниц – через чтение романа и сопереживание его протагонистке прийти к взаимности и взаимодополнительности женско-мужских перспектив, символически сняв или хотя бы ослабив запреты традиционной женской роли, то есть как бы восстановить образ активной и самостоятельной женщины, но в акте изоляции от других и отключения от повседневности. Иными словами, отвоевать собственное место, но в его жизни.
Рэдуэй тонко прослеживает эту смысловую алхимию желания – колебания героини между стремлением иметь ребенка от своего избранника и мечтами самой быть его ребенком, что, далее, проецируется уже на отношения читательниц с книгой, в уединенном воображении ласкающих и баюкающих ее как свое лучшее дитя. Воображаемая при этом смена ролевых определений – причем наиболее глубоких, можно сказать, основных – затрагивает и возраст, и пол: читательница воображает себя то женщиной, то мужчиной, то матерью, то ребенком и проч. Точка зрения на происходящее в романе, позиция читающего от сцены к сцене смещается, нередко это переворачивание происходит и в рамках одной сцены; к тому же, как указывает Рэдуэй, не так уж редки любовные романы, написанные автором-женщиной от лица мужского героя.
Сюжет любовного романа (romance) вообще движим множественной перекодировкой исходных антитез. Так, соблазнительность героини, можно сказать, снимает с нее ответственность за случившееся, в том числе – за слишком бурную страсть партнера, «потерявшего голову», но вместе с тем придает протагонистке доминантное положение, и это доминирование без ответственности (тогда как в быту читательниц и их семейной роли преобладает ответственность без доминирования)146. Напротив, ум, остроумие, мягкость (но не слабость!) героя – условие, на котором героиня и читательница могут принять мужскую силу без обычно сопровождающей ее в быту мужской агрессии и без соответствующего унижения женщины: теперь это сила без гегемонии и т.д.
Помимо этих первоплановых или стержневых моментов и их сюжетных превращений в описываемом здесь любовном романе крайне важны «вторые» и «третьи» значения, фоновые характеристики. Они представляют собой сконструированные автором и попутно, почти неконтролируемо воспринимаемые читающими смысловые рамки, которые направляют и поддерживают устойчивую идентификацию с героями романа. Например, к таким фоновым деталям, среди многого иного, принадлежит все, относящееся к современному обиходу, цивилизации благоденствия, бытовой технике (в широком смысле слова), – предметные символы обеспеченности, благополучия, удобства, в конечном счете стабильности существования. Характерно, что этот вещный мир в любовном романе – Рэдуэй и ее собеседницы об этом говорят – увиден женским глазом: отсюда четкость в описаниях одежды, марках косметики, стилях обстановки. Вместе с тем хотел бы отметить, что подобный «женский взгляд» обязательно учитывает более дальнюю «мужскую» перспективу. Точнее, он опять-таки несет значения взаимной согласованности переживаний, обоюдности интереса, а она и составляет в данном случае внутренний нерв сюжета (можно сказать, все эти вещи и вещицы – обыденные варианты «волшебного кольца» или «чудесного зеркальца», связующего героев и представляющего их друг другу в идеализированном образе).
Узел мотивов, комплекс чувств, который читательницы ищут в сюжете романа (покой и безопасность героини под деликатной опекой и в окружении нежной заботы героя – семантика «укрытого гнезда», жизни «под крылышком»), определяет для них и смысловую конструкцию акта чтения. Стремление героини символически отстоять «свою собственную жизнь» как бы повторяется в желании читательницы уединиться и какое-то время побыть пассивным объектом эмоций, возбуждаемых любимым романом. В этом заключен для нее не всегда явный, но постоянно искомый эротизм чтения. Пусть фантазии отдающихся книге нереальны, но совершенно реальны их переживания. Мало того, полноценность восприятия, полнота сочувствования тем выше, чем дальше описываемое отстранено от повседневного опыта читательницы и чем надежнее гарантирована этой последней неприступность ее уединения для всего внешнего, резкого, грубого. «Жестокий реализм» любовному роману противопоказан – отсюда неприемлемость для собеседниц Рэдуэй сцен насилия, «прямых» обозначений происходящего между героями; другое дело – милые подробности домашнего уюта или реалии далекой, чужой истории.
В этом плане можно говорить о двух обобщенных «измерениях» любовного романа – романном (novel) или реалистическом, связанном с конкретностью и узнаваемостью описанного мира, прагматизмом в поведении героев, характерностью их языка, одежды, деталей окружения, и романтическом (romance) или, иначе, мифологическом, утопическом, которое предопределяет и гарантирует дистанцированность описываемого мира от опыта читательницы, а акт чтения – от окружающей ее повседневной действительности. Подобная конструктивная двойственность повествования и всей языковой стратегии любовного романа (но не исключено, что и популярной литературы в целом), с одной стороны, составляет обязательную притягательность, интересность книги для читающих, а с другой, обеспечивает процесс отождествления с героями, положительный эффект чтения147.
И так же, как от самообретения-самозабвения героиню и следящую за ней читательницу не должно отвлекать ничто внешнее, так читающим не должен мешать особый, подчеркнутый автором «стиль», провокативная, субъективистская манера письма (наблюдения Рэдуэй над романным языком в шестой главе относятся для меня к наиболее интересным местам книги). И то и другое угрожает разрушить спасительную дистанцию между жизнью и текстом, а далее текстом и жизнью: сделать восприятие небезопасным, а условное отождествление читательницы с описываемым в романе и терапевтический эффект чтения невозможными. «Понятность», коммуникативная прозрачность языка, как бы сосредоточенного исключительно на отсылке к реальному миру, несет в любовных романах ту же функцию, что и узнаваемая точность вещных описаний (особенно отмеченных как «женский мир» – одежда, прическа, косметика, дом). Средство коммуникации, конструирующее смысл, выступает здесь на правах самой реальности, но этим, как ни парадоксально, и обеспечивается выполнение коммуникативных функций. Чтобы донести нормативно заложенный смысл, язык в коммуникациях подобного типа обязан выступать самим миром. Язык не должен «выпирать», «задевать», «грузить», почему читательницы и требуют от любовных романов «удовольствия», добиваясь пассивности восприятия как позитивной характеристики текста, его сюжета, языка описаний: «Чтобы все шло как бы само собой».
Причем, как показывают материалы, приводимые Рэдуэй в ее книге, для любительниц жанра romance ни, казалось бы, избитые повороты сюжета, ни шаблонные детали описаний никогда не повторяются (таковы они лишь на незаинтересованный взгляд литературно образованного знатока). Точнее, повторение играет в образе жизни и мысли жительниц Смиттона и собеседниц Дженис Рэдуэй другую роль, имеет – может иметь – для них иной смысл. Повторение означает рутину, скуку и оскомину, если в него «не включаешься», если оно относится к «чужому». Но оно символизирует определенность, устойчивость, связь с окружающим миром и другими людьми, как только его признаёшь «своим». В этом смысле потребители не просто видят различия «изнутри» ситуации – они эти различия вносят.
На подобном механизме строится массовое потребление, воздействие моды или рекламы, да, вероятно, в немалой степени и все существование массового человека. По крайней мере, такова поведенческая стратегия «обычной» женщины: сделать что-то особое, «свое» из типового, магазинного, ширпотребного – в косметике, одежде, обстановке дома, в жизни вообще. Но не таков ли по смыслу и сам акт чтения? По крайней мере, так можно было бы транскрибировать сюжет и смысл любовного романа или даже популярной литературы в целом. Перед нами ритуал символического восстановления и воспризнания наиболее общих норм коллективной жизни в нынешнем мире, разделенном на женщин и мужчин. Содержательная монография Дженис Рэдуэй – образец вдумчивой реконструкции и заинтересованно-критического прочтения этого популярного ритуала.
2004
КАК СДЕЛАНО ЛИТЕРАТУРНОЕ «Я»
В истории автобиографической литературы – таков лишь один из несчетных парадоксов этого поразительного жанра – фигуры противников и скептиков гораздо многочисленнее и выглядят, пожалуй, более внушительно, чем редкие примеры ревнителей и адептов. Крайне негативная позиция сформулирована Марком Твеном: «Быть такого не может, чтобы человек рассказал о себе правду или позволил этой правде дойти до читателя». Более мягкое – и более тонкое – сомнение выражено Хорхе Луисом Борхесом в связи с автобиографией его любимого Честертона: «Отец Браун, морское сражение при Лепанто или том, опаляющий каждого, кто его открывает, дали Честертону куда больше возможностей быть Честертоном, чем работа над собственной биографией». Что до защитников автобиографии, то среди них мало кого можно поставить рядом с Филиппом Лежёном.
Его сосредоточенности, упорству и результативности можно позавидовать. За тридцать лет между 1969 г., когда этот младший преподаватель Лионского университета II (на тот день) начал свои разыскания по истории и поэтике автобиографического жанра, и годом 1998-м, когда была издана итоговая лежёновская книга «В защиту автобиографии»148, вышли не только десятки его собственных статей, полдюжины монографий и еще столько же – составленных им сводов французских самоописательных текстов XIX – XX вв., но и труднообозримое количество индивидуальных и коллективных публикаций его коллег из стран франкоязычного ареала, стимулированных работами этого признанного, ведущего, но по-прежнему неутомимого исследователя. Больше – и важнее! – того: он сумел создать сравнительно неплохо стоящие на ногах институции, которые аккумулируют и развивают подобный интерес к «словесному автопортрету». Во Франции сегодня действует Ассоциация собирателей, хранителей и исследователей автобиографии, существуют несколько периодических изданий для публикации как «первоисточников», так и материалов их научного осмысления, сложилась сеть конференций по этой теме во Франции, Бельгии, Канаде и т.п. Про нынешний читательский бум и рыночный успех автобиографического жанра в стране, устами Ролана Барта объявившей не так давно о «смерти автора», нечего и говорить. Если еще позавчера приходилось с жаром доказывать, что автобиография принадлежит к литературе, то сегодня автобиография, кажется, грозит литературу поглотить. Но кого же надо было так долго и с таким жаром убеждать в бесспорных, казалось бы, достоинствах жанра? Кто и почему мог всем этим совокупным усилиям противостоять?
Говоря кратко и общо, противостояло само устройство французской словесности как системы. В классицистической табели XVII века о литературных рангах, как и в трудах античных авторитетов, автобиография не значилась. «Исповедь» Руссо беззаконно вламывается в литературные «гостиные» как парвеню, причем только к концу века XVIII, да и то потом еще долго вызывает зубовный скрежет литературных староверов. К тому же автобиография частного лица, выходца из третьего сословия (иное дело – мемуары придворных грандов!) клеймится в самолюбивой Франции как воплощение британского «ячества», больше того – как привозная «зараза», чужеземный, антипатриотический «соблазн».
Конечно, для левых интеллектуалов во Франции середины ХХ столетия такая позиция была уже допотопной. Психоанализ, структурализм, исторические исследования «народной культуры» и «маргинальных» литератур (характерно множественное число!) за 1960 – 1970-е гг., меньше чем за одно поколение читателей, стерли отчетливую – вернее, еще казавшуюся отчетливой – демаркационную линию между «высоким» и «низким» в искусстве. Работа Филиппа Лежёна как раз в эти десятилетия и разворачивается. В первую очередь она сосредоточена на том, что Лежён назвал «автобиографическим соглашением»149. Имеется в виду некий договор, который повествователь, чаще всего уже в первых строках своего самоописания, как бы заключает с мысленным или исторически-конкретным адресатом, когда представляет ему себя самого, поясняет смысловую задачу и литературную оптику своей будущей книги. Здесь разыскания Лежёна отчасти сближаются с разработками социологии литературы (те же 1960 – 1970-е гг. – время ее бурного развития во Франции) – исследованиями общекультурных традиций автобиографии, с одной стороны, и анализом бытования автобиографической словесности в обществе, в издательской практике, в языке литературной критики, в читательском обиходе, с другой.
Иной аспект того же «соглашения» – сама проблема литературной личности. Автобиографическую форму – Лежён об этом выразительно пишет – многие ее противники пытались представить излишне бесхитростной, слишком «естественной» для того, чтобы по праву считаться искусством, едва ли не примитивной. Как бы не так! Автобиография – воплощение самостоятельности индивида, его гражданской, политической, моральной зрелости, его эстетической ответственности. Это форма крайне сложная, даже изощренная, поэтому она и появляется в истории культуры так поздно, фактически одновременно с тем, как в литературной жизни кристаллизуется полноценная фигура автора (среди современников Лежёна перипетии авторского образа и авторской профессии острее других занимали Мишеля Фуко, который в конце 1960-х делает об этом шумный доклад150). Отсылая за подробностями к лежёновским эссе, укажу здесь лишь на две парадоксальные черты автобиографического письма.
Первый парадокс – скажем так, повествовательный. Он связан с рассказом о себе от первого лица. Милая наивность думать, будто себя-то уж повествователь знает куда лучше, чем всех других и чем все эти другие знают его. Никаким врожденным, «природным» превосходством самопонимания человек, как известно, не обладает, от себя зачастую скрывается еще глубже, чем от окружающих, а уж хитрит с собой куда чаще и, как ему кажется, успешнее (кто здесь, впрочем, кого надул?). Но не только в искренности дело, хотя и она вещь непростая. Наше знание самих себя – это чувствует, думаю, каждый, без этого мы не были бы собой – уникально именно в том, в чем оно непередаваемо, не правда ли? Так что одно дело – знать, а совсем другое – рассказывать. Паспортная личность повествующего, литературное «я» повествователя и общественная фигура автора книги – вещи разные и лишь с большим трудом совместимые. Тут Лежён выходит на проблему, которую другой его соотечественник и современник, философ Поль Рикёр, называет «повествовательной личностью» или «идентичностью повествователя». Сама возможность повествования от первого лица, включая «эго-романистику» – французское autofiction, буквально: «самовыдумывание», – связана со способностью человека воображать себя другим, мысленно смотреть на себя условными глазами другого (среди рикёровских книг – монография «Я как другой»151). Авторское «я» или персонажное «он» выступает в таких случаях переносным обозначением читательского «ты», давая читателю возможность мысленно отождествиться с героем-рассказчиком. Равно как писательское «ты» – Лежён разбирает этот казус в отдельном эссе на примере экспериментальных романов Мишеля Бютора, Натали Саррот, Жоржа Перека – дает читателю возможность узнать в нем собственное «я», достроить себя в уме до необходимой, пусть и условной, полноты. Жизнь «я» всегда открыта, тогда как повествование без замкнутости (без обозначенного, осмысленного начала и конца) невозможно. Так что местоимение – идеальная метафора взаимности, магический кристалл узнаваний и превращений.
Второй парадокс автобиографии, столь же коротко говоря, жанровый. В принципе любой жанр – а что, как не определенный жанр, ищет на прилавках, выбирает и любит читатель? что, как не его, опознает и описывает литературный критик? и, наконец, разве не его «правилам игры» вынужден волей-неволей следовать повествующий, чтобы повествовать? – вещь, по определению, надличная. В идеале тут даже автор не нужен или второстепенен, достаточно серии, обложки, типового заглавия. Но ведь автобиография – жанр особый: «я» здесь неустранимо, поскольку лежит в самой основе – и как предмет рассказа, и как его способ. Обойти это кардинальное противоречие невозможно. Так что автобиография (принадлежность которой к высокой литературе, как помним, оспаривалась архаистами) становится – теперь уже для модернистского письма – самим воплощением «литературы как невозможности», практикой целенаправленного самоподрыва, бесконечным балансированием на грани собственного краха. Такое радикальное понимание литературы и автобиографического жанра во Франции 1950 – 1960-х гг. последовательнее других развил Морис Бланшо; Филипп Лежён разбирает подобные парадоксы словесной неосуществимости в статьях об авангардной автобиографической поэтике Андре Жида, Мишеля Лейриса, Жоржа Перека, Жака Рубо.
Характерны в этом смысле собственные автобиографические очерки и наброски Лежёна, эти, можно сказать, автобиографии «второй степени». Все они сосредоточены на одном моменте – на головокружительном мгновении, когда в человеке пробуждается мысль, что он может с интересом, но без нарциссического самоупоения и мазохистского самокалечения смотреть на себя со стороны. На том нелегком, достаточно болезненном, но неотвратимом акте взросления, который Лежён называет «кесаревым сечением» мысли.
2000
УЛИТКА НА СКЛОНЕ… ЛЕТ
Историко-социологические заметки о научной фантастике и книгах братьев Стругацких152
Следующий далее текст питается, по преимуществу, частными соображениями и наблюдениями социолога, плюс, в некоторой степени, личными воспоминаниями читателя. Первые могут показаться излишне схематичными, вторые – слишком отрывочными. Надеюсь тем не менее, что одно если не выправит, то уравновесит другое. Ролевая двойственность ситуации пишущего эти строки усиливается, применительно к братьям Стругацким, тем гораздо более значимым обстоятельством, что написанное ими – и уж во всяком случае, «Улитка…» («Беспокойство») – находится на грани между жанровой и авторской прозой, «фантастикой» и «литературой», а далее – между фантастикой «социально-философской» и «научной» или «научно-технической».
Читатель может заметить, что все это категории оценочные и неточные. Верно. Но кто сказал, что оценки, даже самые фантастические и не выговоренные «про себя», а уж тем более безапелляционные и обнародованные для всех и каждого, не влияют на реальные действия и не приводят к совершенно не условным, хотя и не всегда предвиденным последствиям? Фантастика – в том числе фантастика самих Стругацких и направления Стругацких – во многом посвящена именно такому сюжету. Кстати, вот одно из вполне эмпирических подтверждений двойного статуса их прозы: она в 1960 – 1980-х гг. печаталась, рецензировалась, обсуждалась в толстых журналах, равно как публиковалась в 1970 – 1980-х в тамиздате и ходила в самиздате – у многих ли из советских «фантастов» (за исключением, быть может, Геннадия Гора) есть такая журнальная биография и литературная судьба, включая подпольную? Ведь, может быть, самое интересное и значимое, самое живое и распространенное в тогдашнем позднесоветском культурном обиходе, вопреки преградам, было вот такой кентаврической и полузапретной природы – напомню философию Мераба Мамардашвили, на девять десятых бытовавшую в устно-лекционной, магнитофонной и машинописной форме. Устно-магнитофонные монологи Жванецкого – это «литература»? Киношно-магнитофонные песни Высоцкого – это «поэзия»? А кто такой Шукшин при жизни – писатель, киноактер, кинорежиссер? И т.д.
Но сначала – о фантастике, «литературной» и «научной». В самом общем смысле, она – вместе с собственно «литературой» как социальной институцией и культурной программой – возникает при формировании современных, открытых и динамичных обществ Запада, вслед за процессами становления и утверждения в них новых, ненаследственных элит, рыночного хозяйства, демократического порядка, соревновательного суда, национального государства – то есть на протяжении примерно столетия после 1750 – 1760-х гг. (дальше следуют декадентский «фин де сьекль», «война богов» и «восстание масс»). Как момент самосознания этих элитных групп, а потом и ориентирующихся по ним более широких кругов образованного населения (а революция образования – неизбежная спутница экономических и политических революций в Европе Нового времени) рождаются современные представления об обществе как относительно самостоятельном плане, или измерении, человеческой жизни (не зря в эту же эпоху, приблизительно в 1840 – 1860-х гг., возникает социология), складываются формы рационализации людьми их собственных действий в этом новом мире вне устойчивых, всеобщих, раз и навсегда данных иерархий, авторитетов и традиций («социализм» как оптимизация условий совместного существования людей, развитие их новой, социальной «природы» – детище того же исторического периода и в неслучайном родстве с упомянутой социологией).
Причем принципиальны здесь все три момента. Во-первых, смысл действий человека не предрешен, проблематичен, открыт для него самого и для ответного действия другого. Но таков он для каждого человека, а значит – для любого партнера по действию; стало быть, эта проблема – проблема учета другого, его взгляда на тебя и на мир, его перспективы – коллективная, общая, она интересна и важна для всех. Это во-вторых. И наконец, этот смысл – рационален: он постижим и даже исчислим, и не только для тебя, но и, как говорилось, для каждого, так что мы все заинтересованы в том, чтобы жить по собственному разумению, ни на кого не ссылаясь и не перекладывая ответственность, но живя вместе. Всегда вместе с другим и всегда с учетом другого, точнее – многих и разнообразных других.
А раз так, то особую значимость приобретает воображение (не зря именно его в форме эстетической способности кладут в основу нового образа человека и новой антропологии Кант, а потом Шиллер, немецкие и английские романтики). Это способность не просто к индивидуальной, ни к чему не обязывающей мечтательности, а именно к социальному воображению – заинтересованному представлению и разыгрыванию «другого», форм воображаемого с ним взаимодействия. Воображение как новая форма регуляции человеческих действий противостоит здесь традиции как воспроизведению изначального, всегдашнего, завещанного предками. Утопия, проекция, игра становятся условием разнообразия и динамичности социальной жизни, а потому – предметом общественной культивации, культуры (в этимологическом смысле – как возделывания).
Открытие «иного», «чужака» (от английских рабочих до умственно больных, от индусов до индейцев – в политэкономии, медицине, этнографии, языкознании, литературе) на рубеже XVIII – XIX столетий и в первую половину XIX в. идет рука об руку с открытием «прошлого» – историей, будь то народов или институций, обычаев или искусств, которая и утверждается в этот период как наука в виде университетских кафедр, курсов лекций, специальных журналов и проч. Центральными проблемами новых обществ, их элит, их культур становятся коммуникация (с «другим») и техника как наиболее рациональная, а потому, казалось бы, легче оптимизируемая сторона человеческих действий, опять-таки, любых, без ограничения – от передвижения и секса до приготовления пищи и воспитания детей. Техническая революция и революция коммуникативных систем – тоже спутницы экономических и политических революций Запада (революция «чужаков», «бунт окраин», восстание «третьего мира» – еще впереди, они развернутся в ХХ в.).
В этом социокультурном контексте и становится нужна, функциональна литература, включая фантастику (но и мелодраму, детектив, исторический роман, роман психологический и др.). Причем, учитывая масштаб и скорость сдвигов, о которых идет речь, это должна быть литература массовая – ее усвоение обеспечивает образовательная революция. Образцы словесности получают все большие тиражи, к процессу тут же подключается еще более динамичная периодическая печать – газеты, затем журналы. Понятно, что фантастика – как и вся свободная, профессионализирующаяся словесность – имеет при этом возможность опереться и вынуждена (по соображениям той же скорости) опираться на уже достаточно длительные традиции письменной культуры, номенклатуру и поэтику сложившихся жанров – в частности, разнообразных утопий и ухроний, идеальных городов, политических островов и воображаемых путешествий, разработанных прежде и распространявшихся до той поры в узких рамках ученого сословия, отдельных привилегированных групп, под высочайшим покровительством, при поддержке знатных меценатов и проч.
Так складываются наиболее общие типы фантастической литературы, среди которых «сказочная» или «волшебная» фантастика (от романтиков через Толкина и Александра Грина до нынешней Джоан Роулинг), собственно «научная фантастика» (прародитель этой словесности «технических приключений» – Жюль Верн), фантастика «социально-философская» (идущая от Уэллса), «антиутопия», или дистопия (Замятин, Хаксли, Оруэлл)153. Стоит иметь в виду еще одно важное обстоятельство: читательский интерес к фантастике – так оно по крайней мере было в образцовых питомниках НФ, Великобритании и США, – приобретает черты своего рода массового культурного движения, находит, точнее – выстраивает, для себя социальные формы. Так множатся клубы и общества любителей фантастики, десятками выходят газеты и журналы, выражающие и распространяющие их интересы, мнения, символические приоритеты; любители становятся собирателями и первыми исследователями истории и типологии НФ; соответствующие знания входят в школьное и университетское преподавание. Детище социальных сдвигов, фантастика становится не только их пассивным отражением, но и деятельным катализатором.
Но мой предмет – не собственно история фантастики, а то, как она «устроена» и как «работает». Скажу об этом коротко и, поскольку наш предмет – творчество Стругацких, и в частности «Улитка…», ограничусь образцами двух последних разновидностей фантастики – социально-философской и антиутопической154. Социально-философская фантастика (немецкий социолог знания Г. Крисмански называет ее «прикладной разновидностью утопического метода»155) представляет собой обсуждение – в ходе заданного литературной формой воображаемого эксперимента – того или иного привлекательного социального устройства, путей и последствий достижения этого идеала. Ясно, что мы имеем дело с намеренным, эвристическим упрощением исследуемого образа мира, его ценностным заострением, схематическим приведением к показательному образцу (Сьюзен Зонтаг в близком контексте называет фантастические фильмы «многообещающими фантазиями морального упростительства»156).
В предельном случае воображаемая действительность вообще ограничивается минимумом различительных признаков в отношении той или иной обсуждаемой ценностной позиции. Мир конструируется в дихотомических категориях «положительного-отрицательного», «сторонника-врага», «своего-чужого». Фантастика подобного рода – это способ мысленной рационализации самих принципов социального взаимодействия в форме гипотетической войны, вражды, конкуренции, солидарности, партнерства, участия.
Центральная проблема в фантастике – именно проблема социального порядка. Она задается в форме напряжения (силового поля) между полюсами человеческой природы, с одной стороны, и иерархической власти, с другой. Уже утопии (этот вариант античной и возрожденческой пасторали для Нового времени), а затем наследующие утопиям фантастические повествования проблематизируют, разрабатывают, представляют образ «новой» природы – природы осознающего себя человека, деятельного индивида, самостоятельного субъекта, наконец, природы общества. В рамках фантастического романа осуществляются ценностное взвешивание условий социального порядка, возникающего на основе подобных действий, перебор возможных в этом смысле вариантов, выявление их «человеческих дефицитов». Ведущаяся силами определенных культурных групп, такая рационализация представляет собой средство интеллектуального контроля над проблематикой социального изменения, темпами и направлениями динамики общества, выступая, кроме того, условно-эстетической реакцией на возникающие здесь проблемы, в том числе – реакцией консервативно-традиционалистской.
Вообще осями проблематизации и упорядочения значений в социальной фантастике чаще всего выступают: автономность/конкуренция; власть/идентичность; равенство/иерархия; прозрачность/непрозрачность отношений. По этим осям, можно сказать, «собиралось» само современное общество. Оно формировалось усилиями групп, отстаивающих ценности самоопределения, равенства, прозрачности и отталкивавшихся от предписанных традиций, иерархической власти, социальной закрытости.
Характерно, что материалом для утопического проектирования, объектом утопических построений становятся, если брать исторический контекст, именно те сферы общественной жизни, которые прежде других достигают (или первыми стремятся к) известной автономии от традиционных авторитетов и от построенной на них статусной иерархии, характеризуясь универсализмом ориентаций социального субъекта, высокой значимостью его собственных достижений157. Таковы наука (если говорить о собственно научной фантастике, техническом проектировании или технической авантюре), политика (в политических утопиях), культура либо ее синонимы, активизирующие именно значения самодостаточности, – воображение, игра (например, в интеллектуальных Нигдеях Музиля и Гессе). Автономность (в литературных утопиях ее символизируют замкнутость и обозримость отдаленного острова, горы, недоступного города, планеты или другой резервации) – основополагающая характеристика утопического мира.
Он отделен от области привычных связей и отношений неким пространственным либо временным порогом, модальным барьером, почему и в состоянии служить условной, модельной действительностью контролируемого эксперимента, лабораторного образца. Сама подобная автономность (и отмеченные ею сферы политического расчета, научной рациональности, технического инструментализма) может оцениваться различными группами общества по-разному. В одних случаях, для одних групп, это зона идеального порядка среди окружающего хаоса, в других и для других – это инфернальная угроза налаженной жизни социального целого, в третьих – безвыходный кошмар чисто функционального, манипулятивного существования, перечеркивающего чувства, волю и разум индивида.
В зависимости от социальной позиции и культурных ориентиров группы, выдвигающей тот или иной утопический образец, рационализации могут подвергаться собственно смысловые основания социального мира, ценностные структуры конкурирующих групп (как это делается в политических утопиях) либо нормативные аспекты средств, которыми достигаются сами по себе необсуждаемые цели, общепринятые ценности, то есть инструментально-технические стороны социальной практики (как это происходит в научной фантастике – технической утопии). Крайне редко при этом проблематизируются сами принятые нормы рациональной конституции смыслового мира – формы определения реальности, природа и границы ее «естественного» характера, конструктивный характер воображения, средства синтезирования образа мира в различных культурах, а значит – релятивный характер соответствующих стереотипов «нормального». Мотивировкой или провокацией подобных уже чисто смысловых, интеллектуальных конфликтов выступает сюжетное столкновение героев с неведомым или невозможным, иными логиками и образами реальности (вроде «зоны» или «леса» у Стругацких). Еще реже подобная утрата «безусловной» действительности связывается в фантастике с самим литературным модусом ее построения, дереализующим воздействием фикционального письма, акта словесной репрезентации (как у Борхеса, Набокова, позднее – Павича). Подобная, скажем так, эпистемологическая фантастика позволяет, по вполне борхесовской формулировке Тодорова, «дать описание <…> универсума, который не имеет <…> реальности вне языка»158.
Так или иначе, смысловая конструкция социальной фантастики представляет собой сравнение, или уравнение, ценностно-нормативных порядков различных значимых общностей – собственной группы, образов союзников, фигур оппонентов. Воображаемая реальность заключена между двумя типологическими ценностными полюсами или предельными планами. С одной стороны – план эгалитарного существования людей «как все», представляющий социальную «природу» человека с минимумом функциональных различий по технической специализации (символика коммунитарного или коммунального бытия). С другой – план иерархического контроля: символика «закрытой», в ряде случаев даже «невидимой» элитарной группы, обладающей всей полнотой власти или стремящейся к ней (своего рода негативная «тень» аристократии с символикой «тайного общества», «братства магов» или «расы господ», котороя появляется еще в ранних христианско-розенкрейцерских утопиях Иоганна Валентина Андрее, а потом реанимируется, к примеру, в оккультно-имперской фантастике Крыжановской-Рочестер и, наконец, пышно расцветает в нынешней российской «сакральной фантастике» и национально-патриотической фэнтези)159. Причем мировоззренческий конфликт и его разрешение вынесены здесь в условную сферу, из которой авторитетно удостоверяется значимость обсуждаемых ценностей, так что нынешнее, нормативное для читателя состояние оказывается сопоставлено с «иным», помеченным в качестве условного «прошлого» либо «будущего».
Для групп интересующего меня здесь типа – социально восходящих и, соответственно, в терминологии К. Манхейма, утопизирующих – подобной сферой высшего авторитета служит «будущее», тогда как для иных – социально нисходящих, идеологизирующих – это может быть «прошлое» (кавычки указывают на то, что речь идет не о месте на хронологической шкале, а о значениях, закрепленных за соответствующими метафорами). Вместе с тем, подчеркну, что будущее в фантастике представляет собой замкнутый, охватываемый взглядом и понятный «обычному человеку», «здравому смыслу» мир, в принципе – еще раз борхесовский мотив – неотличимый по модальности от прошлого, «уже ставшего». Перед нами в любом случае «музей остановленного времени», будь оно отнесено к условному прошлому, будущему или параллельным читательской реальности хронотопам. Поскольку же создаваемый фантастикой социальный мир, хотя бы в качестве фона или сценического задника действия, моделирует формы закрытого, традиционного или статусно-иерархического общества (именно они, в первую очередь, фантастикой и проблематизируются), то собственно культурными, экспрессивно-символическими, литературными или визуальными – в кино или живописи – средствами организации смыслового космоса выступают рудименты архетипической топики мифа и ритуала. Функционально близкую к ним роль могут также играть биологические, генетические, евгенические и тому подобные метафоры160.
Ощущение остановленного времени усугубляется в социальной фантастике самой формой рассказа. Время читателя и время описания синхронизированы в нем как «вечное настоящее», относительно которого внутрисюжетное время действующих лиц всегда остается в прошедшем. Показательно, что формы дневника, как и вообще субъективных типов повествования, фантастика, за исключением определенного типа дистопий, не знает, по крайней мере они относятся в этой области к редким исключениям 161.
Метафорой границы между уравнительным и иерархическим измерением смыслового мира и знаком ее перехода, как и вообще метафорой соединения и взаимоперевода различных ценностных порядков, символизирующих их пространств и времен, выступает особый, необыкновенный, собственно фантастический предмет – эквивалент волшебного камня или ключа, кольца или книги. Чаще всего он так или иначе несет в себе семантику зрения как критерия реальности и как непосредственной, действенной силы, как бы служит воплощением «магического взгляда» (с чем связаны мотивы как вездесущести, так и невидимости): он либо – зрачок, глаз (зеркало, хрусталик, волшебный шарик), либо сам взор (чудесный – разрушительный или созидательный – луч)162.
Для понимания устройства социального мира в фантастическом романе важна еще одна смысловая линия. Существование в социально закрытом обществе связывается здесь со значениями прозрачности, обозримости, открытости взгляду сверху (такую перспективу виртуозно выстраивает А. Сокуров в «Днях затмения» по роману Стругацких «За миллиард лет до конца света»163). Напротив, принципиальная незамкнутость, недовершенность, проблематичность социальных отношений, определений реальности и самого действующего субъекта кодируется символикой скрытости, потаенности, непрозрачности (ср. «гностическую гнусность» героя набоковского «Приглашения на казнь»).
Олицетворяя будущее в настоящем, подобный смысловой ключ выступает символом той центральной ценности, которая прежде всего и обсуждается в социальной фантастике, – обобщенного значения власти, господства, одностороннего и неотвратимого воздействия. Предмет конкуренции, борьбы, достижения (а в научной фантастике именно он обычно и является предметом изобретения), этот ключевой символ или обобщенный медиум, эталон, мера, выступает движущей силой сюжета, поскольку через семантику приближения к нему и овладения им, способы обращения с ним и т.п. можно воспроизвести образы всех социальных позиций и дистанций, развернуть портретную галерею или социальный театр любых значимых «других» в их соотносительной оцененности. Кроме того, владение этим колдовским средством позволяет при любых, самых необычайных изменениях удерживать либо возвращать идентичность обладателя или же, напротив, непредсказуемо изменять ее в «нормальных» условиях – мотив чудесного эликсира, средства вечной молодости и т.п. Соответственно, открывается широкий спектр литературных возможностей разворачивать, разыгрывать символику устойчивости, неизменности (от чудесного бессмертия до неослабевающей памяти) и множественной идентичности, индивидуальной эфемерности, неспособности сохранить тождество (от скоротечности существования до подвластности таинственному внушению извне, уязвимости для необъяснимых болезней, сверхъестественных страхов, непостижимых эпидемий и проч.).
Самое существенное во всех перечисленных случаях – характер обсуждаемой идентичности, поставленной под вопрос. Важно, идет ли при этом речь о суверенном в мыслях и поступках индивиде, соответственно, с позитивной или негативной оценкой роли самого субъективного начала в социальном мироустройстве, или же о коллективностях того или иного объема и уровня и, соответственно, об основаниях данной общности и характере подобных оснований (тут значим масштаб сообщества – от круга друзей или общины единоверцев до государства, тип объединяющих его связей, природа коллективных символов принадлежности и, напротив, «чужого» в их взаимозависимости и переходах). Чем в большей степени мир фантастического романа выстроен по одномерной иерархии власти и конституируется значениями предельно высокого, социетального уровня («государство», «мы», «избранная раса господ» и т.п.), тем с более вторичными, эпигонскими литературными образцами имеет здесь дело исследователь и читатель. И тем ощутимее в них будут мотивы непобедимого рока, неотвратимой судьбы, как бы они ни кодировались символически – от теодицеи до генетики (мир социальной фантастики по функциональному смыслу утопий как рационального устройства в здешней, посюсторонней реальности силами самих людей предельно освобожден – как, кстати, и мир детектива, любовного или исторического романа – от власти запредельных сил, колдовских чар, рока и т.п.).
В подобных случаях перед нами литературные образцы, ориентированные исключительно на социализацию групп, которые только вступают в общественную жизнь, в культуру, в мир современной науки и техники, – младших по возрасту, периферийных по социальному положению, новичков на социальной сцене. Надо сказать, социальная и научная фантастика в той мере, в какой они выступают разновидностями жанровой или формульной словесности, массовой по назначению и серийной по способу изготовления, вообще адресуются именно к таким читательским слоям. На это указывают их главные содержательные характеристики: исключительная сосредоточенность на проблематике господства, преобладание технических средств разрешения социальных и ценностных конфликтов, авторитарный характер основных героев, непременный позитивный финал, говорящий об опоре прежде всего на интегративные, символически сплачивающие функции словесности164.
Выработанные за десятилетия образно-символические образцы литературы, других искусств отдаляются от первоначальных социальных обстоятельств и конфликтов, бывших для них контекстом и стимулом возникновения, материалом для их сюжетных построений. Они выступают теперь в роли наиболее общих моделей, культурных хартий, своего рода аллегорий социальности. Со временем они оседают, а то и «застревают» в обиходе тех групп общества, для которых проблематика устойчивого нормативного порядка и столкновения с «другим», господства и подчинения, технической конкуренции и рациональной калькуляции является наиболее значимой.
Такова, прежде всего, собственно «научная» фантастика. Ее содержание, поэтика, функции связаны с утрированной демонстрацией и последовательным перебором социальных последствий научно-технического прогресса, вообще «техники» в самом широком смысле слова (научно-технические «ужастики», с одной стороны, и ироническое обыгрывание технических монстров, включая разнообразных антропоидов, с другой, – негативная форма представления тех же ценностей социального порядка). Подобные словесные и визуальные «игры», в том числе взаправдашние технические игрушки, настольные или компьютерные, в условном порядке «отключают» время.
С одной стороны, они устраняют повседневное время, распорядок ролевых обязанностей в рамках формальных и неформальных институтов, от «присутствия» и работы до соседей и семьи. С другой, здесь исключено время «исторических» событий и «больших длительностей». Но именно этим подобные игровые модели и устройства делают человеческие действия, само пространство-время их реализации предметом конкуренции и калькуляции, а значит – дают возможность учета и расчета ресурсов, рассмотрения различных тактик и средств, взвешивания цены выигрыша и вероятных потерь. Целевые, целеориентированные действия занимают ведущее место в современных развитых («модерных») обществах, они в них по преимуществу одобряются и вознаграждаются – отсюда их коллективная значимость и общественная потребность им обучаться, отрабатывать их навыки: «В современных условиях <…> сохранение приоритета целеполагания <…> служит необходимой предпосылкой самосохранения общества»165.
Соответственно, публикой подобных игровых образцов, включая научно-фантастическую словесность, выступают группы, социализирующиеся к постоянной технологической модернизации, к принудительной необходимости расчета ресурсов и средств, инструментального обращения с различными, в принципе – любыми, значениями, к навыкам и техникам их схематизации, планирования, проектирования и т.п. Это, с одной стороны, инженерно-техническая интеллигенция, с другой – молодежь, и прежде всего – учащаяся молодежь с уклоном в точные и естественные науки («технари»). То, что, с точки зрения других, более традиционно или традиционалистски ориентированных групп, носит черты исключительности, маргинальности, даже разрушительной угрозы устойчивому миропорядку, для этих контингентов выступает своего рода лабораторией социальности, стендом социальных игр, примерочной социальных ролей.
В российских, а затем и советских условиях устроение и воспитание модерных форм жизни и мышления, а соответственно – целеориентированных типов действия, с одной стороны, выступало условием динамичного развития общества в целом, но с другой, протекая до рубежа 1950 – 1960-х гг. в обществе по преимуществу деревенском, – сталкивалось с остаточными структурами «органических» отношений, стереотипами традиционализма и неотрадиционализма в обиходе наиболее широких слоев, а с третьей – было предметом жесткого контроля со стороны тоталитарной власти. Так формировалась идеология «физиков», триумфальная по внешнему виду, но строго локализованная в зонах и участках «оборонного значения» с их кадровым отбором, повышенной секретностью, а фактически – повышенной зависимостью и проч. Сам этот контингент в условиях НТР и научно-технического (прежде всего – военного) соревнования сверхдержав не мог не разрастаться, но его социальная роль и культурный авторитет сохраняли черты двойственности, неполноправности, подчиненности: мотивации целедостижения и социальному повышению противостояли идеологические барьеры и бюрократические фильтры. Похожая ситуация складывалась в школе – средней и высшей. Самоопределение наиболее успешных школьников и студентов, начатки социального и культурного расслоения в стране сталкивались с социально-идеологической уравниловкой руководства и конформизмом среды. Вряд ли случайно на протяжении примерно двух – двух с половиной десятилетий (рубеж 1950 – 1960-х – первая половина 1980-х гг., достаточно вспомнить тогдашнее кино, если уж не лезть в публицистику «Литературной газеты») среди наиболее обсуждаемых обществом проблем – в рамках цензурно-допустимого – были проблемы напряжения и конфликты самоидентификации ИТР и школьно-молодежная проблематика. И, опять-таки, вряд ли случайно именно это двадцатилетие считается золотой эпохой советской фантастики.
Отсюда, среди прочего, самый широкий интерес двух этих больших и сравнительно квалифицированных, требовательных групп читателей к фантастике в литературе и кино. Вот данные одного из немногих специальных эмпирических исследований на этот счет. Более 70 % выборки читателей НФ, обследованной Г. Альтовым, составили учащиеся юноши – школьники и студенты, в большей степени – естественники, математики, технари, заметно меньше – врачи, гуманитарии166. Между тем, удовлетворять этот, постоянно растущий интерес в советских условиях тех десятилетий было крайне затруднительно. Литература наиболее массового спроса, если она не носила на себе марку классики и идеологической выдержанности, издавалась чрезвычайно малыми тиражами и в очень небольшом количестве названий (в тематической структуре тогдашнего книгоиздания вся она, включая детектив, любовный роман и проч., не превышала 2 – 3 % номенклатуры и тиражного объема). НФ – в особенности переводная, но и отечественная также – подвергалась особой идеологической проверке: она ставила под вопрос будущее, а через него и прошлое, то есть – нынешнее настоящее. Динамика читательских запросов, стимулированных научно-техническим развитием страны, выросшим образовательным и цивилизационным уровнем населения, сталкивалась с остатками советского миссионерства, радикалами великодержавности, защитной реакцией репрессивных структур ослабевшего и начавшего распадаться тоталитарного социума. Книги научно-фантастического жанра формировали в тогдашних массовых библиотеках гигантский массив «неудовлетворенного спроса» и многомесячные очереди за нужным автором или новинкой.
Кроме того (и Г. Альтов отмечает этот момент), именно система преподавания в советских школах и вузах, построенная на строго отобранных, стерилизованных и препарированных классических образцах, а также на эпигонских по отношению к ним, идеологически выдержанных сочинениях назначенных советских «классиков», ожесточенно противилась изучению и преподаванию НФ. Тем самым задавался и ширился смысловой разрыв между «высокой культурой» и реальной современностью, между настоящим и будущим. В противовес этой консервативной школьной, а отчасти и библиотечной, системе на протяжении 1960 – 1970-х гг. начали складываться неформальные, не контролируемые идеологической бюрократией, но чрезвычайно распространенные среди жителей крупных городов связи «своих». По этим связям, как все современное, реально интересное и жизненно важное, передавались, среди прочего, книги серии «Зарубежная фантастика», сборники переводов издательства «Молодая гвардия» и т.п.
На этом массовом фоне собственно антиутопии, в условно-игровом модусе экспериментирующие с базовыми ценностями и моделями данного общества, сближались с авторской, поисковой, элитарной, арт-литературой (по аналогии с арт-кино). Они циркулировали в обиходе относительно специализированных групп, основополагающей ценностью и важной частью образа жизни которых выступала, среди прочего, сама свобода экспериментирования со смыслом, включая крайние ситуации производства как будто бы очевидной бессмыслицы, критическую деструкцию, провокацию коммуникативного шока, разрыва коммуникативных связей и проч. Понятно, что сколько-нибудь многочисленными такие смыслопроизводящие, экспериментирующие, критически настроенные группы не бывают и не могут быть. Однако развитые общества, можно сказать, в складчину кредитуют подобные узкие контингенты и группировки, поскольку их деятельность, как предполагается, обеспечивает разнообразие и динамизм таких обществ, противостоит возможной стагнации, обнаруживает культурные дефициты, лакуны, проблемные точки, узлы возможных конфликтов, чем стимулирует выработку соответствующих противодействий, систем опосредования, компенсации и т.п.
В советском обществе 1960 – 1970-х гг. подобные группы начали формироваться, однако действовали в «серой зоне» не полностью разрешенного, на правах дружеских компаний частных лиц. С одной стороны, эти фракции интеллигенции Москвы, Ленинграда, Новосибирска, еще нескольких крупнейших городов примыкали к бюрократии репродуктивных систем советского общества – ведомств культуры, образования, идеологии и проч. – или даже входили в нее. С другой, они находились в непосредственной близости ко «второй», полуразрешенной и вовсе запрещенной культуре, тоже – как и неформальные отношения в массе советского социума – объединявшей «своих», но в более узком масштабе, более закрытых формах, с повышенным значением символов лояльности. Границы между тремя этими достаточно тонкими слоями представителей, в общем-то, одной социальной группы (диссиденты и неформалы – продвинутая интеллигенция – номенклатура культурно-образовательных систем, средний состав ведомств идеологического контроля и управления) были подвижны, частично проницаемы, и через зазоры в них циркулировали, наряду с прочим, образцы «поисковой» словесности; более или менее по тем же капиллярам просачивался сам– и тамиздат167.
Фантастику Стругацких более ранних лет, с несколько большим уклоном в научно-техническую сторону («Страна багровых туч», в меньшей мере – «Трудно быть богом»), чаще можно было встретить в круге чтения старших школьников, студентов-естественников, ИТР. Притчево-гротескную, социально-абсурдистскую («Улитка…», «Сказка о тройке», «Пикник…», «Жук в муравейнике») – в кружках гуманитарной интеллигенции крупных городов, в среде представителей «второй» культуры. Среди этих последних ходили и неподцензурные зарубежные – немецкие, американские – издания их книг на русском языке.
Не претендуя на системность, я выделю в социально-философской фантастике Стругацких лишь несколько планов или кругов проблематики. Ограничусь четырьмя, не думая исчерпать их своим описанием, а скорее намечая направления возможного исследования совместными силами каких-то завтрашних социологов, культурологов, историков, буде таковые появятся. С одной стороны (назову ее социологической), эти комплексы проблем связаны с социальной и культурной ситуацией позднесоветского общества, его внутренними конфликтами и дефицитами, представляя собой их литературную транскрипцию в определенной ценностной перспективе и определенными экспрессивно-символическими средствами, приемами определенной поэтики. С другой стороны, именно эти проблемные комплексы, узлы напряжений, взятые, как уже сказано, в определенной ценностной перспективе, и привлекали в наибольшей степени внимание читателей-современников (так это, по крайней мере, видится мне, тогдашнему читателю).
Во-первых, фантастика Стругацких строилась на точном (как тогда говорили, реалистическом) воссоздании реальности, окружавшей человека 1960 – 1970-х гг. у нас в стране. Читателей не оставляло впечатление, что у героев, ситуаций, деталей обстановки «Понедельника…», «Улитки…», «Пикника…», «Жука в муравейнике» и проч. – всего этого столь заботливо разгороженного и вооруженного бесчисленными пропусками бардака, всех этих бессмысленных контор и тошнотворных столовок, тесных кухонь и непролазно грязных улиц – имелись реальные прототипы, почему они тут же и опознавались публикой как «свои». Но структура восприятия – процесс усмотрения и признания подобного сходства – была здесь, мне кажется, более сложной.
Речь не шла ни о каком «отражении» и тому подобных идеологических фикциях из тогдашних псевдофилософских и квазилитературоведческих талмудов «о природе искусства». Ход мысли и письма Стругацких, их авторская оптика (я не пишу сейчас их биографию и не занимаюсь психологией, а пытаюсь реконструировать логику) делали – делали у нас, читателей, в головах – окружающую реальность фантастической, сновиденной. Средствами их сознательно и тонко выстроенного искусства нашей реальности у нас на глазах возвращался ее условный, сконструированный, «постановочный» характер. И вот уже в этом, новом – или, точнее, обновленном – риторическом качестве она воспринималась нами как прототип, прообраз, модель их прозы, а проза – как ее верный сколок. Такая двойная перекодировка, еще более наглядная и острее ощутимая при визуализации прозы Стругацких средствами авторского кино, делала, скажем, Москву-Товарную Киевской железнодорожной ветки в «Сталкере» абсолютно узнаваемой «зоной» (как будто кто-то из зрителей эту зону видел!), а окраину туркменского городка в «Днях затмения» – сценой конца света, словно кто-то из нас и вправду был его очевидцем.
Напомню соображения Юрия Тынянова, относившиеся к 1923 – 1924 гг. (его обзор текущей словесности «Литературное сегодня»): «И еще одному научила нас фантастика: нет фантастической вещи, и каждая вещь может быть фантастична. Есть фантастика, которая воспринимается как провинциальные декорации, с этими тряпками нечего делать. И точно так же есть быт, который воспринимается как провинциальная декорация <…>. Происходит странное дело: литература, из сил выбивающаяся, чтобы “отразить” быт, – делает невероятным самый быт»168. Стругацкие делают, можно сказать, противоположный ход. Своей фантастикой они дискредитируют реальность, объявляют ее банкротство. Но вместе с тем, уже в этом, отмеченном и оцененном ими качестве, окружающее воспринимается подготовленным, «понимающим» читателем как реальное и как «предыстория» прозы Стругацких. Публика воспринимает именно скоординированность двух этих планов собственного сознания, которой (скоординированности, связи, взаимообратимости) и дает название, шифр, метку, именуя ее «реалистичностью».
Так что смысл «хода Стругацких» мне видится не в том, чтобы попросту объявить реальность ложной и этим ее ниспровергнуть: как резонно замечает в близком контексте Сьюзен Зонтаг, «коллективные кошмары не устранить простым показом того, что они – в моральном или интеллектуальном смысле – ложны. Этот кошмар слишком близок к нашей реальности»169, а в том, чтобы одновременно продемонстрировать близость лжи к реальности, показывать их параллельное конструирование, взаимоотражение, взаимопросвечивание. Разовой акцией ниспровержения (фокус «голого короля») подобная сдвоенная, скоординированная конструкция не устранима. Ее основания лежат глубже и требуют других, более тонких и долгих форм понимательной, деконструирующей, пропедевтической работы.
Второй важный план. Реальность у Стругацких – и в «Улитке…», «Пикнике…», может быть, особенно – это реальность после Вавилонского столпотворения, обстановка времени «пост-», обиход каких-то «задов» цивилизации или даже множества цивилизаций. Перед нами догнивающая свалка или помойка различных жизненных укладов – могильник отходов разных вер, языков, имен, где, скажем, вольтеровский Кандид встречается с язычески-символистской Навой, а еврейский Перец превращается в русско-советского Перчика. Дело не только в том, что все вокруг героев носит явные следы упадка, заношенности, истрепанности, а то и вовсе ни к чему непригодности (хотя этот фрустрирующий, даже шоковый момент узнавания-расподобления с окружающим миром, который знаком, но с которым невозможно и не хочется слиться, советский читатель болезненно узнаёт и это узнавание по-своему ценит). Может быть, еще существеннее другое: ощущение, что все уже в некотором смысле произошло, закончилось, отбой. Изношены и не нужны ни другим, ни себе сами люди. Большинство их приняло подобное определение реальности, так и живет или, скорее, выживает, доживает. «У них нет только одного: понимания», – отмечает Перец в «Улитке…». А потому им «проще плюнуть, чем понять».
Считаные единицы – как тот же Перец, как Кандид, если ограничиваться «Улиткой…», – пытаются отстоять как единственно возможную для себя позицию повседневный, ничем не обеспеченный, ничего не гарантирующий и никуда не ведущий стоицизм170. Имея в виду проникновение начатков и обрывков французского экзистенциализма в советскую культуру начала 1960-х, можно сказать, что они выбирают «абсурд», в том числе его ироническую или пародическую версию – тональность, особенно ощутимая в «Понедельнике…», но присутствующая практически во всех вещах Стругацких (пародийно, добавлю, звучат по большей части и имена их героев – особенно в столкновении друг с другом). Понятно, что места в реальности им нет. «А где же моя-то трубка?» – безответно допытывается герой «Улитки…», чувствующий себя (не без отсылки, опять-таки, к экзистенциализму) «посторонним». В любом случае позиция подобных одиночек, так же как пронырливость номенклатурных приспособленцев и пассивная адаптация массы, – это, конечно, контражур для того официально-парадного героизма, который начал явно раздуваться советской пропагандой в 1960-х гг. (освоение целины, победы в космосе), но особенно – с середины 1960-х гг. до середины 1970-х (двадцатилетие и тридцатилетие победы в войне).
Отсюда – третий важный комплекс проблематики, поднятой Стругацкими. Литературные критики называли их фантастику социальной, социально-философской – и они, конечно, правы. Их повести и романы исследуют способность и возможность людей существовать вместе – обживать, поддерживать, подправлять формы совместного существования, а если нужно – искать и строить другие. Образ социального мира в прозе Стругацких, как в такого рода фантастике вообще, – это образ «модерного» общества с его конфликтами между природой и техникой, техникой и человеком, властью и массой, массой и индивидом. Противопоставление «учреждения» и «леса», города и деревни, техники и души в «Трудно быть богом» и «Улитке…», «Пикнике…» и «За миллиард лет…» использует достаточно разработанный симболарий современной культуры, в том числе – утопий и антиутопий Новейшего времени.
Но этот образ, с одной стороны, как уже говорилось, пародиен: это постсовременный коллаж на темы модерности. Символы современного – от социальных отношений до технических устройств, от имен героев до вещей обихода, включая, что важно, книги, – фигурируют тут в рамках и в функциях, напоминающих то, что этнографы описывают как «культ карго» (cargo cult). Так обозначаются формальные, семантические и другие метаморфозы, которым подвергаются в племенных обществах, в традиционной культуре попадающие в их уклад образцы, например, современной техники (скажем, в результате кораблекрушений или авиакатастроф). Они – как чужое, сверхъестественное, относящееся к иной природе – вводятся в мир, делящийся на «живых» и «мертвых», «нас» и «их», превращаются в предметы культа, которые используются в магических целях и подвергаются магическим же санкциям (допустим, «наказываются», если не исполняют нужных функций). Применительно к тоталитарным утопиям в реальности ХХ столетия подобную метаморфозу описал Джордж Оруэлл, говоря о соединении в них порядка, планирования, науки, самой совершенной техники с идеями, «подобающими каменному веку»171.
С другой же стороны, картина социального мира у Стругацких, о чем уже упоминалось, подчеркнуто реалистична, если не документальна. Почему и город у Стругацких – не Рим, куда ведут все дороги: он, как в «Улитке…» (или как в платоновском «Чевенгуре»), недоступен, «туда никто живым не доходил». Воздух такого города – вспомним «Пикник…» – не делает свободным, напротив, чаще всего он выступает подобием оруэлловского «осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины»172. Вымершая и одичавшая деревня Стругацких, к примеру в «Улитке…», напоминает, опять-таки, о платоновском «Чевенгуре», его бедняцкой хронике «Впрок», о написанных вместе с Пильняком очерках «ЦЧО» и воспроизводит то ли уклад оголодавшей и раздавленной деревни времен сталинского «великого перелома», то ли летаргию чуть живого послевоенного села (первая часть «Улитки…» датирована 1965 г. – замечу, еще не опубликованы ни «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы» Белова, ни «Прощание с Матерой» Распутина, ни астафьевский «Последний поклон», так что «Улитка…» встает здесь рядом с первыми очерками Дороша и Солоухина, ранними рассказами Казакова и Шукшина).
И с этим связан последний смысловой момент в прозе Стругацких, на который я хотел бы коротко, но настойчиво указать. При всей социальной направленности их повестей и романов (и в этом одна из их кардинальных особенностей и отличий от большей части научной фантастики массового обращения и социализирующего типа) главный предмет интереса авторов, по-моему, – не ресурсы техники и даже не столько перспективы общества, сколько характер и устройство человека. Их проза последовательно антропологична. Она занимается моральной конституцией того типа человека, который сложился в советской России на протяжении нескольких десятилетий ее катастрофической истории, – вот чьи ресурсы интересуют Стругацких.
В «Улитке…» это с особенной четкостью видно не только, что называется, по содержанию – стоический протест «маленького человека», несогласного оставаться «униженным и оскорбленным». Антропология тут воплощается в поэтике. Повествование ведется от третьего лица, но по форме это скорее несобственно-прямая, косвенная речь, в которой ведущий тон задают мысль и высказывание героя (двух главных героев): это и есть та искомая и ненайденная «трубка», через которую герой не выслушивает чужой приказ, а сказывается сам. Повесть смотрит на мир глазами Переца и Кандида (см. выше о субъективной камере в «Сталкере»). Вездесущему же, всезнающему и самоуправному автору – авторитарному автору, можно было бы сказать, – места в повести нет: он, в буквальном смысле, лишен слова.
В заключение приведу некоторые социологические данные о читательском интересе к фантастике в целом и книгам Стругацких в частности. Они получены Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр, ранее – ВЦИОМ, ВЦИОМ-А) в ходе общероссийских и московских опросов 1990 – 2000-х гг.
КАКИЕ КНИГИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЧАЩЕ ДРУГИХ (1994)?
КАКИЕ КНИГИ ВЫ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ (1997)?
(«закрытые» вопросы; приводится ответ: «фантастику»)
Как видим, обращение к фантастике – характеристика действительно фазовая. Она, как уже говорилось, связана с процессами социализации в современности, а значит – с более молодыми, образованными и урбанизированными, более динамичными группами. Рост показателей чтения фантастики на протяжении 1990-х гг., также различимый в приводимых данных, связан, как можно предположить, со все большей доступностью книг массовых жанров – ростом числа их названий, увеличением тиражей, повторными изданиями.
Среди книг, купленных «в последнее время», фантастику в 1994 г. назвали чуть более 6 % опрошенных. Любят читать фантастику, по их словам, 15 % опрошенных в 2000 г., столько же – в 2002-м, причем все больше интереса стала привлекать фантастика ужасов, готики, «мистики» (ее сегодня читают едва ли не больше, чем традиционную – о технике и обществе будущего). 4 % опрошенных в 1999 г., 3 % – в 2003-м сказали, что, среди других книг, берут фантастику в массовой библиотеке.
При этом самыми выдающими писателями ХХ в. Стругацких назвали в 1998 г. 3% опрошенных москвичей (открытый вопрос без подсказок). Таков же масштаб признания классиком у А. Толстого и А. Фадеева, А. Куприна и М. Цветаевой, В. Пикуля и А. Марининой, А. Блока и Б. Пастернака, К. Симонова, А. Твардовского, В. Аксенова (лидеры – Шолохов и Булгаков – собрали по 11 % голосов; 43 % не нашли что ответить). Среди прочитанных и купленных «в последнее время» книг произведения Стругацких в 2003 г. назвали полпроцента россиян; столько же называли их в 1992 г. любимыми писателями, примерно таковы же были тогда цифры по Ж. Верну, И. Ефремову и А. Беляеву (в обоих исследованиях использовался «открытый» вопрос без подсказок).
Для дальнейшего более подробного исследования укажу, что книги Стругацких сегодня издаются, с одной стороны, как произведения неоспоримых классиков – это собрания сочинений в переплетах, с тиснением и т.п. С другой стороны, серийные издания и броское оформление ставят их для читателей, как и книги, например, Кира Булычева, в ряд актуальной литературы массового спроса. Стоит, впрочем, отметить, что граница между двумя этими типами изданий (шрифтами, типами оформления, форматом, размером тиража, ценой, предполагаемой адресацией) в современной российской книжной культуре весьма зыбка, что само представляет комплекс проблем для эмпирического изучения.
Так или иначе, и общественный, и культурный контекст восприятия книг Стругацких заметно изменились: их повести и романы встают теперь в один ряд не с С. Гансовским и Е. Парновым, не с М. Емцевым и И. Варшавским, а с авторами следующего поколения и еще более молодыми. Насколько могу судить как читатель и социолог, занимающийся проблемами массового чтения, для нынешних наиболее активных, ищущих читателей (а это околоуниверситетская молодежь крупнейших городов и ориентирующиеся на нее группы) книги Стругацких, чье социальное содержание все более обобщается до экзистенциальных притч, по поэтике оказываются ближе всего, вероятно, к переводным романам в жанре киберпанка (У. Гибсон, Б. Стерлинг) и к отдельным направлениям отечественной фэнтези иронически-игрового типа (скажем, книгам М. Успенского и А. Лазарчука, А. Тюрина и В. Васильева).
Подобные метаморфозы в литературе – в общем-то, обычная вещь, как и быстрое умножение жанровых подтипов и подсемейств. Наряду с уже перечисленными образцами фантастических повествований в обиходе современных читателей и на полках книжных магазинов можно встретить – говорю лишь о наиболее заметных массивах литературной фантастики и ее обобщенных типах, которые здесь только и выделяю, – космические боевики (М. Семенова, Вас. Головачев); мифопатриотическую фантастику (похождения русских как в будущие, так и в прошлые цивилизации – вроде сочинений Ю. Петухова173); «сакральную фантастику» (как озаглавлены пять сборников, изданных под редакцией Д. Володихина и включающих произведения Е. Хаецкой, М. Галиной, самого составителя и др.)174; неоимперские фэнтези в духе «альтернативной истории» (Э. Геворкян, Л. Вершинин, Д. Янковский и др.)175. Характерный для последних 5 – 7 лет и связанный с более широким политическим, идеологическим контекстом неотрадиционалистски-националистический «поворот» в нынешней российской литературной фантастике, символика и поэтика этой словесности, а также круги ее читателей, характер их читательских ожиданий, восприятия и оценки требуют дальнейших исследований силами социологов, историков литературы и культуры, может быть – психологов и педагогов.
2006
ЧИТАТЕЛЬ В ОБЩЕСТВЕ ЗРИТЕЛЕЙ
При суммарных оценках перемен, произошедших в России за 1990-е гг., печать и другие массмедиа чаще всего оперируют представлениями об экономике и политике. Одни, идя от своих идеологических предпочтений, отмечают симптомы застоя и упадка; другие, напротив, подчеркивают активизацию, рост тех или иных показателей. Тем самым, как бы в соответствии с неким негласным пактом, принимаются в расчет, больше того – выступают своего рода эталонными исключительно те действия, которые направлены на коллективное достижение целей. Они, можно сказать, подчинены диктату цели, причем в изобилии, даже до оскомины, представлены и разжеваны зрителям.
Куда в меньшей степени массмедийные комментаторы и политические демагоги обращают внимание на принципиально иные типы и мотивы человеческого поведения. Например, на те действия, которые в перспективе ориентированы на установление заинтересованного согласия, на поддержание взаимопонимания и взаимодействия. Такие поступки и стимулы зачастую не только скрыты от постороннего взгляда, но не всегда видны и самим миллионам и миллионам участников, поскольку растворены в ускользающем и неизменном потоке привычного обихода. Для социологии подобные действия, их формы и смысловые основы – ценности, нормы, идеи, символы, представления, оценки – охватываются понятием культуры и рассматриваются при анализе так называемых репродуктивных институтов общества (семьи, подсистем образования, массмедиа, издания и распространения книг, массового восприятия искусства, религиозных институций, моральных установлений, повседневной жизни и др.). Приходится признать, что данная сфера нечасто выступает сегодня предметом активного интеллектуального интереса, тем более – профессионального изучения, а не просто ведомственных деклараций и конъюнктурных спекуляций в публично демонстрируемых дискуссиях или хорошо рассчитанных скандалах.
Почти два десятилетия назад Фридрих Тенбрук говорил применительно к ФРГ о замене культурных функций интеллектуалов «политической экспертизой» и указывал на ее прямой результат. В подобных условиях социальные науки, по его словам, обращаются к вопросам нравственности, только если сталкиваются с фактами «отклоняющегося» поведения и не могут сказать ничего осмысленного «о долге и участи, заботе и жертвенности» человека176. Этот критический диагноз можно в большой мере отнести к сегодняшней российской социальной реальности, к расхожей практике ее изучения и оценки. Между тем, социальный опыт 1990-х гг. все больше склоняет к мысли, что главные проблемы российского общества сосредоточены именно в сфере культуры. А сходятся они в «институте институтов» (выражение Юрия Левады), в антропологическом типе «человека советского» – с его установками и оценками, представлениями о мире и себе подобных, верой и моралью – в постсоветских условиях существования. Предметом этой статьи являются две взаимосвязанные «детали» репродуктивной системы нынешнего российского общества – массовое чтение и общедоступная библиотека177.
Сегодня в стране активно идут процессы массовой социальной адаптации – выживания, приспособления индивида и первичных коллективов (прежде всего, семей) при ограниченных ресурсах денег и связей, образования и квалификации, социального воображения и профессиональной лабильности, ценой снижения статуса, сужения области социальных контактов и общих интересов, постоянного упрощения структуры запросов и ослабления требований к качеству потребляемых благ, продуктов, жизни вообще. 19 % взрослого населения в марте 2004 г. заявили, что не могут и не смогут приспособиться к произошедшим переменам, 22 % надеются приспособиться в ближайшем будущем, более половины (57 %) считают, что так или иначе уже приспособились178. При этом более 20 % россиян (данные на октябрь 2003 г.) приходится часто или время от времени ограничивать себя в потреблении света и тепла, 40 % – в еде, 55 % – в покупке одежды и обуви.
Одним из аспектов подобной «понижающей» и упрощающей адаптации выступает последовательное одомашнивание досуга, обеднение его структуры. В сферу более или менее постоянных культурных коммуникаций половины жителей России за 1990-е гг. перестали входить музеи и театры. Из культурной жизни обычных россиян практически нацело выпали кинотеатры (доля посещающих их хотя бы раз месяц составляет сегодня меньше 6 % взрослого населения, в 1990-м – 32 %, а никогда не бывающих в кино, соответственно, 76 и 27 %), их число, даже по официальным данным, сократилось более чем вчетверо, а количество кинопосещений – в тридцать три раза179. Такой фигуры, как многомиллионный кинозритель советской эпохи, больше не существует. У подавляющего большинства российского населения свободное от работы и домашних дел время в последние годы фактически целиком занято просмотром телевизионных программ (прежде всего, двух первых, целиком огосударствленных каналов)180.
Понятно, что упомянутое «большинство» сдвинуто в сторону пожилых и менее образованных групп. Они находятся на географической, социальной, культурной периферии социума, значительно слабее включены как в деловые формальные коммуникации, так и в досуговые межличностные контакты. В будни перед телевизором средняя российская семья проводит от 3 до 4, по выходным – от 4 до 5 часов. При этом 81 % россиян смотрят ТВ, прежде всего чтобы узнать новости (чаще такова мотивировка пожилых респондентов), 78 % – чтобы отдохнуть, развлечься (такие ответы чаще дает молодежь). Остальные мотивы назывались опрошенными в 2000 – 2003 гг. как минимум вдвое реже, а то и совсем редко (например, «приобщение к образцам культуры» оказывалось значимо только для отдельных контингентов, в основном – людей с высшим образованием).
Дело здесь, понятно, не только в количестве просматриваемого, но и в его качестве. Коллегам автора и ему самому уже приходилось писать о двух важнейших факторах воздействия массового телесмотрения на отношение россиян к социальному миру, к жизни, к окружающим людям. С одной стороны, речь идет о некоем зрительском взгляде на мир, о чем-то вроде внимания проходящего мимо зеваки, который как будто бы привлечен зрелищем и в то же время остается от него дистанцированным: дескать, оно и занятно, да не мое, а происходит где-то далеко, там, «у них». Имеется в виду характерное именно для телезрителей смешение вовлеченности в зрелище, невозможности обойтись без него с недовольством и раздражением по его поводу. Большинство телезрителей не удовлетворено именно теми передачами, которые они чаще всего и больше всего по времени смотрят. Нетрудно показать – да это уже не раз и делалось, – что ровно так же россияне в массе чаще всего относятся к власти и к своей стране, к самим себе как целому («мы») и к собственному православию, к церкви181.
Унификация и омассовление досуга самым серьезным образом затронули и чтение россиян. С одной стороны, это стало результатом активной работы соответствующих аудиовизуальных медиа (телевидение двух упомянутых основных каналов) и ориентирующихся на них издательских структур, редакций популярных газет – «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», крупнейших издательств-монополистов – «Эксмо», «Олма», «АСТ». Они все больше концентрировались на сравнительно нешироком спектре простых и броских тем, сюжетов, стилистических средств, пользующихся немедленным признанием самой широкой публики и в остросюжетной форме представляющих задачи, проблемы, конфликты той самой социальной адаптации (см. выше) – ставшие проблематичными для большинства нормы общежития, разновидности отклоняющегося поведения. С другой стороны, этот сдвиг в сторону близких по типу, массовых ожиданий, запросов и вкусов публики сопровождался эрозией и распадом прежних культурных «элит», продвинутых групп позднесоветской письменно образованной интеллигенции со своим образом мира, представлением о собственной миссии, стандартами «высокой», «настоящей» культуры и механизмами их воспроизводства (школа, библиотека, литературная и художественная критика). Эти сдвиги, их последствия для разных групп производителей и потребителей можно охарактеризовать как разгосударствление книгоиздания и демобилизацию книжной культуры. Так, государственные издательства в 2000 г. выпустили уже всего лишь 19 % названий книгопродукции и 15 % по совокупному тиражу, в то время как негосударственные, в том числе вневедомственные, – соответственно 54 и 82%182.
При этом тиражи издаваемых книг на протяжении 1990-х гг. последовательно сокращались. Если средний тираж одной книги в 1990 г. составлял 38 тысяч, то в 1995 г. он едва достигал 14 тысяч, в 2000 г. – 8 тысяч, а к февралю 2002 г. составил 7710 экземпляров (за 2003 г. этот усредненный показатель вырос до 8970 экземпляров). Параллельно произошла достаточно резкая поляризация изданий для узкого круга, с одной стороны, и для широкого читателя, с другой. Именно книги для широкого читателя составляют основную массу предлагаемых обычному россиянину в больших специализированных магазинах столицы и крупнейших городов, в уличных и вокзальных киосках. Издания, которые можно условно считать массовыми (тираж 50 тысяч экземпляров и выше), составили по названиям лишь 2,3 % книг, вышедших в 2001 г., тогда как изданные тиражом до 500 экземпляров (условно можно считать это тиражом специализированной книги и приравненных к ней новых, еще не апробированных образцов литературы) составили в том же году 35,5 % годового выпуска.
С относительным разгосударствлением культуры (точнее, централизованной организации и монопольно-ведомственного управления) связана и потеря позднесоветской интеллигенцией своего социального статуса, места в культурной жизни, авторитета в более широких слоях населения, способностей нормальной массовой репродукции через систему высшего образования. Процесс такого масштаба и содержания, в свою очередь, принципиально изменил структуру печатных коммуникаций и вообще культурной жизни в стране. Так, заметно сократился объем постоянно читаемых газет и журналов, более чем на порядок уменьшились в среднем их тиражи. Средний тираж одной газеты в России с 1990 по 2001 г. упал почти вдвое, но у центральных газет всероссийского масштаба – их число за этот период выросло более чем впятеро – он сократился в 25 раз183. Крупных и авторитетных общенациональных газет в России, в отличие от развитых стран мира, до сих пор не существует. Совокупный разовый тираж журналов (за это время их количество выросло почти втрое) сократился в 6 – 7 раз184, но наиболее читаемых – опять-таки в 25 и более раз. Попробуем представить себе масштаб такого сокращения наглядно. Вообразим, что в городе с населением в миллион из жителей осталось лишь 40 тысяч. А 40 тысяч не могут быть организованы так же, как миллион: это другое агрегатное состояние социального вещества – оно более разрыхлено и распылено, тогда как связи между частицами, фрагментами, обломками более редки, ослаблены, обеднены.
Те, кто читает газеты каждый день, составили в 2002 г. меньше четверти взрослого населения (в 1990 г. они составляли почти две трети его – 64 %), доля же не читающих газеты выросла более чем вдвое (сегодня это 15 % россиян). Газеты утратили ведущую роль аналитического источника информации о текущих событиях, но сохранились в качестве еженедельных таблоидов (для центральных изданий) или региональных еженедельных обозрений экономической конъюнктуры, локальных рынков жилья, продуктов и товаров, сенсационно-развлекательных изданий либо «вестников» местных властей. Чтение газет стало занятием еженедельным: с такой частотой сегодня обращаются к газетам в России две трети тех, кто их вообще читает.
Примерно в том же направлении трансформировалась журнальная публика. Она и сократилась в абсолютных масштабах, и изменила структуру. Как и в газетах, сохранились главным образом еженедельники, тонкие глянцевые журналы, задающие социальный ритм общественной жизни, не обремененные, как это было в советские времена с толстыми журналами, собственно «литературой» (художественными текстами или большеформатной публицистикой), вообще объемными печатными материалами, но и не опускающиеся до газетного мелкотемья либо пустой хроники. Сокращение журнальной публики произошло за счет регулярных читателей (показатели ежедневного чтения упали – с 16 % до 7 %) и случайных читателей, обращавшихся к какой-то одной публикации (для групп, читающих их не реже одного раза в месяц, – уменьшилась с 32 % до 17 %). И в том и в другом случае сказывается падение роли толстых журналов, бывших главным каналом сравнительно добротной или средней по качеству литературы, публицистики, критики.
Важно подчеркнуть, что за указанные годы кардинальным образом уменьшилось не только фактическое потребление печати россиянами. Упало массовое доверие к печати (именно к печати!) как источнику информации, квалифицированного анализа и оценки. Если в 1989 г. «полностью доверяли» массмедиа 38 % россиян (40 % – частично), то в 2003 г. первых осталось лишь 22 % и с ними сравнялась доля полностью не доверяющих печати, радио, телевидению (46 % доверяют им частично).
С ушедшей волной перестроечных иллюзий и эйфории времен первоначальной гласности резко сократилось полное доверие к СМК, которые в конце 1980-х – начале 1990-х гг. выступали и средством, и мерой социокультурных перемен в стране. Отношение жителей России ко всей сфере массовых коммуникаций стало сдержанным, скептическим, менее идеологизированным, но более потребительским. Нередко оно мотивировано теперь поисками легкого развлечения, желанием «расслабиться» и «оттянуться». Но характерно при этом, что наиболее сильные изменения произошли в группах читателей, бывших ранее самыми продвинутыми и политически ангажированными, – среди городских жителей, а особенно жителей крупных городов и мегаполисов. Здесь недоверие к печатным каналам информации преобладает абсолютно.
С телевидением ситуация иная: тут столь значительной разницы между городом и селом, центром и периферией нет. Телекоммуникация – мысль, с особой настойчивостью развивавшаяся в свое время Маршаллом Маклюэном, – задает или создает собственную аудиторию, в целом усредняя публику, стирая различия между разными группами по уровню образования, культурного или социального капитала. И если в декабре 2002 г. лишь каждый третий горожанин в России доверял газетам и еще меньше (29 %) журналам (не доверяли им соответственно 60 % и 49 %), то телевидению выражали доверие более половины при 42 % ему в целом не доверявших.
Менее подготовленные слои публики, которые раньше обращались к журналам и книгам достаточно редко, несистематично, от случая к случаю, теперь и вовсе сосредоточились, как уже было сказано, на телевизоре. Более же образованные жители России, живущие в средних и особенно в крупных городах, имеющие сравнительно большие домашние библиотеки и устойчивую привычку к чтению журналов и книг, в целом незначительно изменили частоту чтения. Некоторый количественный эффект – прирост числа ежедневно читающих художественную литературу в первой половине 1990-х – был вызван лишь расширением общего доступа к массовой словесности, которая прежде была недостижимой или дефицитной. Но что трансформировалось куда более серьезно – это жанрово-тематическая структура читаемого. Читатели из интеллигенции, особенно – инженерно-технической, а также из близких к ней или ориентировавшихся на нее прежде кругов во многом переключились за 1990-е гг. на чтение жанровой и серийной литературы, а также на те типы телепередач, которые по форме, смыслу и функциям максимально близки к жанровой словесности. Это остросюжетные фильмы (детективы, боевики), кино– и телемелодрамы, костюмно-исторические ленты и экранизации с криминально-мелодраматическими элементами, бытовые и уголовные телесериалы, сначала зарубежного, а теперь все чаще отечественного производства, которые, впрочем, кроят сегодня мастера, выписанные из крупных американских кинокомпаний (так, в телевизионной рекламе новозеландское масло «Сударушка» аттестуют как родное и старинное).
Во многом этим трансформациям способствовали, как уже говорилось, сдвиги в издательской политике, которая и сама стала на протяжении 1990-х гг. все больше ориентироваться на массовые предпочтения и вкусы, поддерживать соответствующие контингенты читателей с их запросами и ожиданиями как свою сегодняшнюю и безотказную экономическую опору. И это отчасти понятно. В книгоиздание – особенно в издательства-гиганты – пришли в эти годы новые люди из других, не книжных сфер; чаще всего они были достаточно далеки от интеллигентских установок и оценок. Однако стоит особо подчеркнуть, что в переходе читателей на жанровое, остросюжетное, сенсационно-развлекательное чтение лидировали как раз бывшие интеллигенты, люди с высшим образованием. Именно они с толстых журналов, дефицитной прежде проблемной и поисковой, острокритической и морально-притчевой литературы переключились на развлекательно-массовые жанры словесности. Сегодня почитателей популярных словесных жанров и формульных повествований – за исключением переводных любовных романов, зарубежной детективной классики, где читателей из всех образовательных групп поровну, да еще фантастики, которую всегда активнее читали школьники, – чаще встретишь среди взрослых горожан с высшим образованием. Если же учесть последовательное снижение интенсивности чтения в менее образованных группах, то единственным отличием «образованных» от «необразованных» по содержанию чтения можно считать сейчас лишь декларированное обращение к русской и зарубежной классике, к поэзии (в какой мере за этим стоит реальное чтение, а в какой – демонстрация символов образовательного уровня и культурного статуса, сейчас не обсуждаю).
В числе значимых изменений в ожиданиях и привычках зрительской аудитории за 1994 – 2000 гг. можно отметить также рост интереса к комедиям (с 54 % до 66 % опрошенных), к отечественным детективам, боевикам (с 36 % до 44 %), падение интереса к историческим фильмам (с 30 % до 23 %) и эротике, утратившей прежнюю привлекательность запретного плода (с 12 % до 6 %). Подчеркнем, что фактически речь здесь идет – хотя впрямую об этом и не говорится – о предпочтениях, опять-таки, телевизионной аудитории, поскольку кинопрокат, как уже говорилось, съежился до минимума.
Аудитория кинотеатров не просто в десятки раз сократилась: она – по составу людей, их ценностям и установкам – стала совершенно другой и особой средой, обладает выраженными, даже подчеркнутыми социально-демографическими характеристиками, культурными чертами. Сегодняшние кинозрители – это прежде всего городская молодежь, обеспеченная и относительно образованная, следящая за новинками и узнающая о них, в основном, по Интернету либо из еженедельных и недешевых глянцевых журналов типа «Афиши». Посещение кино стало для молодежи самостоятельной формой демонстративного потребительского поведения. Эти люди идут в кино как в своего рода клуб – малой группой, компанией, а в фойе, буфетах и зрительных залах встречают таких же людей (добавлю, что они заметно активнее, чем прочие, посещают вечерние и спортивные клубы, дискотеки и тренажерные залы, чаще читают модные новинки, бывают за границей на недорогих курортах и т.п.).
Обеднение структуры досуга большинства за счет его практически полной телевизации, унификация в этом плане запросов и вкусов даже у более образованных групп российского населения, социальный и культурный крах интеллигенции за 1990-е гг. выразились и в том, что среди домашних библиотек как автономных источников сведений о мире, обществе, человеке доля больших и разнообразных по составу книжных собраний заметно уменьшилась. Вместе с тем, удельный вес семей, в которых либо вовсе нет книг, либо их набор случаен, либо это небольшие собрания одного типа литературы (детективы, любовные романы, некоторое количество подручных справочников и другой рецептурной книгопродукции – лечебной, учебной, душеспасительной), – за эти годы увеличился. Если в 1995 г. семьи с библиотеками свыше 500 книг составляли 10 % российского населения, то в 2002-м – 4 %; фактически не имели большой и структурированной домашней библиотеки (вовсе не было книг либо насчитывалось до 100 изданий) 58 % россиян, тогда как теперь – 67 %.
Речь идет об очень значительном сокращении того культурного слоя в стране, который располагал – и нередко уже не в первом поколении – самостоятельными культурными капиталами и который мог бы, кажется, стать основой воспроизводства национальной элиты. За шесть лет (1995 – 2001) дифференцированные смысловые ресурсы этого слоя носителей «культуры» (в собственном смысле слова) сократились, как видим, более чем вдвое. Это, как можно предположить, связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, наиболее тиражируемые сегодня культурные образцы содержат, вероятно, слишком мало значимого для нового поколения, которое перестает поэтому покупать книги, заменяя чтение другими видами культурного поведения, обращаясь к другим источникам ценностей и информации (кроме посещения кинотеатров, то же самое можно было бы сказать про дискотеки, клубы, кафе, игровые залы и другие формы организации досуга и рекреативного пространства в крупнейших городах). Во-вторых, мы имеем здесь дело с резкой деградацией образованного слоя в провинции, распадом той советской научно-технической интеллигенции, которая в советское время обслуживала главным образом нужды ВПК и которая больше, чем другие категории общества, потеряла от реформ первой половины 1990-х в социальном статусе, уровне жизни, престиже. Именно эти люди были тогда главными, наиболее заинтересованными и активными массовыми читателями. В-третьих, резкое сокращение доходов у провинциальной интеллигенции, вкупе с прекращением книгопоставок в периферийные города (развалом общегосударственной системы книготорговли), непомерным удорожанием доставки журналов по почте, которая осталась монополией государства, привели к систематическому сокращению личного, семейного приобретения книг и журналов.
В более общем плане сегодня можно говорить о глубоком, усиливающемся и расширяющемся разрыве между немногими центрами и обширной периферией постсоветского общества, между более молодыми и старшими поколениями российского социума, более успешными и с трудом адаптирующимися его группами185. Я вижу в этом выражение распада прежней модели государственно-централизованной организации общества, системы управления культурой. В плане книжного обеспечения, распространения журнальной печати, а значит – ценностей, задач и проблем, мировоззрения продвинутых групп социума данный разрыв, насколько можно судить, проходит по линии средних городов, с населением около 500 тысяч. «Ниже» этого уровня централизованные сети книжного и журнального распространения не дотягиваются. Представители крупнейших издательств-монополистов, держащих наиболее высокие тиражи, заявляют об этом открыто. Для мелких издательств проблема распространения не может решаться без поддержки негосударственных фондов. Поэтому в последние годы, после сворачивания деятельности Фонда Сороса, распространение их изданий едва ли не свелось к нулю.
Сколько-нибудь мощных, влиятельных самоорганизующихся групп и самостоятельных культурных форм выражения их ценностей, интересов, картин мира на периферии чаще всего не возникает. Так создается обширная, охватывающая до двух третей нынешнего населения, зона социокультурного провинциализма, где работают рудименты более архаичных культурных систем – радикалов советской культуры, эпигонских неотрадиционалистских, фундаменталистских, расистских и тому подобных представлений. Если учесть фактическое сворачивание альтернативных государственным и ведомственным «общественных» библиотек, как будто начавших формироваться в конце 1980-х – начале 1990-х гг.186, падение книжной, журнальной и другой обеспеченности средних школ, снижение уровня школьного и вузовского преподавания, требований и стандартов обучения187, то указанный разрыв оказывается в перспективе чрезвычайно серьезным.
Обобщая результаты специального исследования читательского спроса в 2003 г.188, можно сказать, что книги в современной России являются прежде всего инструментом первичной социализации, обучения самым общим навыкам современной городской цивилизации (допустимо приравнять ее к западной). В этом смысле книги – «учебник жизни» на нынешней стадии процессов модернизации в их сегодняшней российской разновидности. Активными читателями при этом выступают женщины, молодежь, образованные слои, население столицы, а наиболее инертную среду представляют пенсионеры, малообразованные люди, жители сел и примыкающих к ним по образу жизни и стандартам культуры малых городов.
В поколенческом плане пики активности чтения приходятся на юность и социально-возрастные кризисы тридцати– и сорокалетних. Если к числу «постоянно читающих» книги себя относят 26 % опрошенных россиян, то среди респондентов до 18 лет, тридцати– и сорокалетних эта доля достигает соответственно 34 %, 32 % и 31 %. Среди людей с высшим образованием постоянно читают книги, по их словам, 52 %, среди жителей Москвы и Петербурга – 44 %. Более трети россиян, опрошенных в 2003 г., вообще не читают книг.
Среди авторов, книги которых читали наши респонденты в последнее время, статистически хоть сколько-нибудь значимо выделяется лишь Дарья Донцова, которую назвали 7 % опрошенных, 3 %, по их словам, покупали в последнее время ее книги. Данные по другим писателям (массовые интересы в литературе и кино по-прежнему кристаллизуются не вокруг имен, даже звездных, а вокруг жанрово-тематических комплексов и серийных изданий) не выходят за границы статистической ошибки и, строго говоря, вообще не подлежат сопоставлению: «больше – меньше» на подобных микровеличинах не работает. По жанрам, типам и тематике книги, наиболее активно читавшиеся опрошенными в последнее время, группируются так (ранжировано по убыванию показателя, в % к давшим положительный ответ на этот вопрос):
79 % опрошенных россиян не покупали за последнее время никаких книг. Те же, кто покупал, чаще приобретали издания для детей (7 %), детективы (3 %), публицистику, философию, психологию, книги по оккультизму (2 %).
Разгосударствление системы воспроизводства и распространения культуры, принципов и механизмов ее организации за 1990-е гг. самым драматическим образом сказалось на общедоступных библиотеках. Начать с того, что их количество уменьшилось, а сеть – поредела, из нее выпало каждое пятое-шестое звено. С 1990 до 2002 г. число библиотек всех ведомств сократилось более чем на 18 %, они стали малодоступнее.
Массовые библиотеки создавались и существовали в Советском Союзе именно как государственные средства унифицированной идеологической мобилизации189. Резкое сокращение их бюджетного финансирования, с одной стороны, приватизация книгоиздательской сферы, резко выросшие цены на книги, с другой, распад системы централизованного и широкого информирования о книжных новинках, планового книгоснабжения библиотек любого уровня, вплоть до низового, с третьей, сделали в большинстве случаев неразрешимой проблему систематического пополнения библиотечных фондов. Так, в 2000 г. в фонды публичных библиотек страны поступило на две трети меньше книг, чем в 1990 г. На 18 % (в городских библиотеках – на 21 %) снизилось число читателей и на 11 % – количество выданных им журналов и книг (в городских библиотеках – на 14 %). Библиотеками стали меньше пользоваться наиболее активные, квалифицированные и требовательные читатели – жители городов, люди активного возраста с высшим образованием.
В самой трудной ситуации оказались при этом две категории читателей. Одну составляют наиболее развитые и рафинированные читатели. Из них более молодые и обеспеченные жители столицы и крупнейших университетских городов переключились на чтение «модных», в широком смысле слова, книг, появившихся только во второй половине 1990-х гг. (престижные новинки отечественной и переводной литературы, популярные гуманитарные издания). Молодежь эти книги покупает или берет у коллег и друзей. Другую, более традиционную для страны, категорию читателей образуют самые «бедные», те, кто, как и раньше, вынужден был соглашаться на «комплексный обед», предоставляемый государством, – литературу, сохранившуюся в стареющих, а значит, во многом еще советских фондах массовых бесплатных библиотек. По некоторым оценкам, половину библиотечных фондов и сегодня «составляют книги, практически не востребуемые, но на их хранение ежегодно затрачиваются огромные суммы»190.
Роль массовой библиотеки в России все больше сводится к обеспечению школьных потребностей и потребностей мало подготовленных читателей, не имеющих собственного культурного ресурса. Чаще всего в библиотеке берут литературу по специальности, справочные издания, учебники, классику, детективы, любовные романы, книги по информатике, глянцевые журналы. Активнее всего посещают ее учащиеся и те, кто хочет получить «информацию по любым вопросам». Таким образом, библиотека является своего рода «справочным бюро» для новобранцев книжной культуры. Образованные, квалифицированные и высокостатусные жители столиц, люди среднего возраста пользуются библиотекой исключительно как резервным каналом получения книги.
По данным исследования 2003 г., в ту или иную библиотеку сегодня записано 18 % россиян. Среди них преобладают женщины (мужчин среди постоянных пользователей чуть больше трети – 37 %). Половина опрошенных перестали пользоваться библиотекой (в 1999 г. таковые составляли 37 %), почти треть (32 %) никогда не были записаны. Особенно много читателей покидали библиотеки в последние четыре года.
Причины разные. Респонденты старше 50 лет, жители села, люди с образованием ниже среднего вообще мало читают или вовсе не читают. Социально активные группы – 30 – 40-летние, со средним образованием, служащие и квалифицированные рабочие – указывают чаще всего на дефицит времени. Респонденты старше 50 лет, жители столицы, люди высокообразованные, с более высокими доходами имеют хорошую домашнюю библиотеку.
Но они, однако, нередко сожалеют о том, что рядом, в пределах досягаемости, нет приличной или хотя бы удовлетворительной библиотеки. Кроме них, от отсутствия библиотеки страдают еще школьники и студенты. Острее всего не хватает необходимых библиотек в Москве. Это понятно: в столице доля людей с высшим образованием приближается к 40 %, и их менее всего удовлетворяет характер нынешнего библиотечного обслуживания. Этого нельзя сказать о сельских жителях, где соответственно и уровень запросов не так высок. Опрошенные с ограниченными материальными ресурсами или ограниченной мобильностью (неквалифицированные рабочие, служащие, домохозяйки) обмениваются популярными книгами друг с другом или берут их почитать у более обеспеченных детей, родственников, знакомых.
Подчеркну, что сам по себе уровень материальной обеспеченности не имеет здесь решающего значения. Разница между высокообеспеченными и низкообеспеченными россиянами в потребности регулярно посещать библиотеку не велика. Более значимыми являются культурная среда, разнообразие имеющейся информации (домашняя библиотека, подписка), образование, профессиональные интересы, учеба.
В целом сегодня в библиотеки обращаются за следующими типами изданий (приведу лишь наиболее распространенные ответы, они ранжированы по убыванию показателя, в %):
Однако при этом 70 % тех, кто пользуется книжными и журнальными фондами библиотек, находят в них всё, что им нужно. Совсем редко читатели не находят в библиотеке лишь литературу по специальности (8 %), учебную книгу (6 %), глянцевые журналы (6 %). Иными словами, абонентами остались именно те группы населения, чей мир сформирован и поддерживается массовыми библиотеками, те, кто не имеет собственных собраний книг и у кого, можно сказать, нет «своего», а есть только «самое общее». Поэтому ожидания и запросы, которые россияне обращают к библиотеке, – столь же общие и неопределенные. В библиотеке (приводим лишь самые популярные типы ответов) хотели бы находить «информацию по любому вопросу» 39 %, «любую интересующую художественную литературу» – 20 %, «любую необходимую специальную литературу» – 10 %, наконец, «доступ к Интернету» – 10 % абонентов.
Как видим, никакого следа книжно-журнального дефицита 1970 – 1980-х гг., систематического неудовлетворенного спроса читателей в библиотеках сегодня нет. Нет и тогдашних многомесячных очередей за самыми популярными книгами. Некоторое незначительное напряжение здесь сохраняется, но опять-таки лишь у более молодых абонентов и, в основном, в отношении учебной и специальной литературы.
Любая библиотека воплощает дух сообщества, ценности, нормы, представления в компактной, удобной для восприятия и распространения печатной форме191. В устройстве библиотеки, составе библиотечных фондов и правилах их подбора, системе каталогов и картотек отражена воображаемая схема взаимодействия между обобщенным комплектатором и типовым абонентом. При эрозии и распаде того «большого» общества, уравнительно-антропологические принципы, дефицитарные нормы которого представляла низовая, наиболее распространенная и самая доступная для жителей СССР массовая библиотека, воплощенный в ее структуре и составе тип жестко цензурированных, однонаправленных, авторитарно-дидактических коммуникаций все больше становился анахронизмом.
С одной стороны, модель массовой библиотеки закладывалась в условиях, при которых большинство населения было деревенским, не имело письменно-печатного, школьного образования. Библиотека-читальня как учреждение «культурной революции» являлась дополнением к начальной и средней школе, работала во взаимосоотнесении с ними. Ситуация в корне изменилась со второй половины 1960-х, когда преобладающая часть населения нашей страны стала городской, а среднее образование было введено как всеобщее.
Характерно, что именно с конца 1960-х – начала 1970-х гг. массовая общедоступная библиотека стала переживать серьезные организационные трудности: дефицит книг, все увеличивающееся разнообразие читательских интересов, повышенные требования образованного контингента и его неудовлетворенность обслуживанием192. Показательно и то, что тогда же начала явочным порядком дифференцироваться система распространения книжной продукции, в том числе – вневедомственной, не входившей в систему Госкомиздата и Минобраза. Появились «макулатурная серия»193, отделы «свободного книгообмена» в магазинах, почтовый обмен по объявлению в газете и т.д. В порядке самозащиты система породила «библиотечную серию», закрытые шкафы книг «повышенного спроса» для доверенных лиц и пр.
С другой стороны, советская массовая библиотека, как это ни парадоксально по первому ощущению звучит, никогда и не была рассчитана на собственно массовый спрос, на обслуживание массовой литературой: ассортимент книг был строжайшим образом цензурирован, а книги, пользовавшиеся наибольшим спросом (о войне, любовный роман, детектив, фантастика, исторические), были наименее доступны. Возникшая к концу 1980-х гг. в бесцензурных условиях популярная жанровая литература и сразу же проявившийся широкий спрос на нее фактически перечеркнули прежнюю библиотеку, обозначив смысловой конец, исчерпание ее функции – служить узлом реальных культурных коммуникаций в обществе. После падения «железного занавеса», в условиях прокламируемой открытости, приоритета «общечеловеческих ценностей» претензии государства на монополию в культуре оказались полностью несостоятельными, а централизованное руководство культурой – патологически неэффективным. Тем самым функции общедоступной библиотеки сузились до первоначальной социализации, а ее адресат – до контингента школьников или близких к ним по месту в социуме.
Массовая библиотека того типа, который сложился в «классические» советские и позднесоветские времена, сегодня фактически снова приравнена к средней школе. Таковы ее реально исполняемые, а не идеологически прокламируемые функции, такая она по составу основных читателей, книжным фондам и техническому обеспечению, по отсутствию для усредненного россиянина развитой, оформленной альтернативы. Не удивительно, что читатели, завершив этап «обучения» социальным и культурным навыкам самого общего, среднего уровня, такую общедоступную библиотеку попросту покидают. Рядовые россияне переходят на привычный и безотказный телевизор, более требовательные и квалифицированные – к другим источникам получения книг и журналов и, наконец, к сетевым коммуникациям, к иным медиа и формам общения, не обязательно связанным с книгой.
Более или менее активная и устойчивая читающая аудитория составляет сегодня порядка 18 – 20 % населения страны. При этом общую ситуацию в книжном деле, распространении и чтении книг характеризуют сейчас несколько сквозных процессов. Во-первых, тон на книжном рынке – отсылаю к сказанному выше о телевидении – все больше задает словесность, которая по типу несомых ею образцов, по форме покетбукового издания, по полиграфической технике не рассчитана на собирание в виде домашних библиотек, на хранение и передачу от поколения к поколению. Во-вторых, подготовленные, квалифицированные и требовательные читатели все чаще из массовых библиотек уходят. В-третьих, все больше беднеют и замыкаются фонды крупных универсальных библиотек. В них, с одной стороны, поступает все меньше отечественных книг и журналов (не говоря о практически исчезнувших зарубежных), а с другой, они вынужденно усредняются и упрощаются по составу фондов, по формам работы, поскольку явочным порядком принимают на себя функции более слабых и бедных массовых библиотек.
Повторю под занавес еще раз: куда более общая и глубокая проблема в данном случае состоит именно в крахе и распаде репродуктивных подсистем российского общества, то есть в эрозии собственно культуры, перерождении культуротворческих групп. Причем происходит это – в сравнении с «гласной» ситуацией конца 1980-х гг. и даже более ранних, «закрытых» лет – без осознания интеллектуалами всего происходящего как первостепенной проблемы их самих и общества в целом, без понимания социальных масштабов и возможных последствий идущего процесса.
2004
СТАРОЕ И НОВОЕ В ТРЕХ ТЕЛЕЭКРАНИЗАЦИЯХ 2005 ГОДА194
К числу примет эпохи, которые не упустит ни историк, ни социолог (будь они высокими профессионалами или пытливыми любителями), в Новейшее время прибавились доминантные жанры искусства. Понятно, я имею в виду массовые искусства и образно-символические технологии последних полутора веков. Они ориентированы на немедленное потребление их продуктов широчайшей аудиторией, «всеми и каждым», узаконивают подобную адресацию и фигуру своего обобщенного собеседника, нового Эвримена (был такой заглавный персонаж старинного английского моралите) в качестве полноправного партнера по коммуникации, а тем самым – прокламируют одновременный массовый успех как важнейший социальный факт, определяющий «модерное», открытое и динамичное общество. В подобных условиях читательское или зрительское признание того или иного жанра искусств (конкретное произведение чаще указывает на популярную серию, а ставшее брендом имя автора – на определенный жанр) может навести внимание исследователей на условно воплощенные в жанровом образце типовые ценностные коллизии, формы их воображаемого освоения, способы мысленного принятия и смягчения, которые так или иначе соотносятся с переживаниями и ожиданиями множества людей в реальной жизни, но такими, которые трудно наблюдать в бытовых условиях, непривычно осознавать и формулировать «обычному» человеку195.
Впрочем, история последнего столетия показала, что упомянутый Эвримен в обществах разного типа понимается и формируется по-разному. Скажем, «человек-масса», возникающий под прессом тоталитарных режимов, мало чем напоминает универсального субъекта гражданских прав, на которого рассчитывали творцы американской конституции, «человека экономического» из работ европейских экономистов-либералов или «человека потребительского» постмодерной эпохи. Поэтому анализ ценностей и норм, которые проблематизируются и выносятся на публику в произведениях массовых жанров, может быть полезен для историков, социологов, социальных психологов и исследователей культуры еще и в сравнительном плане: он позволяет провести типологическое сопоставление различных эпох, стран, цивилизационных укладов.
В России второй половины 1990-х и первой половины 2000-х доминантными жанрами массовых искусств являются, видимо, «женский детектив» и телесериал. Очевидно, что их доминантная аудитория – преимущественно женская, средних возрастов.
В этом смысле обращение кинематографистов и продюсеров при недавних экранизациях советской литературной классики именно к жанру телесериала понятно. С одной стороны, явный кризис «проблемной» и качественной прозы о нынешнем дне, дефицит сколько-нибудь культурно вменяемых повествований о современной России – о боевиках про бандюков я сейчас не говорю – побуждает кино– и телережиссеров, особенно режиссеров «с именем», обращаться к более надежному и «благородному»196, в любом случае – беспроигрышному литературному материалу (использовать уже состоявшийся успех прежних образцов в надежде на успех собственный – обычный ход массовых искусств, будь то экранизация литературы или ремейк старого кино). С другой, фильмы в кинотеатрах с частотой хотя бы раз в месяц смотрят сегодня, в лучшем случае, порядка 4 – 5 % городского населения России, тогда как ежедневно по 3 – 4 часа смотрят телевизор свыше 90 % россиян, что вроде бы гарантирует авторам телесериала197 устойчивое признание самой широкой аудитории. Правда, массовая привлекательность сериалов как сравнительно нового жанра к началу 2000-х гг. существенно снизилась. Точнее – к ним привыкли, и они теперь не так уж «отмечены» в коллективном сознании, почему и ожидает, ищет, регулярно смотрит именно их сегодня, по собственным признаниям, лишь около трети опрошенных. Собственно эта обычная публика телевизионных сериалов и видела премьерные показы трех недавних экранизаций.
Второе важное обстоятельство: в советские времена ни один из трех экранизированных романов (а также пастернаковский «Доктор Живаго», по которому в 2006 г. был показан 11-серийный фильм Александра Прошкина), конечно же, не был легитимирован в качестве «современной классики». На протяжении нескольких десятилетий они – об этом сегодня, как ни странно, уже приходится напоминать – были или полностью запрещенной («В круге первом», «Доктор Живаго»), или по крайней мере никак уж не рекомендуемой официальными инстанциями («Мастер и Маргарита», «Золотой теленок») словесностью и в этом качестве, в виде сам– и тамиздата, входили в круг «заветного» чтения образованных и урбанизированных слоев умеренно критически настроенной интеллигенции. Длинный шлейф комментариев к Ильфу и Петрову, от работы Ю. Щеглова через труды М. Одесского, Д. Фельдмана и других вплоть до совсем уж недавней книги А. Вентцеля, точно указывает на данное обстоятельство: упомянутые труды принадлежат не просто профессионалам-литературоведам (математик Вентцель в данном качестве как раз любитель), но, что гораздо важнее, членам «клуба приверженцев», которые, как отмечает Ю. Щеглов, относятся к нескольким поколениям советской интеллигенции и которых объединяет «общность языка и теплый контакт»198. Причем – и это третий важный момент – их появление или пик их взрывной популярности в упомянутом кругу связаны с 1960-ми и началом 1970-х гг. – периодом как раз наиболее активного самоосознания и самопредставления (как, впрочем, и внутреннего размежевания) советской интеллигенции в качестве воображаемой общности и разделяемой образованным слоем легенды. Скажу короче: эти романы во многом и могут быть описаны как идеализированный автопортрет тогдашней интеллигенции и шифр для опознания «своих». То, что в этот групповой автопортрет, среди прочего, включался образ проходимца, нисколько не противоречило идеальности изображения, равно как антиинтеллигентский заряд романов, подчеркнутый в свое время Н.Я. Мандельштам, не мешал им принадлежать к излюбленному и неустанно цитируемому чтению интеллигентов.
Однако (и это – в-четвертых) отсылают эти романы Ильфа и Петрова, Булгакова, в определенной мере – Солженицына и Пастернака к пореволюционным десятилетиям советской эпохи, а в конечном счете – к извилистым судьбам и переломным моментам русской революции как большого модернизационного проекта. Тем самым все эти романы связывали для «послеоттепельной» интеллигенции ленинский, сталинский и послесталинский периоды отечественной истории, а нынешние создатели сериалов и их зрители еще и примысливают к ним обстоятельства перестройки и текущих дней. В качестве опознавательных примет эпохи 1960-х – начала 1970-х я бы отметил появление в недавних экранизациях знаковых актеров этого времени: Инна Чурикова, прославившаяся, в первую очередь, ролями в ранних фильмах Глеба Панфилова «В огне брода нет» (1968) и «Начало» (1970), Игорь Кваша, ставший одним из «фирменных лиц» оттепельного по рождению и духу «Современника», Олег Басилашвили и Кирилл Лавров, сформировавшиеся как известные актеры в спектаклях Г. Товстоногова в Ленинградском БДТ на переходе от 1950-х к 1960-м. По-своему связывает 1960-е, ранние 1980-е и нынешние годы фигура Олега Меньшикова, дебютировавшего в фильме «Покровские ворота» (1982), снятом «шестидесятником» Михаилом Козаковым по пьесе Леонида Зорина, сюжетно связанной с самым кануном 1960-х. Так что интересующие нас здесь сериалы отсылают сегодняшнего зрителя не столько к реальности, сколько к другим фильмам.
Предметом показа во всех названных сериалах – с учетом, как водится, подводной части айсберга – выступает «советское» в качестве некоего целого; добавлю к списку наиболее популярные, по опросам Левада-Центра, телеэкранизации 2004 г. – «Московскую сагу» (реж Дмитрий Барщевский по роману В. Аксенова) и «Дети Арбата» (реж. Андрей Эшпай по роману А. Рыбакова).
Сама подобная фикция советского как единого целого – продукт, конечно же, постсоветской эпохи. Насколько можно судить по материалам массовых опросов, этот ностальгический фантазм начал складываться в массовом сознании примерно с 1994 г. И, кстати, вместе с другой воображаемой целостностью – новым воображаемым «мы» российского населения, «россиян», как их все чаще стали в то время называть с высоких трибун. Обе эти фигуры коллективной идентификации принялись ускоренно разрабатывать на самых популярных каналах телевидения наиболее активные, амбициозные и прагматичные менеджеры телекоммуникаций – напомню хотя бы «Русский проект» Дениса Евстигнеева (1996) и «Старые песни о главном» К. Эрнста и Л. Парфенова (1996, начало работы – 1993)199.
Говоря о ностальгии по советскому, я имею в виду не столько прямые намерения постановщиков той или иной недавней телеэкранизации (не говоря об авторах перенесенных ими на экран романов), сколько рамку или фон ожиданий со стороны самой широкой сегодняшней публики, условия восприятия. Как определить в ее терминах смысл увиденного десятками миллионов российских зрителей? Прощание с советским? Скорее, примирение с ним. Уже приходилось писать, что это «примирение с советским» и, одновременно, с самими собой, такими, как есть, – одна из ведущих характеристик путинского периода в коллективной жизни России200.
Подчеркну в этом обновленном (по сравнению с соответствующими представлениями ельцинских лет201) образе советского, каким его увидели зрители, лишь два мотива. Один – «не все было так плохо» либо даже «все было не так плохо». Это интегральная характеристика как будто бы преобладающего самочувствия сегодняшней так или иначе адаптирующейся к обстоятельствам массы, в данном случае спроецированная на «экранное» прошлое (цена или изнанка подобного успокоения, а вернее, самозаговаривания – преобладающее в массе чувство, что ничего в жизни ни в хорошую, ни в худую сторону не меняется, и коллективное согласие не вмешиваться в общественные и политические процессы, поскольку они – «не нашего ума дело»). Второй – привычное для советского и для постоветского человека представление о высшей, надчеловеческой власти: ее может воплощать в романе или на экране монструозный вождь, а может вполне человекообразный дьявол, но жизнь всех и каждого из «нас» по-прежнему принадлежит «им»202. Становление этого типа сознания прослежено в эссе М. Чудаковой, где доказывается, что образ Воланда в «Мастере и Маргарите» близок по смыслу образу Хоттабыча из первой редакции сказки Лазаря Лагина (1940): «…замысел фантастического повествования с всемогущим героем в центре поманил одновременно разных беллетристов»203.
И последнее. Описываемый здесь вкратце процесс коллективного принятия нового образа «советского» дошел сегодня, можно сказать, до дна социума: репрезентация его в самой всеохватывающей и общедоступной форме ежевечернего телесериала, «естественно» встроенного тем самым в повседневный обиход и распорядок десятков миллионов людей, указывает именно на это обстоятельство. Сложилась признанная «всеми» и поддерживаемая, транслируемая и воспроизводимая самыми современными массовыми технологиями форма наиболее общих представлений российского социума о себе, воображаемых «мы». А раз это так, то можно ожидать дальнейшей эксплуатации найденной формы на еще не включенном в переработку массиве позднесоветской неподцензурной криптоклассики. Скажем, кандидатами на телеэкранизацию, видимо, в тех же рамках и в том же духе могут в ближайшее время оказаться Василий Гроссман или Юрий Трифонов (с меньшей, по-моему, вероятностью – «Пушкинский дом» Битова, с исчезающе малой – «Сандро из Чегема» Искандера или «Москва – Петушки» Ерофеева204). Экспансия наработанного подхода на все новые и новые территории – отличительный признак идейного и культурного эпигонства, еще одного, добавлю, характернейшего феномена в России путинских лет205. Разбиравшиеся здесь экранизации, по крайней мере две из них, принадлежащие видным режиссерам, стали – во многом даже независимо от намерений самих мастеров, актеров, съемочных групп – образцами эпигонской работы. Создатель образцов – писатель, режиссер, художник, композитор, актер и др. – может, вольно или невольно, оказаться в новой ситуации эпигоном даже самого себя.
2006
ФОРМЫ ВРЕМЕНИ: РЕКЛАМНЫЙ КЛИП И ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ
Нынешний российский социум все чаще называют сообществом телезрителей. Но у этого феномена есть и другая сторона: все более зрелищной, в смысле – обращенной к зрителям, выступает сегодня российская власть. Отсюда, среди прочего, 90 % времени новостных передач «России», Первого канала, НТВ и ТВЦ, которые – по недавнему отчету Союза журналистов России – отданы показу первого лица, правительства, партии власти206. Иначе говоря, телезависимыми оказываются и «публика», и «актеры». Как сформировался этот симптом и в чем его интерес для исследователей?
Очень сжато политическую жизнь в России последних десяти, а в особенности – последних пяти, лет можно описать так. Примерно с середины прошлого десятилетия конфигурация всей области политического стала меняться. До этого она все-таки представляла собой сферу, в которой действовали нескольких разных, конкурировавших за влияние и поддержку политических сил с собственными целями и программами, а они, по российским обстоятельствам конца 1980-х – начала 1990-х годов, с неизбежностью концентрировались на проблемах модернизации страны, реформах ее экономического и политического строя. Но постепенно эта область все больше сосредоточивалась на фигуре первого лица и тактике его сохранения в этом качестве (свою роль в этом процессе сыграло уничтожение оппозиции в октябре 1993 г. с применением военной силы у стен Белого дома и политический итог случившегося – парламентские выборы декабря того же года, первый крупный провал демократических партий и ожиданий, помноженный на триумф Владимира Жириновского). Укреплявшаяся публичная риторика стабильности и порядка, поддержанная тогда, напомню, большинством российского социума, зафиксировала этот сдвиг – с задач политики на проблемы власти при сведении этой последней к географическим пределам Кремля, даже еще уже – к закулисным интригам и схваткам под кабинетным ковром вокруг одного лица. Соответственно, с политической авансцены и из публичной речи достаточно быстро исчезли лица, партии, идеи, символы, напоминавшие о «перестройке», «демократизации», «разделении и балансе властей» и тому подобных центробежных предметах.
Решающий перелом здесь, включая смену не только типажей, но и самой стратегии кадровых назначений «на верхах», обнаружился в обстоятельствах президентских «выборов без выбора» в 1996 г., а проявился, понятно, уже после них. Того принудительного согласия в стране (ведшей открытую войну на собственной территории, среди населения, недовольного президентом и его командой, распадом СССР и ухудшением жизни), на которое пошли тогда разные слои социума и которое принесло Б. Ельцину победу, вряд ли удалось бы добиться без самой активной поддержки со стороны массмедиа. И главного, наиболее дешевого для зрителя и популярного из них – телевидения. По крайней мере, так было представлено дело политическими референтами и консультантами президента, связанными с ними менеджерами основных телевизионных каналов.
В результате вторая половина 90-х стала в России периодом становления «нового» медиасообщества, совершенно иначе, по сравнению с рубежом 1980 – 1990-х гг. встроенного в также трансформировавшуюся и готовящуюся к дальнейшим трансформациям систему государственной власти207. Как не раз бывало в ХХ в., в том числе – в России, монопольный характер господства и упрощение социального многообразия («единство нации») повлекли за собой церемониализацию политики, прежде всего в аудиовизуальной форме. На этой технологической фазе – в виде телезрелища (десятилетиями раньше для подобных целей использовались радио и кино). Что при этом демонстрировалось? Конечно же, всего лишь сценические знаки власти, церемонии их коллективного признания, символического единения вокруг них – если воспользоваться давней формулировкой Михаила Ямпольского, «власть как зрелище власти»208. Механизмы принятия решений, проведение их в жизнь, подбор исполнителей, последствия действий, уровень профессиональности и эффективности, цена, ответственность – все это по-прежнему оставалось за кадром и вне обсуждения. И даже еще плотнее окутывалось тайной (мания подозрительности, эпидемия мнимых заговоров и разоблачений – выражение именно этой закрытости реальной, не телевизионной власти).
Данное обстоятельство – виртуальную инсценировку, «игру во власть», и пассивность дистанцированной от нее публики – я и подразумеваю, говоря о церемониальном характере политической жизни в России путинских лет209. Частичному возвращению к привычной для советской России номенклатурной практике подбора кадров по принципам закрытости, корпоративности, землячества соответствовало частичное же возвращение, а точнее – симуляция возврата к столь же привычным идеологическим ресурсам, остаточной риторике великодержавности, изоляционистским идеологемам «особого пути». Впрочем, в идеологии авторитарно-силовой режим не нуждался, так что и обломков вполне хватило, а уже их соединили с такими же обессмысленными лейблами рыночности, профессионализма и проч. Главное – «создать покупаемый продукт».
Если политика становилась все более телевизионной, то и телевидение, со своей стороны, все больше превращалось в рупор и заложника правительственной политики. И дело тут вовсе не ограничивается упомянутыми выше собственно пропагандистскими передачами на политические темы, процензурированными и заранее записанными новостями, заказными ток-шоу с участием околовластных поп-звезд, подбором исполнительских команд для этих постановок. Речь о второй половине сегодняшних российских телезрелищ – развлекательной, о политике развлечений как отдельном направлении «эффективной политики». Характерен в этом плане новый формат круглосуточного вещания канала ТВЦ с его упором на зрелищность и сериальность – объявлены сериалы семейные и молодежные; показателен повторный рекрутмент Л. Парфенова теперь уже на Первый канал в качестве ведущего музыкально-развлекательной программы и т.д. В телеразвлечениях к концу 1990-х уже сложился свой канон, и некоторые важные составные части этого канона (исторический сериал, праздничный концерт, ток-шоу, пресс-конференцию, кулинарную передачу, спортивное состязание и его пародию – соревнование в дуракавалянии, премьеру нового российского фильма – в частности, фильма о войне – с его сиквелами) уже начали описывать культурологи. Ограничусь здесь лишь несколькими общими соображениями о симулятивной эстетике «нового большого стиля» с его эпигонской установкой на эклектику (тогда как симулируется некий «постмодернизм»). В качестве двух несущих моментов всей визуальной конструкции развлекательного, как бы «не политического» ТВ я для целей анализа выделю клиповость и сериальность.
Клип – простейший механизм эстетизации, ее исходная машинка. Рабочая функция этой игрушки – намеренное отстранение картины от наблюдателя и, в этом смысле, превращение его из просто смотрящего в зрителя. Клип построен на изобразительной метафоре, моментальном соединении несоединимого или хотя бы непривычного. Задача здесь – представить показанное как зрелище, специально демонстрируемое зрителю. Так («только для тебя», чтобы сделать твою «природу» еще «совершеннее» – «Красота от природы, совершенство от “Тимотей”») работает реклама, а клип всегда рекламен: изображение в нем уже становится рекламой, картинка – уже соблазном. Кроме того, клип – это эксцесс, и потому обычно использует шок, пусть мягкий, чисто изобразительный шок удивления (но может прибегать и к жесткому, на него опирается режиссура батальных и эротических сцен в коммерческом кино, показ ключевых моментов боксерских или борцовских поединков, да и любых других спортивных состязаний или концертных номеров рапидом, в максимальном, натуралистическом приближении). Такова, в частности, функция крупных планов в подобных зрелищах. Крупный план теперь – в отличие от раннего режиссерского кино – не позволяет внимательнее рассмотреть происходящее, и прежде всего лица, глаза. Его задача, напротив, в том, чтобы экранировать фон своего рода ширмой, заслонить глубину кадра, превратив броскую картинку, ударный эпизод в чистую метафору зрелища. Лицо героя здесь – яркое красочное пятно, не больше; взгляда нет – глаз актера превращен в изображение. Важно сделать смотрящего зрителем, приковать его к зрительскому креслу или дивану и удерживать его в этом отчужденном, «подвешенном» состоянии. Именно на это работает теперь еще и высокотехнологичная дигитальная аппаратура, всевозможные долби-стерео, домашние кинотеатры и т.п., телереклама которых, кстати говоря, представляет собой точно такой же клип со встроенным в него «шоком мягкого действия».
Другим, я бы даже сказал, противоположным способом выстроена телевизионная реальность ежевечерних сериалов; напомню, что по всем четырем основным каналам российского ТВ каждый вечер в прайм-тайм с 19.00 до 23.30 демонстрируются как минимум два отечественных игровых многосерийных фильма210. Чемпионом тут стал прежний лидер гласности, критичности, аналитичности – канал НТВ: у них каждый вечер в указанные часы идут три отечественных сериала и один импортный – в последние недели это американский «Секс в большом городе» (можно сказать, не только спалили Карфаген дотла, но еще и засыпали его пепел солью). Действие сериала в обеих его основных российских разновидностях сегодня – будь то сериал семейно-мелодраматический или комедийный, будь то уголовно-детективный – намеренно растянуто. Это время без событий, построенное на многократном повторении. Оно в состоянии раздвигаться, когда в рамку уже показанного вставляют новый поясняющий эпизод или целую серию, в состоянии до беспредельности замедляться. Важно, что у него нет отмеченного начала и неотвратимого конца с обязательной кульминацией между ними – нет драматической структуры. Сериал не может быть трагедией, как трагедия не может сериализоваться: она персональна, бесповоротна и однократна (в этом, на мой взгляд, принципиальный просчет сериалов по «Мастеру и Маргарите» и «В круге первом», вне зависимости от личных намерений режиссеров, актеров, съемочных групп). В сериале царит эстетика бесконечной отсрочки, нескончаемого «и т.д.».
Постоянное повторение как механизм замедления, откладывания действия, «убивания времени», с одной стороны, самой конструкцией убеждает публику, что все нормально и ничего неожиданного, малопонятного, тревожного произойти не может. С другой, сериал погружает зрителей в мир относительно нового – профессии, одежда и обиход героев, детали городской и квартирной обстановки, отдельные элементы речи как будто бы относятся к нынешнему дню – как привычного, всегдашнего. На это работает практически неизменный актерский ансамбль едва ли не всех нынешних отечественных многосериек (с таким ощущением давно знакомых лиц и манер мы смотрели в 1960-х гг. венгерские или чешские кинокомедии). И еще один момент: привычное становится в сериалах художественным, игровым, иллюзорным, а то и дурацким – не только приукрашенным, но и «всего лишь фильмом». Клип уничтожает время посредством взрыва, сериал – посредством растяжения. Если функция клипа – производство экстраординарности, шок, то функция сериала – производство привычки, адаптация. А между двумя этими модусами, режимами окружающей жизни существует в России не только ежевечерний зритель, но и вообще повседневный человек. Собственно, этот человек, структура его сознания, ориентиры, установки, привычки восприятия и есть, хочу подчеркнуть, главный «продукт» нынешнего телевидения. Эффект реальности для сегодняшнего рядового россиянина – это эффект сериальности.
Оба этих определяющих момента самым серьезным образом повлияли на стилистику показа политики. И продолжают определять ее как эстетическую фикцию, построенную по законам ежедневного телевизионного сериала и рекламного, может быть – предвыборного, клипа (вряд ли нужно объяснять, что слово «эстетический» здесь не равнозначно ни благообразию, ни привлекательности). Больше того, они в немалой степени изменили за последнее десятилетие весь визуальный мир массового человека – можно сказать, они этот мир, а во многом и этого человека сформировали. Тем самым, телевидение средствами его наиболее популярных жанров не только создало новый контекст для происходящего, который обратным порядком воздействует, в свою очередь, на это происходящее, но и во многом сформировало новый взгляд на окружающее, новую оптику его восприятия.
В частности, я имею в виду все более дробную реальность телеэкрана, рубленое изображение действия, когда оно нарезано на мелкие эпизоды и каждый строится как отдельная сцена, номер, аттракцион, словно вне связи с другими, предыдущими или последующими (это поддерживается все более широким распространением устройств дистанционного переключения каналов). Но не только: изменилась сама телекартинка, в ней, будь то политическая новость или сводка с фронта, политическое ток-шоу или светская презентация, все чаще узнаешь рекламный клип. Вместе с тем, указанные обстоятельства привели к коренной трансформации «правил» поведения на экране. Например, сделали другой актерскую игру, даже почерк мастеров: легко видеть, что участвующие в съемках актеры, включая, бывает, крупных, как бы стали играть «плохо», «непрофессионально». Дело здесь, я думаю, не в подхалтуривании, хотя и оно, конечно, имеет место, а в новой эстетике заведомо массовидного зрелища, последовательно отказывающегося быть лучше, сложнее, изобретательнее, если угодно – элитарнее. И уж если употреблять слово «халтура», то халтурят здесь не только артисты или съемочная группа. Свою не просто симулятивную, но и халтурную природу обнажила российская действительность – социальная, политическая, судебная, культурная, церковно-религиозная, бытовая.
И еще один момент. Могут спросить, да нередко и спрашивают: а что «у них там» или «у всех» разве не так? Человечество становится все более массовым, мир – телевизионным, общество – спектаклем, см. хотя бы нашумевшую еще когда книгу Ги Дебора и т.д. Давайте разберемся, по неизбежности – коротко. Конечно, любой серьезный социальный процесс, в том числе такой крупномасштабный, цивилизационный перелом, как модернизация (а нынешняя глобализация – его поздняя фаза, разворачивающаяся после эпохи модерна и построения в крупнейших странах Запада массовых обществ), не может не сопровождаться, не дублироваться коллективным символизмом, разыгрыванием в публичном пространстве своего рода «ритуалов модернизации», если воспользоваться выражением американского антрополога Джеймса Пикока211. Но подобные ритуалы на Западе – как раз это обстоятельство я хочу сейчас отметить – обычно разворачивали и довершали модернизацию на массовом уровне социума, когда «наверху», в сфере экономических, политических, правовых институтов, она уже так или иначе произошла, а ее результаты формально и устойчиво закрепились. Различались же подобные ритуалы от страны к стране, от эпохи к эпохе в зависимости от характера модернизации – кто, с какими ориентирами, в чьих интересах и с опорой на кого, какими средствами ее проводил, – а также от фазы процесса, на которой исследователь его заставал (скажем, вышеназванный Пикок изучал их на примере импровизированных представлений бродячего уличного театра в сукарновской Индонезии начала 1960-х, и, как показало время, до завершения модернизации в Индонезии было куда как далеко).
В любом случае такие ритуалы создавались и воспроизводились, еще раз подчеркиваю, вместе с модернизацией или ей вослед, но не вместо нее. И не средствами государственной политики. Не с активным участием первых лиц государства. Не в ситуации, искусственно доведенной до безальтернативности (что, собственно, сегодняшний массовый телезритель, особенно провинциальный и не особенно богатый, может выбирать?). Так что в популярной сейчас у западных публицистов теме «электронной демократии» или, в другом варианте, «дигитальной демократии» ударение стоит на слове «демократия» (она здесь – основной предмет забот и тревог, новейшая техника – ее обеспечение), а у нас в стране – на слове «электронная» (в смысле – всего лишь электронная, другой как не было, так и нет, и новейшая техника – средство ее не допустить).
Сегодня в России мы имеем дело как раз с направленной массовизацией социальной жизни сверхцентрализованной властью, вооруженной современными информационно-коммуникативными технологиями и специалистами по ним, без модернизации основных институтов социума, больше того – под контрмодернизационную риторику особости и с ностальгией по «великой державе» (напомню реплику В. Путина, тогда президента, о «крупнейшей геополитической катастрофе ХХ в., распаде СССР»). Ключевыми точками этого процесса были, как отчасти говорилось выше, события на политической авансцене и в самом устройстве власти, развернувшиеся в 1993 – 1994, 1995 – 1996, 1999 – 2001, 2003 – 2004 гг. И так же, как в начальной точке этого пути вниз обстрел Белого дома и первая Чеченская война заставили Ельцина свернуть начавшиеся реформы, так панический страх перед «цветными» и «ситцевыми» революциями парализовал в конце какие бы то ни было прореформаторские шаги отдельных членов путинской команды.
Государство всякий раз останавливал страх перед расширением круга политических партнеров – нежелание поступаться даже частью властных полномочий и привилегий, большинство населения – страх оторваться от государственной опеки и того весьма скромного уровня жизни, который удалось себе худо-бедно сохранить или обеспечить. Боязнь другого, боязнь перемен (советское, тоталитарное наследие). И вот среди результатов произошедшего, которые вряд ли кто-нибудь где-нибудь предвидел, планировал или заказывал, – нынешняя симулятивная власть и ее церемониальная политика, от экономической до внешней, слой выдвиженцев, назначенцев и порученцев власти (раньше я описывал их как «новых распорядителей»), включая ее теперешних массмедиальных визажистов, и пассивно адаптирующееся общество зрителей, живущих между привычным и чрезвычайным. Если Homo Faber в советской России, можно сказать, так и не родился (не будем преувеличивать трудовой энтузиазм строителей сталинских десятилетий – стройки века не поднялись бы из котлованов без армии заключенных), то Homo Disputator взлетных лет «перестройки» на наших глазах сменился Homo Spectator’ом периода так называемой «стабилизации», «охраны энергетической безопасности» и «защиты национальных интересов».
2006
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(проблемы автобиографирования)
Ниже я привожу лишь основные пункты программы историко-социологического исследования, задуманного вместе с моим французским коллегой Алексисом Береловичем в рамках нашего общего интереса к «семидесятым годам»212. Моя главная задача сейчас – наметить узловые точки обобщенной аналитической конструкции (идеальной типологии), так что приводимые ниже немногочисленные примеры имеют ограниченный, подчиненный статус иллюстраций и пояснений. В дальнейшем предполагается использовать разработанную концептуальную оптику для выборочного рассмотрения мемуарно-автобиографических текстов конца 1960-х – начала 1980-х гг., принадлежащих советским политическим и военным деятелям; литераторам, людям искусства; правозащитникам и диссидентам; верующим и др.213
1. Формы письменного самоизложения в европейском публичном обиходе – дневник, автобиографические записки, эго-роман – отмечают (см. работы Г. Миша, Ж. Гюсдорфа, Д. Эбнера, Ф. Лежёна, Р. Робен и др.) наступление и разворачивание модерной эпохи, Modernit214. Понятно, что они вызывают нарекания со стороны консерваторов как практика плебейская и частная, аморальная (эгоизм) и художественно-низкопробная, в этом смысле – отклоняющаяся от нормы высокого, благородного и всеобщего. Характерно, например, что во Франции 1880-х гг. на защиту одновременно вышедших к публике и ставших сенсацией дневников Амьеля, Башкирцевой и братьев Гонкур встал будущий дрейфусар Анатоль Франс, а с попыткой их этико-эстетической компрометации и уничтожения выступил будущий антидрейфусар Фердинанд Брюнетьер.
Автобиографирование, в широком смысле слова, представляет собой фикциональный образец представления новой ценности субъективного в формах культуры (связь между модерностью, субъективностью и культурой – определяющая для европейских обществ Новейшего времени, их новых, неродовых и нетрадиционных элит, ключевая она и для данного рассуждения). Подобные образцы в их жанровом разнообразии и специфике вносят в культуру основополагающую проблематику повседневной ответственности индивида за собственное существование, делают эту ответственность практической задачей, интеллектуальной проблемой и драматической темой рассказа. Они задают воображаемую форму жизни и ее изложению – форму «биографии» как проекта и практики автокультивации, самопостроения по идеальному образу и подобию (ср. основополагающее определение «культуры» в словаре Иоганна Кристофа Аделунга на рубеже XVIII – XIX вв.).
2. Идеология «модернизации» в советском варианте выступает в формах государственно-централизованной мобилизации, требующей со стороны ндивида унифицированной идентификации с символическим целым, предельно общим коллективным «мы». Ось структурации этого целого – вертикаль иерархического господства-подчинения, увенчанная фигурой вождя как воплощения сверхвласти (власти над любой властью) и символа интегративной целостности «нас» (державы). Тем самым фиксируется разрыв между адаптивным, массово-атомизированным существованием каждого как любого (частные лица, учетные единицы, рамки существования которых задают отделы кадров, организации социального обеспечения, жилищно-эксплутационные конторы, «первые отделы» и проч.) и интегративным державным целым исключительного и аскриптивного типа как проекцией тотального господства, между «массой» и «властью». Если говорить социологически, отсутствует, точнее – принудительно устраняется репрессивными методами (богатейший материал об этом собран в монографии Т. Коржихиной215), «средняя» часть общества – пространство дифференцирующихся институтов, добровольных союзов, движений, партий и проч., принципом соотнесения которых (то есть императивов со стороны которых, выраженных в требованиях, нормах поведения и формах ответственности политического, экономического, правового, познавательного, эстетического и других субъектов), собственно, и выступает в модерных обществах субъективность – социальная личность, зрелый индивид. Если же говорить в терминах логики, точнее – социологии знания, социологической эпистемологии, то для индивида в подобных условиях и рамках нет универсальных определений – ни частного обозначения (субъект, личность – характерно, что в советской культуре это слова с негативным или уничижительным оттенком), ни общего термина (гражданство, человечество – подобные самохарактеристики, опять-таки, пейоративно квалифицируются как абстрактные, космополитические, буржуазные, так или иначе – идеологически чуждые).