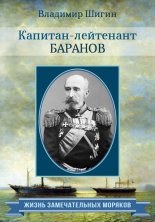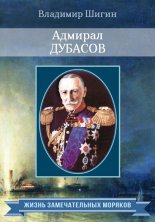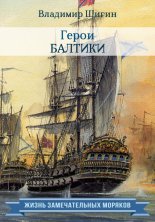Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) Бовуа Даниэль
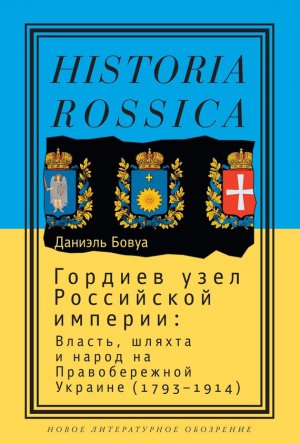
Эти семнадцать или восемнадцать (в зависимости от периода) школ на Украине составляли почти треть всех учебных заведений Виленского округа, т.е. целого Западного края. Однако с самого начала Тадеуш Чацкий расположил эти школы не так, как этого желали в Вильне, где планировали открытие нескольких уездных школ и гимназий во всех губернских центрах (а именно в Житомире, Каменец-Подольском и Киеве). Поскольку Чацкий создавал учебные заведения исходя из национальных, социальных и идеологических принципов (проект, надо признать, уникальный в Российской империи), во многих уездах школ не было. Киев оставался без гимназии до 1810 г. (причины этого будут рассмотрены), в Каменец-Подольском она так и не появилась, в Подольской губернии одна гимназия была основана принудительно лишь в 1814 г. в местечке Винница. Расхождения с требованиями сверху были следствием проводимой Чацким политики. Он хотел сосредоточить все финансовые средства в своих руках, шел даже на конфискацию всего, по его мнению, необходимого, например монастырских библиотек из небольших школ. Кроме того, он организовывал сбор даров среди «граждан» (как польские помещики называли себя), чтобы за счет независимых средств обеспечить единственную Волынскую гимназию, которую он решил разместить не в губернском центре, а неподалеку от своей резиденции – в бывшем Кременецком иезуитском монастыре вблизи австрийской границы, надеясь, как сам говорил, привлечь туда учеников из Тернополя и всей Галиции371.
Решение Чацкого создать гимназию в городке, который был расположен ближе всего к западным рубежам Российской империи, имело глубокий политический смысл. Речь шла о создании центра польской культуры – единственного во всей «польской Украине». Действительно, именно таким Кременец стал и оставался вплоть до 1831 г. Следует сказать, что Коллонтай настойчиво подчеркивал, что по Гадячскому договору 1658 г., подписанному с гетманом И. Выговским, предусматривалось создание Речи Посполитой Трех Народов, т.е. превращение Украины (Руси) в отдельную политическую единицу, которая существовала бы наравне с коронными землями и Великим княжеством Литовским и имела бы собственную академию. Именно стремлением к воплощению этой идеи региональной автономии (конечно, при умолчании о том, что главенствующую роль в ней должны были играть украинцы) можно объяснить действия Чацкого, на сепаратистский характер которых обратили внимание в Вильне гораздо раньше, чем в Петербурге.
Чарторыйский тщетно пытался убедить Чацкого придерживаться выделенных министерством бюджетных средств. Ему также не удалось доказать, что в гимназии не следует вводить курс астрономии, что обучение гувернанток и акушерок, хоть и является делом важным, но не входит в задачи гимназии и что подготовкой фельдшеров должны заниматься уже имеющиеся университеты. Однако Чацкий практически и не скрывал того, что его политика свершившихся фактов направлена на создание в будущем университета. Именно это стало причиной быстрого ухудшения его отношений с Виленским университетом. Двум первым ректорам стоило немалых усилий терпеть его чудачества и неповиновение372. Но граф продолжал трудиться над воплощением своей идеи. В конце 1803 г. наследники Станислава Августа выставили на продажу сохранившуюся в Варшаве библиотеку короля, насчитывавшую 15 680 томов, а также королевский кабинет естественной истории с коллекцией медалей. Все это было куплено Чацким и в витринах из красного дерева с золотыми монограммами короля передано в 1810 г. в распоряжение преподавателей и учеников старших классов Кременецкой гимназии. Одним из первых с этими коллекциями познакомился будущий польский историк Иоахим Лелевель. Впоследствии, после Ноябрьского восстания, богатейшие, регулярно пополнявшиеся коллекции были конфискованы Николаем I и переданы новоучрежденному Киевскому университету.
Об исключительности Кременецкой гимназии свидетельствует также коллекция произведений искусства: в школьной галерее можно было любоваться полотнами Рафаэля, Рубенса и Гвидо Рени, которые помещик Джевицкий, участник Итальянского похода Наполеона, привез из Италии. Имелась там и коллекция гравюр, подаренных Станиславом Косткой Потоцким, одним из активных деятелей в бывшем Польском сейме. Поддерживаемое аристократией учебное заведение, призванное воспитать истинную шляхетскую элиту, не могло не иметь парка. На подаренном Сапегой участке земли был разбит ботанический сад для подготовки будущих агрономов. В 1834 г. он был полностью выкорчеван и перевезен в Киев.
Кроме того, в гимназии были минералогический, химический, физический и зоологический кабинеты со всеми экспонатами и доступным на то время оборудованием для проведения опытов. Можно себе представить, насколько огромное впечатление Кременецкая гимназия производила на весь край. Возможно, что на всю эту деятельность власти закрыли бы глаза, если бы Чацкий не ввел в гимназии отдельную учебную программу, противоположную духу остальных учебных заведений, подчинявшихся Виленскому университету. Желая угодить светским вкусам шляхтичей, на чье благосклонное отношение Чацкий рассчитывал, он отвел в программе значительную часть времени на танцы, верховую езду, фехтование. В десятилетнем курсе обучения первые четыре года почти полностью были посвящены изучению иностранных языков. Эта программа копировала домашнее образование, получаемое во дворцах и усадьбах, когда ребенка учили прежде всего быть «европейцем», т.е. говорить на французском, немецком, латинском и итальянском языках. Ректоры Стройновский, а за ним Снядецкий напрасно протестовали, указывая на то, что подобное обучение будет способствовать воспитанию космополитов-марионеток. Чацкий злоупотреблял благосклонностью старого министра Завадовского в Петербурге. Благодаря ходатайству последнего 28 июля 1805 г. сам Александр I закрепил за Кременецкой гимназией особый статус. Даже и Чацкий был удивлен таким поворотом и называл это удавшейся дерзостью, о чем с гордостью писал Коллонтаю373. Возможно, ему не стоило так громко торжествовать: вскоре неопровержимый успех Кременецкой гимназии, методика графа и его симпатии к Наполеону вызвали подозрение у киевского военного губернатора, которым в 1806 – 1809 гг. был не кто иной, как генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов. Император отправил его в Киев после Аустерлицкого поражения, а затем перевел на аналогичную должность в Вильну, на которой Кутузов будет оставаться вплоть до 1812 г. – года воздаяния.
По правде говоря, у царских властей были все основания косо глядеть на невероятное рвение Чацкого, стремившегося вернуть польской аристократии, по крайней мере на местном уровне, монополию на культурное доминирование. Единственным городом на Правобережной Украине, который находился под контролем России с конца XVII в., был Киев. В то время его скорее можно было назвать местечком, чем городом. Окруженный со всех сторон крупными имениями, принадлежавшими полякам, Киев виделся российским элитам центром православных и древнерусских традиций. Коллонтай, который во всем, что касалось Кременецкой гимназии, поддерживал Чацкого, настаивал на необходимости борьбы за души украинских крестьян. Впрочем, у царских властей были аналогичные планы относительно Киевской губернии, имевш ей большое символическое значение для всей империи. В отчете за 1804 г. Чацкий указал, что наряду с 43 597 шляхтичами мужского пола в Киевской губернии проживает полмиллиона душ крепостных. Коллонтай настоятельно советовал графу в случае создания приходских школ не вводить в них обучение на русском языке. Следовало внедрять язык господ: «Русский язык я бы не давал в приходской школе, простонародью этому языку не надобно учиться, он его знает настолько, что сможет объясниться с коренным русским. Если же давать книги учителям и люду на этом языке, то мы не сможем понимать ни люд, ни учителей, не поймем мы и этих книг, а речь идет о скором просвещении и скором восстановлении сельского хозяйства; кроме того, к чему это приведет, если люд нас, а мы люд понимать не будем?»374
В скором времени власти поставили вопрос об отсутствии в Киеве русской гимназии. Чарторыйский, в то время российский министр иностранных дел, хотел, как попечитель, дать пример безоблачного сотрудничества, а потому посоветовал Чацкому достичь взаимопонимания по вопросу о русском языке с гражданским губернатором Панкратьевым или с министром Завадовским, который в июне 1805 г. как раз был проездом в Киеве375. Одновременно с этим, не зная о предпринятых шагах попечителя, 159 польских помещиков на съезде шляхты Киевской губернии подписали обращение к властям об учреждении в Киеве польской гимназии (2 сентября 1805 г.).
Чацкий же не искал путей к взаимопониманию. Он опасался, что огромную Киево-Могилянскую академию, где фактически готовили священников для всей империи (в 1805 г. в ней насчитывалось 1146 семинаристов), превратят в университет, разрушив тем самым его волынские планы. В крайнем случае, он мог бы согласиться возродить неподалеку от давней столицы православия прежнюю уездную школу в Радомысле, но при условии, что она будет польской. И хотя (изменения наступят лишь после 1834 г.) министр просвещения настаивал лишь на символическом открытии гимназии с русским языком в Киеве, Чацкий не уступал до 1812 г., ссылаясь на то, что во всей Киевской губернии насчитывается всего 189 русских чиновников. Он жаловался князю Чарторыйскому: «Кто же тогда, если придерживаться пропорции, имеет право на обучение на родном языке? […] Мы имеем право надеяться, что наш язык не погибнет […]. Киев – это старинный руський город, который тянется на многие версты […], часть за Днепром принадлежит к [учебному] округу в Харькове, но большая западная часть принадлежит Польше». Ставка в игре была слишком велика для православных376.
Осознавая, что на тот момент Киев не имел ярко выраженного русского характера, а был лишь духовным центром, царские власти несколько лет колебались, решая, как повести себя в отношении Чацкого. Завадовский не знал, что делать с упомянутой гимназией: прикрепить ли ее к Киево-Могилянской академии или к кадетскому корпусу, который должны были в скором времени открыть. В 1807 – 1808 гг., когда Наполеон подошел к границе Российской империи, Кутузов попытался отослать беспокойного инспектора в столицу, однако это лишь способствовало укреплению позиций последнего. Сразу после возвращения на Украину в январе 1808 г. Чацкий организовал петицию от шляхты Киевской губернии с просьбой объединить свой школьный бюджет с бюджетом Кременца – города, достаточно удаленного от Киева.
Чтобы оправдать это объединение, заведение должно было называться «гимназией двух губерний», элита же шляхетского собрания – граф С. Жевуский, Ф. Плятер, В. Ганский, Ю. Понятовский, Ю. Бутковский, Можковский и Закшевский подписали вместе с волынским предводителем шляхты, сенатором М. Ворцелем, и самим Т. Чацким достаточно фантастическое обещание внести в фонд учебного заведения по одному рублю с крепостной души, что составило бы сумму в 450 438 рублей (22 521 руб. годового процентного дохода)377.
Более реалистичной оказалась позиция ректора Виленского университета Я. Снядецкого, который попытался напомнить, что, согласно принятой должностной иерархии, только он имеет право принимать решения, касающиеся организации учебного процесса. Тем не менее, стараясь найти компромисс, он предложил А. Чарторыйскому назначить директора Киевской гимназии еще до ее создания. Возможный кандидат на эту должность, обрусевший поляк Мышковский, мог бы удовлетворить обе стороны378. Однако Чацкий продолжал утверждать, что в Киеве нет помещения, в котором можно было бы разместить гимназию, если не считать (это звучало действительно провокационно) резиденции губернатора П.П. Панкратьева. Чарторыйский, чувствуя, что конфликт начинает обостряться, послал с инспекцией польского аристократа, чье влияние было значительно сильнее влияния Чацкого, графа Людвика Плятера, который поддался уговорам и 13 июня 1809 г. написал Чарторыйскому о необходимости открыть в Киеве русскую гимназию, где польский язык преподавался бы как иностранный. В ответ многочисленной польской шляхте Киевской губернии пришлось бы под давлением Чацкого отправить детей в Кременецкую гимназию, если бы на тот момент не была наконец открыта гимназия в Подолье379.
Вступление в должность министра народного просвещения графа А.К Разумовского положило конец отсрочкам в решении вопроса о русской гимназии в Киеве. Таковая была открыта 9 октября 1811 г. Она получила особый статус – находилась под непосредственным контролем министерства. Гимназия оставалась крайне малочисленной (в 1816 г. было всего 83 ученика), поскольку польская шляхта не желала отправлять туда своих детей. Однако в данном случае речь шла прежде всего о символическом значении этого учебного заведения. Чарторыйский, на которого в Петербурге уже стали смотреть косо, мог дать министру лишь последний бой ради чести. Он писал Разумовскому по-французски: «В Киевской губернии только сам город и его уезд населяют жители русского происхождения, тогда как в других уездах прежних польских губерний живут лишь подданные этой национальности [крепостные, по мнению князя, могли принадлежать лишь к той нации, к которой принадлежали их владельцы. – Д.Б.]. […] Поскольку Его Величество наделил своих польских подданных такими же привилегиями, которыми пользуются немецкие подданные, то есть возможностью использования в судах и в школах родного языка, то кажется несправедливым лишить их этого права в Киевской губернии, которая является частью восьми прежних польских губерний». Во избежание упреков в недостатке польского патриотизма Чарторыйский извинился перед Чацким: «Я с сожалением узнал о том, в каком виде была создана Киевская гимназия. Дело бы имело иной поворот, будь я в Петербурге. Посылаю Вам копию письма, с которым я обратился к министру. Граждане Киевской губернии могут быть уверены, что я не сидел сложа руки, а по мере своих возможностей пытался исправить сложившуюся ситуацию, исходя из справедливости и истинной пользы для края»380.
Чацкий был вынужден, несмотря на то что это противоречило его взглядам, открыть 30 января 1812 г. это учебное заведение. Правда, несомненным реваншем для него стала произнесенная им речь о культурной роли поляков в объединении двух славянских ветвей. Впрочем, сразу после этого он отказался курировать школьное образование в Киевской губернии. Чарторыйский перепоручил это занятие графу Адаму Жевускому. Последнему понадобилось несколько лет, чтобы добиться открытия в Киевской губернии двух польских уездных школ в Радомысле и Махновке. Это произошло лишь после того, как не только Киев, но и вся Киевская губерния были окончательно выведены из-под власти Виленского учебного округа и его попечителя Чарторыйского, столь тесно связанного с прошлым этих земель и польской идеей. Согласно указу от 23 сентября 1818 г. под предлогом их же «блага» все школы Киевской губернии были переведены в ведение Харьковского университета, что не обошлось без протестов со стороны Чарторыйского. Впрочем, вероятнее всего, эти меры министра А.К. Разумовского, а затем его преемника А.Н. Голицына были реакцией на рост влияния польского образования в Кременце и, в частности, на пропольские инициативы преемника Чацкого после 1813 г., графа Филиппа Плятера. Одной из последних, к примеру, было сделанное Плятером в августе 1813 г. предложение министру просвещения о направлении на учебу в польские школы православных священников, дабы избавить их от присущей им косности и невежества381.
Как уже говорилось, в Киевской губернии действовало всего две польских школы, в Умани (448 учеников по состоянию на 1816 г. и 660 в 1830 г.) и Каневе (165 в 1816 г. и 200 в 1830 г.). Обе школы находились в ведении базилиан. Кроме Киевской губернии этот орден, все сильнее раздражавший царские власти, играл важную роль в деле образования в Волынской и Подольской губерниях, за исключением Кременца. Базилианский орден был очень тесно связан с шляхтой, в его владении находилось около 30 монастырей (бывших православных), располагавших крупной земельной собственностью. Униаты-базилиане олицетворяли гегемонию Рима и Польши над православным духовенством, которое было значительно беднее, а также над столь же нищим греко-униатским (грекокатолическим) белым духовенством. Еще со времен Екатерины II Базилианский орден стал предметом особенного внимания российских властей, стремившихся вернуть униатов в лоно православной церкви382.
Указом от 17 мая 1804 г. объявлялось о конфискации всех принадлежащих Базилианскому ордену монастырей, не ведших образовательной деятельности, с целью улучшения материального положения более многочисленного светского духовенства. Однако Чарторыйскому и Чацкому удалось приостановить реализацию этого указа, подав контрпроект, согласно которому все монастыри обязывались участвовать в финансировании школ. Кременец получал, таким образом, возможность для изыскания дополнительных средств. Согласно замыслу Чацкого, у гимназии было бы право семинарского обучения базилианских послушников, которые затем должны были на протяжении 15 лет преподавать в базилианских школах. Однако, когда царь уже собирался утвердить это представление, грекокатолический митрополит Ираклий Лисовский выступил с заявлением о том, что подобная инициатива будет способствовать усилению католического влияния в базилианских школах. Лишь 2 октября 1810 г., после шквала записок и отчетов, Александр I утвердил базилианские школы в прежнем статусе, давая при этом понять, что в любую минуту им может быть принято решение о конфискации «непригодных» монастырей в пользу грекокатолического белого или православного духовенства. Постепенное распространение православной религии приобретало неожиданный социальный оттенок: православные и униатские приходские священники, люди неблагородного происхождения или выходцы из безземельной шляхты, стали представлять угрозу для позиций польской аристократии и богатых землевладельцев, с которыми были тесно связаны базилиане. Нередко бывали случаи, когда католики становились базилианами с целью сохранения крупной униатской собственности в польских землях. В обширной записке от 24 апреля 1822 г. Чарторыйский, нахваливая педагогический энтузиазм базилианских монахов, объяснял Голицыну, что орден готов превратить в гимназии свои коллегии в Овруче, Любаре и Умани, а также школы в литовских землях.
Однако попечитель на тот момент уже не имел прежнего влияния – наступало время политики «истинного русского» А.С. Шишкова. Доходы многочисленных базилианских монастырей Украины – в Жидычине, Дубне, Дермани и др. – передавались белому духовенству; в свою очередь, «польско-латинское» господство в сфере образования стало объектом постоянных нападок. Если в Литве с подобным доминированием царские власти еще мирились, то на Украине считали, что вопросы образования не должны находиться в компетенции не только попечителя, но и Виленского университета. Было найдено достаточно причин, чтобы перевести волынские и подольские школы под контроль Харьковского университета, который уже с 1818 г. курировал школьное образование в Киевской губернии. Жена одного русского чиновника в Волынской губернии, чьих двух сыновей исключили из Житомирской гимназии из-за отсутствия школьной формы, подала в 1820 г. жалобу, заявив, что детей на самом деле исключили из-за их русского происхождения. Кроме того, она подчеркивала, что дети в гимназии были лишены возможности получить наставление в основах православной веры. Начиная со следующего года министр просвещения обязал все католические и униатские школы к привлечению православных священников383. Когда же в 1824 г. политический процесс над виленскими студентами выявил несколько подозрительных контактов с украинскими школами, Харьков попробовал добиться того, чтобы во всех волынских и подольских школах была введена русская дирекция. Однако подобная деполонизация начнется лишь после 1831 г.384
Как видим, в очередной раз Киевская губерния стала полигоном деполонизации без огня, еще до того как Польское восстание 1830 г. дало повод для проведения повсеместной деполонизации огнем и мечом.
Инициатором упомянутых выше изменений был киевский военный губернатор, знакомый нам по предыдущей главе, П.Ф. Желтухин, который ничтоже сумняшеся утверждал, что еще Литовский статут требовал ведения делопроизводства на русском языке. Всего за две недели до восстания, 15 ноября 1830 г., он написал князю К.А. Ливену, в то время министру народного просвещения, что, несмотря на требования Харьковского университета, базилиане продолжают в Умани и Каневе вести преподавание исключительно на польском языке, и среди сотен их учеников не найти того, кто говорил бы по-русски. Как и ранее, он просил обязать шляхту употреблять русский язык на собраниях, в судах и в официальной переписке. В ответ на это письмо он получил от Николая I приказ полностью ликвидировать обучение на польском языке в школах Киевской губернии. Как видим, перед нами очередной пример языковых репрессий, начатых еще до Ноябрьского восстания. Статс-секретарь Н.Н. Муравьев сообщил о царской воле министру Ливену, а тот, в свою очередь, представил собственный проект на рассмотрение императору 10 декабря 1830 г. Опасаясь протестов со стороны 22 преподавателей, в том числе 15 монахов-базилиан, он предлагал перевести их в школы, относящиеся к Виленскому учебному округу, поскольку в противном случае они лишились бы своих мест; вменить же в вину им было нечего. В том, что касалось учеников, министр считал, что следовало бы постепенно сокращать количество часов преподавания на польском языке, приглашая русских преподавателей из Харькова, или же закрыть эти школы385. Восстание, начавшееся 29 ноября 1830 г. и набравшее силу в 1831 г., делало, по мнению царских властей, необходимыми не только подобные меры в Киевской губернии, но и распространение их на все «польские губернии».
Пятнадцатью годами ранее Чацкий, который не мог не знать о намерениях киевского гражданского губернатора Панкратьева, предчувствовал, что в своей попытке утвердиться российская культура будет оказывать сильное давление на польскую. Глядя с этой точки зрения на деятельность Чацкого по созданию собственной гимназии в Кременце, можно понять причину, которая заставляла его с таким рвением отдаваться этой работе. В то же время крайне важно понять, каким образом его инициативы были восприняты землевладельцами. Ответ на этот вопрос даст более точную картину о состоянии настроений в этом сословии.
С целью сохранения столь близкой ему шляхетской автономии Чацкий хотел доказать, что участие всех «граждан» в общественных делах, касавшихся образования согласно духу Просвещения, существенно превзойдет все, что могло быть предложено шляхте царскими властями, более того, превзойдет скудное воображение жалких преподавателей, не имевших ни малейшего представления о престиже благородного происхождения.
В связи с вопросом о финансировании Кременецкого лицея необходимо более внимательно изучить, насколько реалистичны были надежды Чацкого на пожертвования от собратьев-шляхтичей. По его мнению, крупные землевладельцы уже в силу своего положения должны были стремиться продемонстрировать жизненную силу польского присутствия на этих землях. Они должны были отчислять определенные суммы со своих доходов на содержание Кременецкой гимназии, знаменитого учебного заведения, достойного польской шляхетской традиции.
Поскольку первые подсчеты показали необходимость выделения на содержание гимназии сумм, в четыре раза превосходивших бюджет, предусмотренный для гимназий в других городах, Чацкий позаботился о поддержке со стороны шляхетских собраний всех уездов и губерний, тем самым обеспечив себе свободу действий: «Все подарки, сделанные в интересах гимназии, находятся в моем распоряжении, чтобы мои руки не были связаны […], все это делается на средства, которые не принадлежат Императору, я сам распоряжаюсь этими суммами, а потому могу иметь право избрать ректором того, кого хочу»386.
Однако сумма взносов не отвечала ожиданиям. Сохранились списки дарителей. В списке Владимирского уезда, составленном в конце 1804 г., значатся 73 фамилии, среди которых 63 лица дали всего от 100 до 500 польских злотых (злотый в то время был в десять раз дешевле рубля), восемь человек внесли от 500 до 1000 злотых, а шестеро – более тысячи. Среди самых щедрых дарителей были известные магнаты – М. Мнишек, А. Ходкевич, А. Чарторыйский, А. Стецкий, Э. Сангушко387. Дарственные, гарантированные земельной собственностью, были специально зарегистрированы земским судом. Несмотря на то что на открытии гимназии Т. Чацкий заявил о сумме ежегодного дохода в 15 420 рублей, вскоре появились сомнения насчет чувства «гражданской ответственности» землевладельцев. Попечитель Чарторыйский обратил внимание на то, что значительная часть взносов была обременена ипотекой или касалась имущества, отнесенного ранее на счет других школ. Он безуспешно пытался получить от Чацкого юридические доказательства происхождения дарственных записей. Последнего возмущала сама мысль о том, что можно усомниться в честном слове шляхтича-»гражданина»388. Ректор Виленского университета Я. Снядецкий неустанно указывал Чарторыйскому на показуху и «невероятный беспорядок в финансах Кременца»: некоторые учителя не получали жалованья, сам же Чацкий оказался должником389.
Пренебрежительное отношение аристократии к преподавателям проявилось с еще большей очевидностью, когда 21 декабря 1807 г. Виленский университет решил создать две комиссии (одну в Литве, другую в трех украинских губерниях) для проведения инвентаризации бывших иезуитских владений, которые в 1773 г. были переданы Комиссией национального просвещения в аренду под 4 % годовых в пользу учебных заведений. Предполагалось, что эти деньги будут направляться на создание Образовательного фонда Комиссии. В этом деле царила полная неразбериха – часть земель была незаконно присвоена другими владельцами, а аренда зачастую не выплачивалась. Многие землевладельцы по прошествии почти 40 лет считали упомянутые имения своими и не хотели ворошить прошлое, тем более что сейм 1788 г. разрешил продажу этих земель. Граф Чацкий по договоренности с «гражданами» напрасно пытался убедить Чарторыйского в необходимости пресечь виленское начинание. Он без устали писал письма, в которых заявлял, что «каждому народу свойственно переживать моменты, когда жадность граждан становится правомочной. У нас, к примеру, 1505, 1569, 1666 годы являются тому подтверждением. История рассудит людей. Закон сохранит ее деяния. Не стоит начинать войну за собственность. Разве будут любить нас дети, чьи отцы и матери будут нас проклинать?»390
Чацкого все-таки заставили создать комиссию. Он лично возглавил ее, окружив себя богатыми землевладельцами Ф. Олизаром, В. Борейко, М. Собанским и А. Ходкевичем, от которых нельзя было ожидать рвения в ревизии землевладения. Более того, после смерти Чацкого в новой политической ситуации члены комиссии превратили ее в центр поддержки местных шляхетских идеалов. Виленскому университету так и не удалось добиться от Волынской комиссии данных о долгах и недоимках. Ректор Снядецкий напрасно изливал свой праведный гнев в письмах к Чарторыйскому, указывая на то, что Чацкий все время лавировал, боясь гнева местных землевладельцев и ставя спокойствие нескольких помещичьих семей выше общественного блага, за которое сам же ратовал. Ректор достаточно быстро понял цель подобного поведения: члены комиссии, которые практически не оказывали влияния на шляхетские собрания, имея доступ ко всем арендным договорам, заключенным еще до требования о проведении ревизии бывших иезуитских земель, воспользовались случаем, чтобы сохранить собственные имения. Получив свободу рук, они под видом поиска долгов были вправе прекратить судебные преследования, которые могли запятнать рыцарскую честь. Впрочем, разве не сама землевладельческая шляхта олицетворяла собой правосудие?391
Именно нехваткой средств можно объяснить причину, по которой Чацкий решил за счет остальных учебных заведений Волыни и двух других губерний развивать дорогую его сердцу Кременецкую гимназию. В несколько более выгодном положении по сравнению с Киевской губернией оказалась Подольская: здесь было больше школ, хотя при жизни Чацкого так и не было открыто ни одной гимназии. Многие школы находились в церковном ведении, и граф, не колеблясь, пользовался выделяемыми на них церковными средствами. Базилиане, чувствуя угрозу, платили безропотно. Здания школ в губернских центрах, Каменец-Подольском и Житомире, были практически разрушены, выделяемые на них средства уходили в Кременец. Евреи, которые сами содержали свои хедеры, также должны были вносить определенные суммы в счет польской гимназии, в которой никто из них никогда не учился. 15 октября 1810 г. кагалы Владимира, Любомля, Дубно, Ковеля, Острога, Степани, Кременца, Бара, Ляховиц, Олыки и Ровно обязались ежегодно платить значительные суммы на протяжении 1813 – 1827 гг. Некоторые выплаты достигали 40 тыс. злотых392.
Проявление подобной активности произвело сильное впечатление на министра Завадовского. После приезда Чацкого в Петербург 31 августа 1807 г. он утвердил подготовленный инспектором устав приходских школ, согласно которому предполагалось развитие народного образования в духе воззрений Г. Коллонтая. Однако в действительности эти школы предназначались для начального обучения детей безземельной шляхты. В свою очередь, утверждение устава дало возможность получения для Волынской гимназии средств из доходов Кременецкого староства, предоставленного государством, т.е. дало гимназии статус землевладельца с правом владения крепостными крестьянами393. Процесс создания самих приходских школ далеко не соответствовал оптимистическим ожиданиям Чацкого. 5 октября 1810 г. он послал министру А.К. Разумовскому рапорт, подготовленный членами уже упомянутой Волынской комиссии. Согласно уставу, приходские школы финансировались исключительно за счет благотворительных пожертвований. К рапорту прилагался список из 89 школ Волынской губернии. Внимательное знакомство с таблицами показало, что в 32 случаях имелось примечание «еще не существует» с указанием необходимой, но еще не внесенной суммы. В аналогичной таблице по Подольской губернии из перечисленных 52 школ существовало в действительности лишь 11. Остальные школы планировалось открыть в начале 1812 г.394
Подводя итог развитию школьного образования в период неутомимой деятельности Т. Чацкого и признавая огромные успехи Кременецкой гимназии (о которой еще пойдет речь), следует сказать, что именно благодаря Чацкому польская национальная и шляхетская идея на Украине достигла своего апогея. В то же время необходимо признать, что в случае Чацкого мы имеем дело с определенного свойства патриотизмом, который отвечал тону петиции 1808 г. Волынского шляхетского собрания к царю, проанализированной нами в предыдущей главе. Свидетельством тому – скупые взносы в образовательный фонд, отказ от ревизии бывших иезуитских владений, а также повсеместная барщина, которую в 1809 г. Чарторыйский пытался отменить395, – все это лишний раз указывает на то, что шляхта главным образом стремилась к жесточайшей эксплуатации своих крепостных и извлечению прибыли из имений. Этому сопутствовала также ее убежденность в собственном превосходстве над русскими.
Во время войны с Наполеоном неожиданно появился новый самозваный инспектор, который переместил центр политического тяготения землевладельческой шляхты, сумев очень быстро убедить ее в преимуществах, которые могут ниспасть на нее, обрати она свои взоры к русской идее.
Учебные заведения Украины и шляхетский патернализм
В Петербурге все большее влияние стали приобретать мнения «истинных русских». Провозглашенные в 1802 – 1803 гг. просветительские идеи ушли в небытие, как только стало ясно, что их воплощение Сперанским может быть опасным для самого дворянства. Карамзин, который в начале царствования Александра I с энтузиазмом приветствовал рождение новой школьной системы, в 1811 г. в «Записке о древней и новой России» присоединился к консерваторам и заявил о необходимости покончить с энциклопедизмом: «Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной – от инженера, законоведения – от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойство оксигена и всех газов. Вице-губернатор – пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками»396. Подобное проявление иронии в отношении просветительских идей объясняется страхом перед возможным подъемом в России разночинцев, которых подозревали в распространении ужасного французского духа. После того как в апреле 1810 г. министром народного просвещения стал А.К. Разумовский, полностью находившийся под влиянием обскурантистских идей Жозефа де де Местра, который буквально засыпал его своими текстами397, уже в августе 1810 г. был основан Царскосельский лицей. С открытием этого элитарного учебного заведения для дворян наметился существенный перелом в образовательной системе, основы которой были заложены в 1803 г.
Через год, 26 августа 1811 г., министр внес очередную поправку в оригинальную концепцию автономного мира ученых и преподавателей, вернув зажиточной шляхте возможность интересоваться деятельностью школ. Речь шла о том, чтобы, согласно идее Местра, не оставлять преподавания в руках «педантов из коллегиумов». Разумовский указывал на якобы царящее в мелких городах предвзятое мнение о тех, кто не умел делать ничего, кроме как преподавать, и был известен лишь в научных кругах. По его мнению, директора школ, не занимающие высоких чинов и не имеющие земельной собственности, редко пользовались уважением, что вредило школам. Если бы, напротив, директора школ назначались из числа землевладельцев, это вернуло бы доверие дворян к этим учреждениям, а общественность благосклоннее бы отнеслась к учебе. Однако такое решение привело бы к тому, что большая часть директоров потеряла бы занимаемые должности. Именно поэтому было решено дополнительно избирать почетных директоров, которые бы отвечали перечисленным критериям398. Такое явное пренебрежение к ученому сообществу в России (в шляхетской среде Украины такое отношение было известно и ранее) противоречит мнению Алена Безансона, который считает, что интеллигент, в русском значении этого слова, пользовался уважением, поскольку был явлением редким399. Еще в 1804 г. Виленский университет отверг предложение Т. Чацкого об участии предводителей шляхты в школьной жизни (а именно об их присутствии во время ежегодных экзаменов во всех уездных школах). Теоретически в «польских губерниях», по сравнению с остальной частью империи, не было необходимости в подобной патерналистской опеке помещиков над школами, поскольку кроме нескольких иностранцев все преподаватели (500 – 600 человек) уездных школ и гимназий Виленского учебного округа были по своему происхождению шляхтичами. Как правило, они принадлежали к бедной шляхте, однако сам факт их происхождения должен был в достаточной степени гарантировать то, что обучение велось ими в духе шляхетской солидарности и добродетели. Патерналистские устремления в очередной раз указывают на существовавшую разъединенность шляхетского сословия. О шляхетском происхождении «педагогического состава» было забыто, преподаватели же воспринимались крупной шляхтой как отдельная небольшая группа, живущая по собственным законам. Половина этой группы состояла из монахов (среди которых наиболее обеспеченными, как мы видели, были базилиане), другая половина (около 100 учителей во всех трех губерниях) в условиях отсутствия на Украине разночинцев могла показаться необычной. Эта малочисленная группа представляла собой зачаток шляхетской интеллигенции. В своем стремлении вернуть былой блеск шляхетской идее она обратилась к совершенно новому, а потому не поддающемуся контролю оружию – знанию и оплачиваемой профессиональной компетентности.
Беспокойство волынской шляхты, а также властей, вызванное появлением этой небольшой группы, было ловко использовано графом Филиппом Плятером, который, несмотря на еще большую, чем у Чацкого, приверженность барочному, бесшабашному, стилю поведения, настолько сумел угодить властям, что на протяжении 1818 – 1824 гг. оставался в должности вице-губернатора этой губернии.
После смерти Чацкого в феврале 1813 г. Плятер не стал акцентировать роль Кременецкой гимназии в качестве оплота польской культуры, однако приложил все усилия для того, чтобы она стала восприниматься как социально важное явление, идеальный образовательный центр для людей благородного происхождения в противовес серости и ограниченности университетского мира. Через пять лет Кременецкая гимназия приобрела статус лицея, т.е. была приравнена к Царскосельскому лицею и предназначалась для обучения главным образом польской аристократии на Украине.
Подобное отличие со стороны властей свидетельствовало о решительности действий волынской землевладельческой элиты, лучшие представители которой входили в дворянское собрание и образовательную комиссию. В начале войны с Наполеоном эта группа воспользовалась временной опалой попечителя Чарторыйского, чтобы наладить непосредственные контакты с Петербургом, что выглядело вполне естественно, поскольку в конце июня 1812 г. французы оккупировали Вильну. Еще при жизни Чацкого Плятер посчитал возможным проинформировать Разумовского о предусмотренных местной шляхтой планах по эвакуации гимназии. Приняв это во внимание, министр разрешил молодому графу обращаться к нему, как он писал, «droitement» – напрямую (переписка велась по-французски), что дало основания Плятеру надеяться на удачную карьеру в будущем. После смерти Чацкого он при поддержке «сограждан» не колеблясь предложил себя на должность инспектора – в противовес предложенной Чарторыйским кандидатуре князя Дмитрия Четвертинского из Подольской губернии400.
Хотя официально Плятер не был утвержден в должности инспектора трех губерний, однако он и в дальнейшем пользовался поддержкой министра Разумовского в оказании давления на Чарторыйского, для которого становилось все более очевидным, что возвращение на должность попечителя Виленского учебного округа потребует от него отказа от исповедуемых им до 1812 г. идей. В условиях создания Священного союза все большее влияние на Чарторыйского с 1815 г. начали оказывать волынские консерваторы, которые предпочли идеи Ж. де Местра просветительским идеям и планам Комиссии национального просвещения.
Шляхетские покровители просвещения решили не откладывать в долгий ящик открытия гимназии в Подольской губернии. И хотя в 1812 г. им вновь удалось найти причину для отклонения кандидатуры директора, предложенной из Вильны для Винницкой гимназии, в 1814 г. они согласились на кандидатуру пиара Мачеёвского. Он был известен тем, что ради женитьбы снял с себя монашеский обет, а затем, бросив жену, вернулся в монастырь. Во время войны с Наполеоном ему удалось заручиться поддержкой русских в Белостоке. Открытие гимназии положило конец монополии Кременца как единственной польской гимназии на Украине и значительно облегчило диалог с Петербургом. Отныне шляхта могла заботиться о защите и расширении своих привилегий, якобы узурпируемых «ученым сословием».
В идеале было желательно если не ликвидировать, то максимально ограничить деятельность местной Комиссии образования с целью прекращения пересмотра статуса прежних иезуитских имений. Об этом сразу после смерти Чацкого Плятер и сообщил Чарторыйскому в письме от 11 февраля 1813 г., предлагая сократить состав Комиссии до трех членов и трех секретарей, сделав эти должности пожизненными, и предписать им заниматься не проверкой взятых ранее обязательств, а распределением получаемых средств, административным надзором за преподавательским составом и школьными программами, – до этого времени это было прерогативой директоров школ (например, в Кременце верным исполнителем пожеланий Виленского университета был директор Счиборский401). Кроме того, Плятер настаивал на контроле за средствами специальной комиссии землевладельцев, куда, обратим внимание на формулировку, «избирались бы граждане, не только компетентные, но и владеющие поместьем, защищающим их добродетели». Будучи владельцем 1600 крепостных душ, Плятер посчитал себя достаточно добропорядочным для членства в этой комиссии. Кроме себя он предложил также кандидатуры графов Жевуского и Мошинского402.
Несмотря на то что Плятер не был утвержден в должности инспектора, 20 августа 1813 г. он выслал Разумовскому длинный отчет о состоянии школьного образования, который был насквозь пропитан прежним духом золотых шляхетских вольностей. В нем были высказаны предложения о перемещении и награждении преподавателей, о проведении обязательного обучения православных священников в польских школах (эта неудачная идея уже высказывалась ранее и на этот раз серьезно расстроила министра), о возвращении к проекту превращения Кременецкой гимназии в университет. Последняя идея станет основой всей деятельности Плятера403. Для достижения этой цели необходимо было предпринять ряд шагов. Их несколько примитивный и ритуальный характер не должен заслонить от нас ни серьезность делаемой ставки в игре за сохранение культурного доминирования, ни тот факт, что волынские помещики, которые вскоре подадут на имя царя вторую обширную петицию (см. предыдущую главу), видели в этом возможность реализации своих амбиций, ограничиваемых царскими властями.
Одна из навязчивых идей аристократии заключалась в убеждении, что тот, кто дает деньги, тот и волен поступать, как ему вздумается. Мысль же о труде во имя всеобщего блага не была распространена в этих кругах. Несмотря на то что, согласно школьному уставу 1803 г., касса Кременецкой гимназии доверялась под личную ответственность ее директору Счиборскому и хранилась под двумя замками, ключи от которых должны были находиться у двух учителей, Филипп Плятер в марте 1814 г. просто-напросто конфисковал ее и передал Волынской образовательной комиссии, избранной из числа «граждан».
Таким образом, директор Кременецкой гимназии превратился в исполнителя воли местных помещиков. Бурные протесты со стороны Яна Снядецкого из Вильны в связи с произошедшим переворотом ни к чему не привели. Впрочем, Снядецкий, давший согласие занять пост министра просвещения во Временном правительстве Наполеона в Литве, особого влияния уже не имел, его дни на занимаемой должности были сочтены. «Дух приверженности к собственной группе всегда был слабым местом ученого сословия, опыт веков и свидетельства истории подтверждают эту грустную истину и указывают на потребность создания комитетов, согласно обширному проекту, который я имел честь вручить Вашему Сиятельству в 1813 г.», – писал Плятер министру Разумовскому404. «Комитеты», о которых шла речь в этом «обширном проекте», вскоре назовут «наблюдательными советами».
Заметив в 1814 г., что позиция Чарторыйского вновь упрочилась, Плятер стал часто обращаться к нему в связи с проектом, сообщая, что собирается публично защищать его в Петербурге, а также на шляхетском сеймике (он продолжал так называть дворянское собрание)405. Торжественный стиль речей секретаря Волынской комиссии Ф. Рудзского на этом собрании – свидетельство тому, насколько интенсивно в Житомире использовали негативный образ «ученых», угрожавших стабильности общества: «Суровое поляки несут наказание за то, что Правительство края безразлично к общественному образованию и полностью отдало его в руки преподающих. Это сообщество свыше двух веков держит его в своих руках, используя его лишь как средство для собственного развития и вовсе не ради общих потребностей и пользы всего народа [речь идет о шляхетской нации. – Д.Б.]»406.
15 ноября 1814 г. Плятер сообщил Чарторыйскому, что министр заверил его в скором создании университета в Кременце и пригласил разработать проект. Он прибавил, что опасается зависти со стороны Вильны и ожидает возвращения Александра I из Парижа. Этот проект, полный амбициозных планов, в начале 1815 г. был представлен Разумовскому407. В нем шла речь о превращении Волынской гимназии не в университет, как планировалось ранее, а в Кременецкий лицей. Такое решение в большей степени отвечало пожеланиям министра и его друга Ж. де Местра о высшем образовании элиты в закрытых учебных заведениях. Подтверждением действенности таких мероприятий стало создание Нежинского лицея графа А. Безбородко на Левобережной Украине и Одесского лицея герцога де Ришелье.
Для достижения своей цели Плятеру еще пришлось вести долгие споры с Виленским университетом и оказывать давление на Чарторыйского. Используемые для достижения цели методы в полной красе представляют характерные черты шляхетской ментальности. Директор гимназии Счиборский, обнаружив «дыру» в бюджете в 12 тыс. рублей ассигнациями, осмелился послать в Вильну критические замечания о прежнем и нынешнем состоянии финансов Комиссии по всем трем губерниям. Разгневанный Плятер направил Разумовскому письмо с просьбой сделать выговор этому наглецу, посягнувшему на святое, не знавшему, что счета – это не барское дело, а слово «гражданин» является достаточным залогом доброй славы в Кременце. Кроме того, Плятер добавил, что все это – следствие заговора учителей и что директором манипулируют трое братьев Ярковских, «терроризирующих ученое сословие». Плятер считал, что именно ему следовало поручить подготовку бюджета, а в конце добавил, что «Иосиф II вполне справедливо заметил, что предпочитает командовать четырьмя армиями, чем двумя учеными»408.
Чарторыйский, все еще не утвержденный на должности попечителя (это произойдет после прихода в министерство Голицына), в конечном итоге был поражен активной деятельностью волынских «граждан». В декабре 1815 г., не имея никаких полномочий, кроме поддержки шляхетского собрания, Плятер заявил учащимся и преподавателям Кременца, что отправляется со своим грандиозным проектом в Варшаву, чтобы убедить в его целесообразности князя Чарторыйского. Своим «заместителем» он назначил графа Р. Стецкого, а с собой взял преподавателя Лучинского, приятеля графа Яна Потоцкого, писателя-эрудита, который всеми фибрами души ненавидел Виленский университет. Плятер успел перед отъездом произнести панегирик в честь дворян, членов Волынской комиссии, и заявил, что будет просить Петербург представить их к награждению крестом Владимира третьей степени или Анны второй степени. В ответ на просьбу министр ответил, что предпочел бы для начала увидеть ясные счета.
Ясности, а точнее, укрытия имевшихся злоупотреблений можно было достичь, лишь отдалив от управления педагогов. Профессор Малевский, которого направили из Вильны в мае 1816 г. изучить состояние волынских школ, был глубоко удивлен увиденным – на губернском шляхетском собрании «граждане» собирались голосовать за распределение фондов, за их официальное изъятие из подчинения представителя университетского опекунского совета и за снижение процента отчислений на образовательные цели из бывших иезуитских имений.
Защитники духа Просвещения, которые еще оставались в Виленском университете, выступили против возвращения к анахронической системе управления, «которая привела к гибели страны», и против «возвращения к прежней польской анархии», однако их уже некому было слушать – Чарторыйский встал на путь, указанный Священным союзом409.
Куратор действительно согласился принять 23 сентября 1816 г. в Варшаве делегацию волынских шляхтичей в составе Плятера, Яблоновского, Стецкого и Феликса Чацкого. Делегация пыталась убедить князя в том, что работа законодательной комиссии близится к завершению и что теперь ее следует заменить губернскими «наблюдательными советами», т.е. шляхетскими выборными органами по управлению школами, но при этом не раскрывать полностью сути их деятельности, чтобы не вызвать протестов со стороны преподавателей. В начале 1817 г. секретарь комиссии Рудзкий, желая создать у Чарторыйского более благоприятное впечатление перед тем, как тот лично на месте проверит условия превращения Кременецкой гимназии в лицей (это название тогда впервые было использовано Рудзским), подготовил и выслал ему несколько докладных записок, в которых давал разъяснение относительно того, на каких условиях шляхта собиралась приватизировать это среднее учебное заведение. Делами прежнего Фонда национального просвещения могли отныне интересоваться лишь казенные палаты, т.е. государство, деятельность же Кременецкого лицея теперь должна была находиться в ведении выборных наблюдательных советов. Подчеркивалось, что не стоит и невозможно более заниматься поиском следов прежних иезуитских владений, поскольку все незаконные присвоения подпадают под действие права давности. Одновременно с этим был представлен проект, не менее масштабный, чем во времена Чацкого, а в сущности, фантастический для городка, где не было мощеных улиц. Планировалось расширить библиотеку, обустроить разные лаборатории, построить больницу, ветеринарный институт, механическую мастерскую, новый манеж и конюшни, пансионат, уездную школу, уже давно планируемую школу гувернанток, создать кафедры архитектуры, акушерства, хирургии, тригонометрии и астрономии410.
В 1817 г. Чарторыйский, приехав в Вильну, объявил о создании дирекции школ в составе четырех профессоров. Однако поездка его несколько разочаровала, он убедился в обоснованности критики со стороны шляхты с Украины. В апреле 1818 г., после Варшавского сейма, который стал одновременно вершиной и концом несбыточных обещаний Александра I об объединении Царства Польского с «польскими» губерниями империи и на котором Чарторыйскому удалось сказать царю несколько слов о намерении создать в Кременце лицей411, князь сразу же уехал на родную Украину. Он провел там все лето 1818 г., после того как сочетался браком в возрасте 47 лет с восемнадцатилетней Анной Сапегой. Решив лично ознакомиться с состоянием школьного образования, Чарторыйский посетил не только несколько уездных, но даже приходские школы в Луцке, Ворончине, Любаре, Волосовке, Махновке, Житомире и Виннице, оставив в журналах трех губерний замечания о методике преподавания, предметах, которые следует развить, и т.п., а также заехал в Меджибож, чтобы посетить учрежденную им в одном из своих дворцов уездную школу, однако застал там только учителей, ученики были на каникулах412. Путешествие князя Адама сопровождалось светскими встречами, все известные семьи спешили предстать перед человеком, которого еще было принято считать близким другом царя. По всей видимости, внимание местных помещиков очень льстило князю, о чем он не преминул сообщить своему старому отцу: «Много граждан собралось здесь. […] Кроме того, князь Евстахий [Сангушко. – Д.Б.], кое-кто из уездных маршалков и даже губернатор генерал Гижицкий провели здесь несколько дней. Это собрание дало нам случай организовать многочисленные балы, на которых моя жена много танцевала»413.
Длительное пребывание Чарторыйского на Украине сыграло решающую роль в подготовке превращения Кременецкой гимназии в элитарное заведение согласно пожеланиям землевладельческой шляхты и в духе требований Петербурга. Впоследствии, уже в эмиграции, выпускники лицея, ежегодно с 1837 г. собиравшиеся на т.н. Кременецкие вечера (Biesiada Krzemieniecka) в одном из изысканных парижских ресторанов, будут постоянно подчеркивать исключительность и элитарность Кременецкого лицея, а также вспоминать известных кременчан, таких как Юзеф Джевецкий, участник восстания Т. Костюшко, или командующий Придунайским легионом Кароль Князевич, избранный предводителем шляхты Кременецкого уезда. Эту апологетическую традицию в 2003 г. продолжил Рышард Пшибыльский, издав упоминаемую нами ранее книгу.
Князь принял решение, несмотря на протесты Виленского университета, об увольнении упрямого директора Счиборского, а также других несговорчивых преподавателей и осуществил давнюю мечту Разумовского, создав в 1811 г. институт почетных директоров, и нашел идеального директора для лицея. Им стал крупный волынский землевладелец и известнейший поэт и драматург польского классицизма Алоизий Фелинский, автор гимна в честь годовщины провозглашения Царства Польского Александром I. Этот гимн лег в основу знаменитой песни «Boїe co Polskк» (Боже, храни Польшу). Фелинский, как и Ян Потоцкий, будучи знатоком литературы и искусства, в то же время располагал крупным состоянием, что делало его идеальным кандидатом на должность директора с точки зрения польских помещиков, желавших контролировать школьное образование. У него не было ученой степени, но для Европы, где вновь на троны возводили королей, для России, где царил Аракчеев, и для Волынской губернии с Филиппом Плятером во главе это было скорее преимуществом, чем изъяном. Чарторыйский безуспешно пытался убедить профессоров Виленского университета в том, что благодаря такому человеку к должности директора лицея будут относиться с большим уважением, чем если ее займет скромный университетский ученый414.
Итак, все было готово к преобразованиям, отвечавшим духу шляхетской элиты: 4(16) декабря 1818 г. Александр I подписал указ о создании Кременецкого лицея, в котором говорилось, что подписанный царем акт от 29 июля 1805 г. относительно гимназий в Волынской губернии не принес ожидаемых результатов и что Волынская, Киевская и Подольская губернии находятся в удалении от Вильны и в обязательном порядке нуждаются в учебном заведении высшего типа, которое могло бы, хотя бы частично, заменить университет для дворянской молодежи. В связи с этим было приказано переименовать гимназию в лицей и как можно скорее заняться претворением в жизнь этого распоряжения на основании подготовленного устава и фондов, выделенных на образование415.
Претворение в жизнь, как оказалось, требовало времени. Удалось изменить лишь название, а устав лицея, подвергшийся серьезному редактированию, по разным причинам так и не был утвержден. Одной из основных причин было отсутствие на месте попечителя Чарторыйского. Считая вопрос решенным, он уехал на два года показывать молодой жене Европу. В свою очередь, профессура Виленского университета приступила к контратаке. В Российской империи между тем начинался период реакции (в 1818 г. Киевская губерния была выведена из-под опеки Виленского университета), и властям становилось все более понятно, что инициатива волынской шляхты, хоть и подчеркивающей свой аристократизм, все-таки является поддержкой польской идеи. Кроме того, вскоре после своего назначения Фелинский умер, что глубоко огорчило Чарторыйского. Когда же князь вернулся, было уже слишком поздно.
Проект устава лицея действительно был направлен против зарождавшейся и немногочисленной интеллигенции. Чарторыйский, который когда-то был ярым поборником идей Просвещения, теперь поддерживал предложения Рудзкого. Лицей был полностью передан в ведение попечителя, связь с Виленским университетом ограничивалась ежегодными отчетами «для сведения». Поскольку средства поступали только от одного мецената, контроль, и не только в финансовой сфере, за функционированием лицея, как и предусматривалось, был возложен на попечительский совет, трех членов которого должны были избирать на дворянском собрании. Таким образом, грубо нарушались принципы работы собраний, определенные Жалованной грамотой Екатерины II, не говоря уже о нарушении принципов народного просвещения, провозглашенных в 1803 г. Совет в уезде должен был возглавлять почетный директор (Джевецкий), а также два духовных лица, определяемых луцким и каменецким католическими епископами. Тем самым был положен конец светским тенденциям в образовании, унаследованным от польской Комиссии национального просвещения 1773 г. Избираемые на трехлетний срок, члены комиссии должны были собираться четыре раза в год для одобрения решений о приглашении, назначений и освобождения от должности преподавателей, кроме того, они могли вносить изменения в программы и перечень дисциплин. Преподаватели лишались инициативы и превращались лишь в исполнителей, которые получают плату и слушаются приказов своих щедрых добродетелей416.
Минист А.Н. Голицын представил достаточно много дополнительных замечаний по этому проекту. Это было связано с наступившим периодом крайних ограничений в распределении рангов и чинов (о чем еще пойдет речь). Власти не могли смириться с мыслью, что Кременецкий лицей будет сам присваивать степень студента или кандидата, так как опасались перепроизводства носителей чинов, связанных с этими академическими степенями. Голицын также не мог согласиться с давним желанием лицея самому, без помощи из центра, заниматься цензурой публикаций на Украине, кроме того, он хотел довести до конца расследование дел по присвоению бывших иезуитских владений.
Борьба, которую вели как окружение Филиппа Плятера, так и сам Чарторыйский до 1824 г., т.е. до момента, когда волынские и подольские учебные заведения официально были переподчинены Харьковскому университету, положив тем самым конец культурным амбициям поляков, лишь указала на существование тупиковой ситуации, возникшей в результате столкновения двух сил: с одной стороны, силы незыблемого сословного общества, привыкшего подчиняться приказам, и новой силы, в основе которой лежало знание.
В 1821 – 1822 гг. авторы волынских проектов с помощью Рудзского, неутомимо писавшего письма то попечителю, то министру просвещения, пытались преодолеть отрицательное отношение Вильны к предпринимаемым инициативам. Обвиняемые Вильной в увековечении польской анархии, активнейшие члены Житомирского дворянского собрания, напротив, представляли себя в роли достойных наследников Комиссии национального просвещения 1773 г. В обширных обращениях они доказывали, что действовали точно так же, как и их предки, которые заботились о сохранении свободы шляхетского сословия и бескорыстные «гражданские» чувства которых польское правительство так и не оценило. Рьяное выставление себя в роли единственных защитников гражданских добродетелей было своего рода защитой, которая, как оказалось, предвосхищала пока еще малозаметную, но уже предвидимую угрозу со стороны воспитанников школ, которые, проникшись мировоззрением своих учителей, станут действительно угрожать в 1823 – 1824 гг. существовавшей системе, в основе которой лежало благородство происхождения.
В это время «граждане» еще продолжали считать, что только они могут сохранять и развивать единственную оставленную в их распоряжении сферу управления – образование. В ответ на просьбу Голицына от 12 января 1821 г. представить наконец план решения вопроса о прежних иезуитских имениях волынские комиссары 4 ноября 1821 г. выступили с защитной петицией, в которой выразили nec plus ultra аристократический тезис об обязательном контроле за образованием. В качестве необходимого условия для предотвращения тревожного развития «духа корпоративности» среди представителей университетов авторы документа настаивали на том, чтобы признать любые притязания утратившими силу за истечением срока давности и подтвердить права нынешних владельцев. Подписавшие это обращение заявляли, что не понимают, почему им запрещается вмешиваться в учебный процесс, тогда как всеми царскими министрами просвещения этот принцип отстаивался. Правда, у «граждан» не было дипломов, но разве они не были всесторонне образованы? Профессура, стремящаяся стать отдельной кастой, по мнению «граждан», отличалась спесью и высокомерием. Вместо того чтобы во главе кафедр поставить профессоров из числа честных дворян, Виленский университет предпочел «заполнить их заурядными лицами, но зато избранными среди своих […], правительство, беспокоящееся о нуждах края, должно осознать необходимость поручить специальным органам контроль за учреждениями, занимающимися преподаванием и воспитанием. Поскольку местные дворянские институции сохранили свои прерогативы в судах и старательно [?! – Д.Б.] их исполняют, то представляется ненормальным то, чтобы Министерство народного просвещения было лишено их помощи». Далее в документе проявилось пренебрежительное отношение к «ученым»: «В нынешней ситуации единственным в южных губерниях исполнителем всего, что касается образования, является университет; он действует через своих членов, которые одновременно занимаются также контролем, то есть он является и судьей, и ответчиком […]. Практически невозможно, чтобы такой орган, в который входят лица, занятые исключительно научными теориями, и в результате этой особенности неспособный детально разобраться в потребностях края, мог приспособить образовательную систему к общественной жизни и точно оценивать результаты собственной деятельности».
Отвергавшее идею карьеры на основании заслуг, польское благородное сословие на Украине было крайне далеко от понимания мятежных настроений, охвативших шляхетскую молодежь Вильны, которая, подобно оппозиционным движениям в Европе, создавала тайные союзы и общества (правда, в процентном отношении в них состояла небольшая группа учеников и студентов). Единственное, о чем мечтала земледельческая шляхта – это возможность выделения шляхетской элиты в отдельную группу в рамках Российской империи; она обольщалась надеждой, что Петербург позволит ей подобную изоляцию. Стремясь контролировать воспитание подрастающих поколений, «граждане» надеялись не только сохранить свои помещичьи привилегии и судебную власть, но и считали, что принимают участие в политической борьбе Священного союза против революционной гидры: «Подобное взаимовыгодное сотрудничество могло бы предотвратить возникновение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Европе, везде, где Отцы Семейств и Граждане лишены какого-либо влияния»417.
Виленский университет, проинформированный о претензиях волынской земледельческой шляхты (министр просвещения не без удовольствия наблюдал за нараставшим конфликтом между Вильной и Кременцом, которым он не преминул воспользоваться, хотя и совсем в ином, чем хотела шляхта, ключе), дал резкий ответ, поставив под сомнение дух «гражданства» помещиков. Профессора Виленского университета представили педагогическое сообщество не как вредное исключение в сословном обществе, а как истинного учителя народа (в этом случае речь шла не только о шляхте) и смело отвергли идею верховенства шляхты418.
Если бы попечитель Чарторыйский присутствовал во время этой теоретической дискуссии, имевшей огромное значение, он, скорее всего, принял бы сторону шляхты, судя по тому, что, отправляясь в 1819 г. в длительное путешествие, он оставил почетным директорам рекомендации, свидетельствующие о его новом убеждении в необходимости привлечения помещиков к обучению, как в материальном, так и воспитательном и педагогическом плане. Отказ Чарторыйского от просветительских идеалов в данном случае проявился с наибольшей очевидностью. Он писал, что прежде всего следует заботиться о том, чтобы школы, центры науки и гражданского духа, стали также центрами религиозности и хороших обычаев. Следовало, по его мнению, поддерживать тесные связи с местным духовенством. Кроме того, князь, который раньше был ярым поборником идей Просвещения, заявлял, что морального юношу всегда необходимо ставить выше хорошего ученика. Он высказывался за то, чтобы воздвигнуть плотину перед волной деморализации, с которой в то же время боролись царские власти. Обычные директора и преподаватели казались ему слишком неблагонадежными для того, чтобы доверить им искоренение зла, тогда как почетные директора, о добродетели которых можно было судить по их состояниям, должны были стать защитниками не только веры, но и социальной стабильности. А в этом нуждался не только Кременецкий лицей, но и другие школы, куда чиншевая шляхта зачастую посылала своих сыновей. Чарторыйский писал, что к основным причинам смуты в крае следует отнести неразумное стремление выбиться в люди и пренебрежение детей к социальному статусу родителей, что, к сожалению, было характерно для всей польской молодежи (необходимо подчеркнуть, что на тот момент еще не было раскрыто ни одного тайного общества ни в школах, ни в университете). Хорошее воспитание дается дома под присмотром родителей. Но насколько может быть воспитан ребенок, если его учат презирать положение родителей, их способ мышления и поведения? Чарторыйский, не видя необходимости перечислять досадные последствия таких настроений, подчеркивал, что почетные директора сами смогут решить, насколько важно, чтобы, изучая необходимые предметы, ученики не почувствовали недовольства своим положением, чтобы они утвердились в мысли, что тот, кто поднимется выше данных ему возможностей, тем самым уготовит себе тяжелое и тревожное будущее. Учеба же должна была, по его мнению, прежде всего готовить к надлежащему исполнению отведенной каждому сословию роли и обязанностям, которые ему присущи419.
Видение образовательной системы польской землевладельческой шляхтой Украины совпадало с эволюцией образовательных идей во всей империи. Отметим, что директивы Чарторыйского совпадали с образовательной политикой Голицына и предсказывали формулу А.С. Шишкова 1824 г., считавшего, что «науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет». Тем не менее польская шляхта на Украине и в Литве отныне уже не могла сохранить автономию в области культуры, которой до этого времени пользовалась, поскольку национальный фактор в новых условиях становился препятствием. В 1824 г. Чарторыйский предпринял последнюю попытку добиться утверждения устава лицея для Кременецкой гимназии, но, несмотря на то что он указывал на царящее спокойствие среди учеников гимназии по сравнению с политическими волнениями в других заведениях учебного округа (особенно в Вильне), попытка оказалась безуспешной420. Чарторыйский был отстранен от исполнения обязанностей попечителя Виленского учебного округа, а контроль над всеми польскими учебными заведениями Украины был передан Харькову. Они продолжали пока оставаться польскими, а после 1830 г. полностью подверглись русификации.
Тем не менее необходимо отметить огромную роль развития сети школ в изучаемом регионе. Протоинтеллигенция, которую так готовно поддерживали до 1815 г., а затем столько же усердно подавляли на протяжении 1820-х гг., продолжала свое развитие, начиная серьезно угрожать старым сословным структурам. Когда в 1828 г. С.Г. Строганов задумал еще в большей степени приобщить дворянство к контролю за школами империи, Сперанский, который вновь был в милости и, более того, стал опорой режима Николая I, в красноречивой форме предостерег от подобных шагов. Он указал на то, что дворянство, несомненно, может во многом оказаться полезным, но при условии исключения из этого процесса Дерптского и Виленского учебных округов в связи с характером существующих там институций и «чрезмерной» склонностью жителей соответствующих губерний к образованию421.
Шляхетские учебные заведения: окно в открытое общество или тупик?
Итак, чрезмерная склонность к образованию становилась тревожным фактом, нарушавшим культурное, социальное и столь хрупкое национальное равновесие в Российской империи. Власти не могли этого не замечать.
По состоянию на 1809 г. в пяти учебных округах (Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском и Виленском) в 32 гимназиях училось 2838 учеников, из которых почти половина, а именно 1305, проживала в Виленском учебном округе. В 126 уездных школах насчитывалось 12 839 учеников, из них больше половины, а именно 7322, находилось в ведении Виленского университета. В 1824 г. относительный вес «польских губерний» снизился, однако в их начальных и средних школах обучалось 22 720 человек, что составляло 30,2 % от всех учащихся империи и почти вдвое превышало количество учеников в наиболее (из всех остальных) крупном Харьковском учебном округе (12 660 учащихся)422.
Среди польских средних учебных заведений школы на Правобережной Украине отличались своими размерами. Начиная с 1810 г. Кременецкая гимназия, впоследствии лицей, стала самым крупным учебным заведением Виленского учебного округа. До присоединения к Харьковскому учебному округу количество учащихся с 1805 по 1822 г. возрастало следующим образом:
1805 – 280
1806 – 422
1807 – 434
1808 – 404
1809 – 413
1810 – 612
1811 – 693
1817 – 519
1818 – 545
1819 – 567
1820 – 630
1821 – 678
1822 – 685
Три из пяти крупнейших польских учебных заведений находились на Правобережной Украине: гимназия в Виннице и школы базилиан в Баре и Любари (к ним следует отнести также переданную в 1818 г. в ведение Харьковского учебного округа школу в Умани, где польский язык преподавался до 1830 г.), в которых в зависимости от года обучалось от 400 до 500 детей. Уездная школа Межирича в 1822 г. насчитывала от 300 до 400 учеников, в других учащихся было гораздо меньше. В Житомире, Луцке, Теофильполе, Владимире, Каменце, Меджибоже училось по 100 – 200 учеников, а в Клевани, Домбровице и Олыке – менее ста. Общее количество учеников в польских учебных заведениях Правобережной Украины выглядело следующим образом:
Среди всех восьми «польских губерний» Волынская занимала второе место по количеству учащихся (20,5 %), на Подольскую губернию приходилось всего 10 %. Иной была ситуация в Виленской губернии, ставшей на протяжении 1803 – 1831 гг. крупнейшим учебным центром Российской империи (1808 г. – 300, 1824 г. – 900, 1830 г. – 1300 учащихся), намного опережавшим Московский и Дерптский учебные округа. Однако среди студентов здесь было немного выходцев с Правобережной Украины – например, в 1822/23 учебном году на 825 виленских студентов приходилось лишь 6,66 % выходцев из Волынской губернии, 3,51 % – из Подольской и 2,06 % – из Киевской.
Не вдаваясь в подробный анализ содержания учебных программ, стоит все же отметить, что чрезмерная склонность к образованию, на которую обратил внимание Сперанский, свидетельствовала о том, что дети и их родители питали доверие к учебным заведениям и связывали большие надежды с образованием. Подготовка преподавателей и качество учебных программ в целом не вызывали нареканий со стороны аристократов-наставников Кременецкого лицея. Распространенное, хотя и общее понимание идей Просвещения способствовало тому, что в школе видели источник знаний и культуры, необходимых как в повседневной жизни, так и для сохранения собственной идентичности. Несмотря на достаточно поверхностное, «сарматское» восприятие идей Просвещения, в этих землях существовало, особенно среди бедной шляхты, понимание того, что школа обеспечивает социализацию и прививает идеалы, к укреплению которых регион стремился уже более полувека. Хотя планы преподавания прикладных дисциплин остались нереализованными, профессиональная подготовка даже в университете находилась на начальном этапе (медицина, педагогика, богословие), но, несмотря на отмеченные нами трудности, дирекция учебных заведений, подчинявшихся Виленскому учебному округу, вела централизованную подготовку учебников и разрабатывала методику преподавания. Именно эти настроения при благоприятных условиях могли бы повлиять на создание протоинтеллигенции. Впрочем, после 1831 г. некоторые из выпускников станут уже в эмиграции инженерами, врачами, техническими специалистами в разных отраслях, литераторами. Преподавание права, крайне необходимого в условиях модернизации общества, велось в средних учебных заведениях по учебнику Г. Стройновского, излагавшего принципы гражданского воспитания, основанные на «естественном праве». Однако в обществе, где понимание законодательства носило риторический, а не практический характер, а все юридические и судебные должности распределялись по праву рождения, содержание преподаваемого предмета противоречило как устоявшейся польской шляхетской практике, так и российской сословной структуре. Подобным же образом лекции профессора экономии Кременецкого лицея Хоинского, автора учебника, написанного под влиянием А. Смита, Ж.Б. Сэя и Л.Г. Жакоба, готовили учеников хотя бы к теоретическому усвоению мысли об отмене барщины в помещичьем хозяйстве. На занятиях проповедовались идеалы, глубоко отличавшиеся от принятых в семьях учеников. Из стен учебных заведений Правобережной Украины вышли польские поэты Северин Гощинский, закончивший школу в Умани, Юлиуш Словацкий, сын профессора Кременецкой гимназии, которому удалось выразить весь трагизм взаимоотношений польских помещиков и украинских крепостных.
Обратимся вновь к положению дел на Правобережной Украине. Почти все учащиеся учебных заведений Правобережной Украины происходили из землевладельческой или чиншевой шляхты, что было заметным отличием от других школ Российской империи. Здесь не были знакомы со становящейся все более серьезной для российского дворянства проблемой разночинства. Статистические данные за 1826 г. отражают реальную картину происходившей в великорусских гимназиях экспансии разночинцев, в то время как в Виленском учебном округе случаи приема на учебу детей разночинцев были единичны. В учебных заведениях Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского и Дерптского учебных округов из 4309 учеников 1691 – это сыновья дворян, включая придворных сановников, остальные были детьми чиновников, купцов, мещан, ремесленников, солдат, православных священников, свободных крестьян и даже нескольких крепостных. В Виленском учебном округе шляхтичей насчитывалось 1952 на 2224 гимназиста. Среди немногочисленных простолюдинов здесь были преимущественно мещане (121 ученик), сыновья священников, скорее всего униатских (65 учеников), и крестьяне (85 учеников), скорее литовские, чем украинские423.
Из приведенных данных видно, что у учащихся на территории Виленского учебного округа не было причины опасаться первых шагов, предпринятых в 1811 г. А.К. Разумовским с целью сохранения прежних социальных структур. Согласно § 14 Акта об основании университета (1803 г.) студенты дворянского происхождения, которые только поступили в университет, причислялись к 14-му чину; кандидат на степень магистра равнялся 12-му классу, магистр – девятому, а доктор – восьмому классу. Указом от 11 ноября 1811 г. студенты из податных сословий освобождались от своего статуса только после завершения университетского курса (без указания срока учебы). Как отмечалось в указе, это должно было предотвратить запись на обучение лиц, которые хотели бы избежать подушного оклада и жить «в лени»424. После 11 марта 1814 г. борьба с плебейством становится интенсивнее. Разумовский решил отказать в предоставлении звания студента выходцам из податных сословий. Отныне их надлежало считать «вольными слушателями», следовательно, они не получали степени, соответствующей тому или иному рангу. Начиная с этого времени от поступающего в университет требовали в обязательном порядке подтверждения дворянского звания425.
Ректор Виленского университета Ян Снядецкий выступил с решительным протестом. Он писал: «Подобное распоряжение сократит класс образованных людей [gens de lettres – во французском оригинале письма; необходимо отметить, что Снядецкий выделяет эту группу людей. – Д.Б.] и поставит его наравне с низшим классом обитателей края. Университет был вынужден распространить данный указ, который остудит рвение к науке среди учащихся губернии. Отказ от данного закона, который принят, похоже, лишь только для того, чтобы навредить распространению просвещения, и который из-за этого полностью противоречит добродетельным намерениям императора, представляется в высшей степени необходимым»426.
В письме к А. Чарторыйскому ректор указывал на то, что положения закона противоречат провозглашенным в 1803 г. принципам: «Всеобщее образование не может быть монополией одного сословия жителей. Человек, который добивается звания благодаря своим знаниям, не может быть внесен в ревизские сказки, поскольку в них не включается даже тот, кто имеет самый низший чин…» Назвав Разумовского «наихудшим врагом человечества», Снядецкий подчеркивал, что страна лишится образованных и талантливых людей, если не будет их искать среди всех слоев населения. Богатые люди, по его мнению, не всегда склонны к учебе, ревизские сказки же несли смерть человечеству и просвещению427.
Снядецкий, конечно, знал, что большинство студентов в его обширном округе принадлежат, как уже отмечалось, к шляхте. Можно ли считать, что его возмущение на самом деле было лишь связано с желанием пойти на принцип? Без сомнения, нет: этот образованный человек, действительно искренне защищая принцип открытости образования для простолюдинов, в то же время понимал, какие последствия может повлечь за собой для учащихся «польских губерний» требование подтверждения своего происхождения.
Массовая дискриминация тех, кого царские чиновники пытались пока еще безуспешно лишить дворянского звания, могла бы разрушить систему школьного и университетского образования в западных губерниях. С точки зрения социальной структуры Российской империи польская чиншевая шляхта представляла такую же опасность, как и разночинцы.
Сохранение права чиншевой шляхты посылать своих сыновей на обучение, возможно, является примером наиболее продолжительного проявления шляхетской солидарности. Именно наличие образования коренным образом отличало беспоместную шляхту от других сословий и в определенной степени способствовало поддержанию ее былого статуса. Вплоть до конца XIX в. количество «худородных шляхтичей» в этих краях приводило царскую власть в ступор: большинство из них закончило учебные заведения еще до Ноябрьского восстания.
В факультетских журналах Виленского университета обращает на себя внимание отсутствие записи о социальном происхождении студентов. Графа для записи о подтверждении благородного происхождения с 1814 г. вплоть до 1823 – 1824 гг. обычно не заполнялась, а если и была заполнена, то содержала информацию о выдаче свидетельства о происхождении предводителем дворянства одного из уездов. Сложно сказать, насколько данные свидетельства были достоверны. Иногда встречается запись о необходимости представить подтверждение происхождения, но, очевидно, никто никогда не представлял таких документов. В 1820/21 учебном году лишь 75 студентов из 651 представили требуемые документы. Но даже впоследствии, после 1824 г., вопрос о достоверности этих документов, тогда уже представляемых значительно чаще, остается открытым.
Исходя из того, что нам известно о стремлении предводителей шляхетских собраний Волыни ограничить доступ к образованию кругом избранных и оказать давление на «класс образованных людей», представляется очевидным, что Кременецкая гимназия, называемая впоследствии лицеем, отличалась избранностью состава учащихся по сравнению с другими учебными заведениями. Впрочем, условием превращения гимназии в лицей была ее «элитарная чистота», о которой заботились как Голицын, так и Чарторыйский. В 1817 г. последний выразил удивление в связи с тем, что среди 519 учащихся лицея было пятеро юношей из податных сословий. Директору Счиборскому пришлось оправдываться и предъявить доказательства того, что сам городничий освободил этих мещанских детей от подушной подати, благодаря чему они получили право поступления в Кременецкий лицей428.
Зато в остальных школах Украины, вне всякого сомнения, учились дети обедневшей или безземельной шляхты, которые надеялись благодаря образованию выбиться в люди. В подробном отчете за 1824 г., составленном попечителем К. Монюшко, отмечено, что выходцев из простонародья среди учеников местных школ гораздо меньше, чем в Литве, зато сыновей обедневшей шляхты много, причем зачастую они приезжают на учебу из очень отдаленных уездов. Указание их мест жительства косвенно свидетельствует о том, как они хотели учиться: из Киевской губернии, в которой практически не было польских школ, не считая нескольких базилианских в Приднепровье, шляхта посылала своих сыновей в ближайшие школы в Подольской губернии, в Немиров, где они составляли 1/6 от всего количества учеников, в Винницу, где на 505 учащихся 134 были из Киевской губернии. Близость учебных заведений была дополнительным фактором, способствующим интересу к учебе: 185 винницких учеников были из того же уезда, 45 приехало из Ямполя, 39 – из Литина, 26 – из Балты. Крупная школа базилиан в Баре также привлекала учеников из разных мест, однако налицо превосходящее количество детей шляхты. Базилиане в Баре приняли в 1808 г. лишь трех детей нешляхетского происхождения, кармелиты в Бердичеве в 1814 г. – лишь двух. Инспектор Подчашинский в 1826 г. насчитал 11 учащихся нешляхетского происхождения в Теофильполе, а Монюшко в 1824 г. удалось найти лишь одного такого среди 505 учеников в Виннице.
Монюшко оказался единственным, кто попытался установить расслоение среди учеников шляхетского происхождения: его список – полтысячи юных шляхтичей Винницкой гимназии – можно использовать в качестве образцовой модели для фиксации соотношения между разными слоями шляхты. Он выделяет по меньшей мере сотню сыновей полноправной шляхты-помещиков и немногим больше сотни сыновей арендаторов. Триста учеников, т.е. 3/5, были детьми безземельной шляхты, слуг, наемных работников в крупных поместьях, называемых «земской службой», и чиншевых земледельцев429.
Поскольку царские власти так и не смогли подсчитать и отделить «истинных шляхтичей» от «выдававших себя за шляхту», было ясно, что попытка Разумовского обеспечить доступ к учебе только избранной шляхте была обречена на провал.
Властями был придуман целый ряд преград с целью не допустить это большинство, происходившее из безземельной шляхты, на гражданскую или военную службу, несмотря на то что лишь небольшая часть этой шляхты действительно мечтала о подобной карьере. Этот путь интеграции, официально провозглашенный в основополагающем акте 1803 г., был также закрыт для университетских профессоров, которые до 1815 г. неоднократно пытались добиться официального приравнивания их степеней к определенным чинам Табели о рангах430. После 1815 г. продвижение по карьерной лестнице в силу заслуг стало еще более проблематичным, поскольку дворянство опасалось растущего влияния разночинцев, а также слишком большого количества сомнительных шляхтичей в «польских губерниях». В 1816 г. министр внутренних дел О.П. Козодавлев клеймил титуломанию, считая, что она вредит целостности дворянского сословия. Его записка «Об излишней привязанности гражданских чиновников к чинам и о мерах предотвращения зла, из нее вытекающего»431 пересматривала введенные за сто лет до этого Петром I принципы продвижения по службе. С целью дать понять, что образование в будущем не будет рассматриваться в качестве основания для карьерного роста, в 1819 г. министр народного просвещения Голицын внедрил сугубо ограничительную систему утверждения университетских степеней, оставляя за собой право проверки их количества, дабы оно не было «избыточным». Присуждение в 1821 г. Виленским университетом 32 степеней кандидата рассматривалось им как излишняя щедрость432.
Еще до того, как в 1824 г. Новосильцова назначили попечителем, Чарторыйский, который уже к тому времени распорядился провести чистку программ и учебников согласно новым тенденциям, охватившим Россию и Европу, навязал Виленскому университету устав для школ и гимназий, который будет воплощен в жизнь его преемником. В этом тексте отбрасывались идеи универсализма образования. Основной недостаток существовавшей системы, писал Чарторыйский (который сам же эту систему внедрил двадцатью годами ранее), заключался в том, что она была направлена на продолжение учебы в университете. При этом тех, кто продолжал образование, было немного, а основная масса учащихся получала багаж неприменимых на практике знаний. По его мнению, следовало задуматься, для каких социальных слоев предназначено такое образование. Первая статья его регламента звучит следующим образом: «Все без исключения учебные заведения должны иметь четко определенную цель и область деятельности, за рамки которых они не могут переступать. Только придерживаясь подобных принципов, школы могут принести пользу, которой от них ожидает заботливое и внимательное правительство». Согласно ст. 2 школы следовало поделить на степени «согласно имеющемуся разнообразию классов, на которые делится общество, в соответствии с особенными занятиями, свойственными каждому из них». Устанавливалась следующая градация:
1) Класс крестьян и ремесленников.
2) Люди определенных занятий, или те, кто заняты искусством или ремеслом, которые требуют специальных знаний и длительной практики, к этому классу следует также отнести обнищалую шляхту, столь многочисленную в польских губерниях. [Как видим, изменение в способе мышления человека, который инспирировал в 1808 г. создание Комитета по делам шляхты в Петербурге, поразительно. – Д.Б.].
3) Те, кто имеют средства дать своим детям лучшее воспитание и подготовить их или для полезной государственной службы, или к занятиям, которые приносят пользу обществу433.
Таким образом, начиная с 1824/25 учебного года уездные школы стали предназначаться (без возможности дальнейшего продвижения) для сыновей безземельной шляхты, которая теряла последний признак свободы – теоретическую возможность карьеры. Предназначенные для элиты гимназии стали готовить учащихся к поступлению в университет. 19 августа 1827 г. Николай I распространил эту систему на всю империю.
«Регламент» полностью отвечал духу своего времени, тем более что в Государственном совете как раз завершилась обширная дискуссия по предложению министра финансов Канкрина, которого беспокоила проблема отсутствия в России третьего сословия и который принадлежал к тем немногим, кто понимал необходимость создания социальной атмосферы, где заслуги значили бы больше для карьеры, чем сословное происхождение. Это было начало процесса, которое впоследствии приведет к появлению в Российской империи звания «почетный гражданин». В 1826 г. Канкрин называл таких «новых людей» просто «гражданами» и предлагал предоставлять им это звание, как и в случае дворянства, пожизненно или с правом передачи по наследству. Все члены Государственного совета выступили против такого нововведения, усмотрев в нем покушение на привилегии дворянства и существовавшую сословную систему. Основную мысль сформулировал генерал-адъютант князь Васильчиков, который дал определение понятию дворянства. Он не решился усомниться в введенной Петром I системе чинов, которая не исключала возможности возведения простолюдина в дворянство за заслуги. Идею Канкрина Васильчиков расценил как опасное новшество. Он разделял высказанное еще в 1816 г. мнение Козодавлева об угрозе, которую несла «излишняя привязанность к рангам».
Князь, в частности, писал: «Нельзя совершенно отнять у “граждан” возможности приобретать действительное дворянство, однако полезно бы на черте, разделяющей сии два сословия, воздвигнуть такие трудности, которые могли бы побеждать только отличные таланты и необыкновенные подвиги»434. Он, естественно, не вдавался в анализ дворянских привилегий, которые были для него самоочевидны, и добавлял: «Я желал бы, чтоб… обращено было внимание вообще на зло ныне существующее и состоящее в том, что у нас действительное дворянство, быв присвоено и чинам, слишком легко приобретается». Продвижение по социальной лестнице такого рода людей было незначительным, однако Васильчиков, так же как и волынская шляхта в своих отношениях с университетской профессурой, спешил бить тревогу.
Князь развивал свою идею, утверждая, что желает добра заслуженным людям, которые принесут больше пользы, оставаясь в прежнем сословии. Предоставление же им возможности стать дворянами (о чем, собственно, в предложении Канкрина не было речи) «исторгает из общества лучших его членов, которые могли бы поддерживать и украшать свое общество». Это «отвлекает человека от тех необходимых для государства занятий, к коим он был предназначен по своему рождению и к коим, так сказать, наследовал нужные способы», «выводит человека из того звания в кругу коего образовались его понятия, к коему приспособлен самым образом жизни и воспитания и следовательно в коем он полезен; и переводит его в другое состояние, где он не имея ни тех навыков, ни тех свойств, ни того образования, которые состоянию сему необходимы для самого исполнения лежащим в нем обязанностей, делается членом не только бесполезным, но даже вредным, унижая его достоинство».
Поскольку само понятие «действительного дворянства» не предусматривало возможности пополнения сословия извне, Васильчиков указывал на то, что нововведения Петра I привели к некоему хаосу: «Примеры всех просвещенных государств показывают, что потомственное дворянство есть такое достоинство, которое принадлежа исключительно известному сословию людей, никаким общим для всех сословий способом не приобретается и что служба доставляет чины, но чины приносят токмо личные преимущества и не дают прав действительного дворянства». Князь указывал на то, что «чем определительнее проведена черта, отличающая одно от других, тем более они процветают». Петр I, несомненно, уделял большое внимание системе чинов. Однако тогда дворянство было не таким многочисленным и не считало службу «непременной для себя обязанностью». В настоящее время количество дворянства увеличилось, и у государства имеется достаточно чиновников. Васильчиков указывал на то, что одновременно с этим темп продвижения по службе значительно ускорился. Ежегодно появляется несколько тысяч новых «мелкопоместных помещиков». Поэтому «действительное дворянство» должно предоставляться «исключительно по монаршей милости. Тогда одна отличная заслуга и одно достоинство будет умножать число сочленов сего высшего в Государстве сословия». По его мнению, следовало перестать считать чин прапорщика достаточным для получения дворянства, для которого теперь следовало дослужиться до звания майора. В гражданской службе следовало признать необходимым порогом чины, соответствующие «чинам генералитетским», а не чин коллежского асессора.
Министр юстиции и его коллеги согласились с тем435, что слишком многие получают дворянство через чины и что этому злу следует положить конец, однако они не посмели высказаться против заложенных Петром I в 1722 г. священных принципов, предусматривавших возможность карьерного роста для верных слуг царя, даже если те происходили из низов. Члены Государственного совета признали также правильность мнения Канкрина в том, что «отнять надежду в достижении службой дворянства значило бы ослабить лучшую пружину, и при том нередко людей с отличными достоинствами […] подавлять в ничтожестве без всякой для Государства пользы». Этот двусмысленный пассаж сопровождался столькими оговорками, что практически полностью совпадал с предыдущей мыслью.
Высокопоставленные должностные лица империи напомнили, что получение наследственного дворянства – дело нелегкое. Еще Екатерина II значительно затруднила доступ к нему указом от 16 декабря 1790 г. Министр юстиции Лобанов-Ростовский отмечал, что Александр I попробовал остановить процесс неконтролируемого увеличения чинов указом, подготовленным Сперанским, который, «к сожалению», не был претворен в жизнь. Лобанов-Ростовский усматривал причину «избыточного» получения дворянства в слишком щедрой раздаче отличий и орденов, в связи с чем советовал в первую очередь сократить милости такого рода, а также усложнить процедуру продвижения по службе от 13-го к 8-му классу. Более «экономное» награждение орденами Святой Анны и Святого Владимира позволило бы ничего не менять в Табели о рангах и таким образом не давало бы повода для сплетен и неуместных толкований.
Дискуссия в высших кругах в начале правления Николая I дает представление о степени косности социальных структур, что уже констатировалось в каждой из глав нашего исследования. Эта система не давала надежды на карьеру ни разночинцам, ни безземельной шляхте из западных областей империи; этот класс еще относительно свободных людей теперь был, несомненно, в еще большей степени обречен на маргинализацию.
Исключительность этой территории Российской империи состояла не только в плотности образовательных учреждений и количестве учащихся, но и в степени социальной напряженности, закончившейся взрывом в 1831 г.
Незначительному количеству учеников, которым удалось поступить в университет, и еще меньшему числу его выпускников, получивших конкретную профессию, следует противопоставить массу разочарованных «полуинтеллигентов», которые были достаточно образованны, чтобы почувствовать безнадежность своего положения, – людей, которых можно отнести к одному из проявлений специфики «многонациональной империи», не располагавшей потенциалом для интеграции различных культур.
Зачем шляхетским сыновьям, зажатым в тиски сословной системы, было заканчивать учебу, если они понимали, что это ни к чему не приведет? На примере гимназии в Виннице, о которой уже шла речь, видно, как постепенно отбивалась охота к знаниям. Получившие дома начальное образование мальчики охотно посещали первые три класса гимназии, но затем на протяжении последующих трех лет их количество неуклонно уменьшалось, и едва один из двадцати проходил учебный курс до конца. Инспектор К. Монюшко в 1824 г. зафиксировал следующие данные о количестве учащихся по классам:
Понятно, что десятилетняя программа, которую ввели в Кременецкой гимназии, а затем продолжили в Кременецком лицее, была адресована для совсем иной публики, однако уменьшение количества учащихся было присуще старшим классам всех учебных заведений. В только что упомянутом отчете Монюшко среди прочего отмечено, что из 1500 учеников, которые на протяжении 1814 – 1824 гг. учились в Винницкой гимназии, аттестат зрелости получили 127 лиц, из которых лишь 39 продолжило образование в Виленском университете.
Кроме тех немногих, кто, возможно, переломил в себе отвращение к службе в царской армии или к должностям по врачебной части, чем занимались остальные без аттестата или с аттестатом в кармане? У них было немного возможностей сделать карьеру, разве что они могли занять должность писаря в уездном суде или шляхетском собрании. Многие становились домашними учителями или счетоводами, управляющими или экономами в крупных имениях. Однако они не могли повлиять на эволюцию нерушимой социальной структуры, в основе которой лежал принцип благородного происхождения.
Невысокая репутация польской шляхты, о которой говорится в некоторых воспоминаниях436, жалкий духовный уровень судебных писарей, жестокое отношение к крепостным, поведение «гербовой службы», а именно экономов и управляющих, которые в меру сил и способностей угождали землевладельцам (как будет показано в следующей части), – все это были последствия горечи и деморализации. Какая-то часть шляхты избрала для себя обреченное на поражение восстание, предпочитая погибнуть или эмигрировать. Однако подавляющее большинство шляхты Правобережной Украины со своим багажом ненужных знаний еще сильнее, чем остальная часть Российской империи, прочувствовало идеи, высказанные в «Горе от ума» Грибоедова.
В 1852 г. генерал царской жандармерии в Белоруссии А.А. Куцинский, в очередной раз подводя общие итоги, отмечал, что высшая шляхта не разделяет демократических идей. Она полностью осознает, что ей лучше всего находиться под защитой сильного правительства. Все зло идет от мелкой шляхты, от этого племени адвокатов, экономов, писарей и других разночинцев (отметим, что уподобление мелкой шляхты разночинцам уже окончательно утвердилось к тому времени). Нельзя не отметить парадоксальности этого сопоставления. Генерал отмечал, что западные губернии отличались общей склонностью к образованию. Подобную оценку давал и Сперанский в 1828 г. По мнению Куцинского, это приводило к тому, что на каждом шагу можно встретить образованного голодранца. Более того, он отмечает, что количество образованных, а то и вовсе ученых, которые хвастают происхождением своих предков, в этом крае неустанно растет437.
В известной степени эти шляхтичи, хотя и в иной социальной пропорции, превратились в своего рода «лишних людей», и история их, как нам предстоит увидеть, обратилась позже в трагедию.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
1793 – 1830 годы
Аннексия литовско-руськой части земель Речи Посполитой поставила Российскую империю перед многочисленными проблемами, связанными с задачей интеграции этого региона. Несмотря на то что вплоть до 1831 г. созданные на этих землях губернии именовались «польскими», а Александр I неоднократно обещал воссоединить эти земли с Царством Польским, эти намерения так и не были осуществлены. Желания императора были во многом продиктованы чувством неловкости, которое ему внушала политика его бабки Екатерины II. Продлившесся почти четверть века правление Александра I, находившегося, с одной стороны, под влиянием князя Чарторыйского, а с другой i: – Н.М. Карамзина, характеризовалось колебаниями в решении польского вопроса. Лишь после Ноябрьского восстания, уже в эпоху Николая I, был избран второй из этих способов утверждения российской власти в этом регионе.
Наше исследование посвящено отнюдь не предполагаемой гармонии сосуществования разных групп внутри многонациональной империи, но трудностям «поглощения», на которые обращал внимание еще Ж. – Ж. Руссо. В нашу задачу входило показать неэффективность становящихся все более настойчивыми попыток государственного аппарата ассимилировать чуждые российской традиции сословия. Речь идет о шляхте, представленной, с одной стороны, элитой, получившей дворянское звание по праву рождения и имущественному положению, а с другой стороны, о многочисленной, не поддающейся четкому определению группе свободных людей, примыкавших к этой элите. Вопрос о шляхте ставился на всех уровнях российской власти, начиная с царя, его министров, различных комитетов и заканчивая губернаторами и ревизорами; его изучение позволяет также лучше понять и систему функционирования самой государственной машины.
Влиянию польских землевладельцев, основой богатства которых были продаваемое зерно и крепостные, царские власти могли противопоставить лишь грозные с виду, но плохо исполнявшиеся указы. В империи, где не хватало административных кадров, повсюду чувствовался разрыв между столицей и периферией, министерствами и губернаторами, бюрократическими решениями и действительностью, требованиями по учету и составлению описей, с одной стороны, и неизменно неудовлетворительными результатами их проведения – с другой; между либералами и заядлыми консерваторами, а также прожектерством и навязчивыми идеями как первых, так и последних. На основании изучения этой хитросплетенной реальности, которая может показаться столь далекой и непонятной, а в действительности крайне важной для заинтересованных сторон, мы пришли к четырем основным выводам.
Первый касается очевидных пробелов как в польской, так и российской историографии. В первой постоянно используются клише о существовании «шляхетской демократии», хотя до сих пор не была предпринята попытка документированно, на основании количественных данных представить шляхетскую избирательную систему Речи Посполитой с момента ее становления в XVI – XVII вв. Во второй же до сих пор бытует убеждение об «исконно русском» характере изучаемых земель. Однако при отсутствии достоверных данных о количественном составе сеймиков идея причастности шляхты к «демократии» рассеивается, как мираж. Подобную оценку следует дать и царящей в современной историографии эйфории относительно якобы мирного этнического и религиозного соседства, будь то в рамках польско-литовско-руського содружества или в Российской империи. Вопреки пустой риторике, в действительности (и этому удается найти отдельные подтверждения в источниках) большая часть шляхты была de facto, а с 1791 г. de jure отстранена от участия в общественной и политической жизни. Еще задолго до разделов Речи Посполитой среди пользовавшихся правом голоса были по большей части землевладельцы, и именно их, обладавших всеми правами, называли гражданами.
Предполагаю, что подобная точка зрения может встретить непонимание со стороны некоторых польских или российских коллег, поскольку в основе ее лежит идея ревизии мифа о значимости первого в Европе «гражданского общества» или «содружества» в рамках идеальной империи. Однако надеюсь, что большинство исследователей позитивно воспримет возвращение из небытия целого социального сословия.
Второй вывод основан на впервые вводимых в научный оборот российских документах. Суть его в том, что царские власти, несмотря на уничтожение Польши, вставшей было на путь превращения в конституционную (во французском смысле слова) республику, подтвердили положения Конституции 3 мая 1791 г., которые отвечали духу Жалованной грамоты дворянству Екатерины II. Оба документа сохраняли право участия в общественной жизни лишь за землевладельцами.
Собственно, именно в момент принятия Конституции встал вопрос, над которым позднее, в 1791 – 1793 гг., польским властям уже было некогда задуматься, – как поступить с остальной безземельной шляхтой? Двинуться к ее интеграции или к устранению этой социальной группы?
Планы социальной чистки, предполагавшей переселение сотен тысяч безземельных шляхтичей, возникли уже в Российской империи, начиная с плана Зубова 1795 г. и заканчивая планом Юренева 1829 г. Однако все они оказались непригодными для реализации, статус же этой группы на протяжении более 30 лет вызывал постоянные споры. К 1800 г. численность безземельной шляхты достигла 262 тыс. человек на Правобережной Украине и вопрос о ее интеграции вызывал в Петербурге такой же дискомфорт, как вопрос о евреях или татарах. Показательно, что для Герольдии этой проблемы как таковой не существовало, ее интересовал совершенно иной мир – мир землевладельцев. Не менее показательно и то, что не только польские магнаты, прямые защитники шляхетской «голоты» в Речи Посполитой, но и многочисленная средняя землевладельческая шляхта, бравшая безземельную «братию» на службу в свои имения или скармливавшая ей судебные должности, которыми сама гнушалась, встали на ее защиту, перестав видеть в безземельной шляхте марионеток в руках магнатов. Польские помещики, в чьих имениях жила чиншевая шляхта, на удивление легко вспомнили идеи шляхетской солидарности и равенства, поскольку теперь именно эти идеи стали основой сохранения польской идентичности в условиях враждебного, особенно после 1815 г., российского доминирования.
Наиболее ярким проявлением упомянутой солидарности на фоне указов, которые начиная с 1800 г. один за другим требовали предоставить в определенные сроки доказательства благородного происхождения и грозили большую часть шляхты отнести к податному населению, а также на фоне ужасающих проектов Державина, Аракчеева, Комбурлея или Филозофова, стало предложение Чарторыйского и Чацкого, сделанное в 1807 г. Согласно ему, срок предоставления доказательств благородного происхождения продлевался до 1816 г.; кроме того, предложение содержало план наделения чиншевой шляхты землей. Это было наиболее щедрое решение шляхетского вопроса среди всех проектов XIX в. Однако по мере того как российский вариант Священного союза проникался идеями национализма, в самой Российской империи распространялась мысль о недворянском происхождении большей части шляхты, необходимости проведения охоты на «ненастоящих» дворян. Преследование воображаемых «чужаков» и изгнание «лиц без бумаг» с принадлежавших им земель переросло в бессильную ярость бюрократии: в 1823 г. ей удалось деклассировать лишь 7 тыс. лиц в Киевской губернии, т.е. мизерную долю от запланированных министром финансов цифр.
Лишь Николай I подошел основательно к решению проблемы, создав в 1829 г. комитет, в задачи которого входила подготовка Положения о шляхте. Несмотря на всю утопичность данного предприятия, оно имеет фундаментальное значение, поскольку показывает, что почти все меры, предпринятые в отношении шляхты в 1831 г. уже после Ноябрьского востания, были обдуманы загодя. В то же время при изучении периода подготовки Положения становятся понятны все трудности, с которыми предстояло столкнуться властям при реализации этих мер. Авторы проекта предусматривали формирование шляхетских обществ по образцу русской общины: шляхта должна была проходить «недолгую», а именно восьмилетнюю военную службу и платить подымный налог. Советы старшин должны были отвечать за сбор налогов. В такой урезанной форме предполагалось сохранить призрак прежней «шляхетской автономии». В ответ на запрос об оценке проекта губернаторы польского происхождения указывали на невозможность создания подобных далеких от реальности обществ, не отвечавших сложившимся традициям края. По своей социальной организации безземельная шляхта, вопреки пониманию царских властей, не формировала никакого сообщества; это была группа людей, персонально связанных со своими помещиками феодальными контрактами и получавших от них на условиях устной договоренности надел земли, с которого они и жили.
До 1840 г., когда были проведены реформы в области права и отменен Литовский статут, помещикам были нужны их безземельные «братья» для судопроизводства и контроля за украинскими крепостными. Несмотря на законодательство, все сильнее урезавшее политическое влияние дворянских собраний (бывших сеймиков), на местных выборах, где утверждались судьи и заседатели, на эти должности вопреки закону регулярно избирались безземельные шляхтичи (зачастую из наиболее мелких). Бывало, что шляхта даже обращалась с просьбой официально узаконить устоявшуюся традицию, а отказ властей оставался на бумаге. Именно тем, что землевладельцы отводили чиншевой шляхте роль в судебной системе и надзоре за украинским крестьянством, можно объяснить продолжительное сохранение чиншевых наделов в период, когда чиншевая шляхта вместе с упадком выборной системы Речи Посполитой утратила свой политико-гражданский статус. Обоюдный интерес привел к созданию своего рода симбиоза между богатой и бедной шляхтой.
Третий вывод касается той части шляхты, которая в правовом отношении была ближе всего к русскому дворянству, т.е. польских помещиков. Выборы – единственный механизм, уцелевший от прежних институтов «демократии» на местном уровне, – больше не интересовали (если вообще когда-то интересовали) 94,5 % из 11 тыс. землевладельцев Правобережной Украины. Это колоссальное самоустранение уменьшало мнимую «массу» избирателей каждой губернии еще на 200 – 300 лиц, т.е. до 5,5 % от тех, кто имел право голоса по закону от 3 марта 1805 г. Низкое «участие» в выборах можно объяснять неприятием произошедших разделов Речи Посполитой, пассивным патриотическим сопротивлением, однако я склонен видеть в этом глубочайшее безразличие польских помещиков ко всему, что непосредственно не влияло на управление их собственными имениями. На мой взгляд, в описываемой ситуации можно говорить об узурпации «шляхетской демократии» этими 5,5 % «граждан», что привело к окончательному истощению институтов власти Речи Посполитой и к тихому уходу остальной части землевладельческой шляхты в мир повседневных забот, связанных с основным источником обогащения – управлением имениями с помощью тех же чиншевиков.
В первой части книги было показано, как часто выборы становились объектом административных проверок и расследований со стороны царских властей, которые ревниво относились к сохранению чистоты рядов дворянства. В таких условиях те редкие счастливцы, которым удавалось остаться на арене борьбы до следующих выборов, должны были происходить из числа тех «граждан», которые либо могли доказать свое происхождение и проявить покорность в отношении самодержавия так, как это было свойственно российскому дворянству, либо надеялись на возможность диалога с властью. Иллюзии на этот счет порождались самой властью, которую неоднократно охватывал такой страх перед этими подданными, что она уже не знала, что лучше – кнут или пряник. А потому один период, когда дозволялось обращаться к царю с нижайшей просьбой (как это сделала волынская шляхта в 1808 и 1816 гг.), сменялся другим, когда власти лишь думали о максимальном обогащении казны за счет конфискации как можно большего числа имений (1809 – 1814 гг.). Однако именно польские помещики, допущенные к голосованию на дворянских собраниях (хотя их статус в большинстве случаев не был подтвержден Герольдией, предельно ограничившей до 1840 г. доступ к дворянству), оказались солидным оплотом в поддержании власти над неспокойными крепостными подданными. В этом на личном опыте убедился Сен-При в 1814 – 1815 гг., о чем и доложил в Петербург; в 1829 г. Грохольский в своих выступлениях в поддержку крепостного строя называл польских помещиков гарантом сохранения крепостничества. В сущности, так же думали и украинские крепостные, не поддержавшие своих польских помещиков во время Ноябрьского восстания.
Стремление землевладельческого меньшинства Правобережной Украины доказать свою преданность властям не помешало Петербургу держать его на коротком поводке, более того, не давало властям оснований доверять 10 тыс. помещикам, которые практически бесконтрольно владели большей частью дворянской земли и населения Украины. Именно против них Карамзин неустанно настраивал Александра I, и именно от них Панкратьев еще до 1810 г. стремился защитить украинских крепостных. В свою очередь, Аракчеева, великого князя Константина и самого Николая I возмущало уклонение этой шляхты от военной службы. Именно на эту шляхту киевский военный губернатор в 1827 г. обрушил первые деполонизаторские удары, когда им была предложена, как бы странно это ни звучало, языковая русификация. Впрочем, эти польские помещики и их потомки смогли сохранить вплоть до 1920 г., в чем нам еще предстоит убедиться, социально-экономическое превосходство на Правобережье Днепра.
И последний, четвертый, вывод замыкает круг, похожий на скользкую петлю, в которой вот-вот задохнется жертва. Этот регион, в котором, невзирая на избыток шляхты, недоставало административных кадров, мог бы быть начиная с 1801 г. (момента создания университетов) хоть сколько-то выпущен из тисков сословных структур, что способствовало бы появлению открытого общества, основу которого составляла бы компетентная и образованная элита. Образование было крайне привлекательной целью для значительного числа шляхтичей. Однако так же, как в самой России не было места для разночинцев, так и в трех юго-западных губерниях не было будущего для образованных людей из бедной шляхты. Во-первых, 18 польских школ, созданных на Правобережной Украине и задуманных в качестве оплота польской культуры (до смерти Т. Чацкого в 1813 г.), постоянно вызывали подозрение властей. Во-вторых, в то время как после 1815 г. А. Чарторыйский и Ф. Плятер, находясь под влиянием идей об учреждении элитарных лицеев, захотели открыть подобный лицей в Кременце, в самой Российской империи образование стало восприниматься как угроза социальной стабильности. Из четырех тысяч молодых польских шляхтичей, обучавшихся на Украине, свыше 60 % были выходцами из безземельной шляхты. Именно этой группе, стремившейся к повышению своего статуса через образование, а не в силу происхождения, не было позволено пойти по избранному пути: в 1816 г. Козодавлев заклеймил излишнюю привязанность к рангам; в 1818 г. Голицын свел на нет присвоение ученых степеней в университетах; в 1819 г. уже сам Чарторыйский высказался за то, чтобы получаемое образование соответствовало социальному происхождению; в 1826 г. Васильчиков и слышать не хотел о категории «граждан», в которую могли попасть заслужившие отличия представители третьего сословия.
Сословное происхождение неумолимо одерживало верх над образованием; в результате школьная система, способная вывести общество на новый уровень развития, превращалась в бесполезное украшение. И хотя в этот период в школах Украины учились крупные и яркие личности, проявившие свой талант в будущем, в целом тогдашняя школьная система не привела к созданию новой социальной группы – интеллигенции. В 1828 г. Сперанский только и мог что сетовать на избыточную склонность к учебе в т.н. польских губерниях. Ему не дано было предусмотреть, что косность существующей системы в скором времени приведет к социальному взрыву.
Подведение итогов первого, почти сорокалетнего, периода российского господства на Правобережной Украине дает возможность глубже понять последующий ход истории, который мы предлагаем проследить читателю вместе с нами.
Часть II
1831 – 1863 годы
Глава 1
КРЕПОСТНОЙ И ЕГО ГОСПОДА. УКРАИНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
Продолжительная колонизация
Понять особенность менталитета подавляющего большинства польской шляхты Правобережной Украины можно, изучив ее взаимоотношения с местным населением – украинским крестьянством, говорившим на другом языке, исповедовавшим в большинстве своем иную религию и издавна находящимся в полной крепостной зависимости. Обращение к этой теме крайне важно для понимания сути того мира, в котором жила польская шляхта, а также российской политики, постепенно приспосабливаемой к особенностям этой группы. Впрочем, цифры говорят сами за себя. Существующая погрешность, связанная с методикой сбора данных царской администрацией, никоим образом не нарушает основных пропорций. Согласно данным 8-й ревизии 1834 г., на которую ссылаются все губернаторы до 1850 г., этнический состав населения был следующий438:
Как видим, количественно украинские крепостные в 10 раз превосходили польскую шляхту. Правда, в официальной статистике нет данных о количестве русских, ставших официальными хозяевами этих губерний после разделов Польши 1793 и 1795 гг. Несмотря на то что количество правительственных чиновников центральной администрации (канцелярии трех гражданских губернаторов, местная полиция) было незначительным, русское влияние ощущалось повсеместно. В 1840 г. в Киевской губернии было 21 175 солдат царской армии, в Подольской – 15 799, Волынской – 18 824439.
Теперь судьба украинцев была не только в руках польских помещиков, но все в большей степени зависела от этой новой силы. Принимая во внимание постепенное появление малочисленной группы украинской интеллигенции, следует признать: исследуемый период стал прежде всего периодом борьбы между двумя империализмами, где ставкой в игре стали украинские души. Души как с административной точки зрения – исполнители подневольного труда, так и души в прямом смысле слова, которые следовало вырвать из сферы польского влияния и превратить в верноподданных слуг царя.
Имущественное положение поляков почти не претерпело изменений. В результате разделов Речи Посполитой конца XVIII в. и Ноябрьского восстания 1830 – 1831 гг. российские власти, о чем еще пойдет речь, конфисковали часть имений. Тем не менее владение землей с приписанными к ней крепостными продолжало оставаться практически исключительной привилегией поляков. В 1840 г. царское правительство сумело непосредственно подчинить себе лишь следующие группы украинских крепостных440:
В целом 415 100 крестьян было исключено из сферы польского влияния. К ним следует также добавить еще несколько тысяч крепостных, со времен Екатерины II принадлежавших российским частным владельцам (см. 3 главу этой части). Однако их количество было незначительным по сравнению с массой крестьян, все еще находившихся в полной экономической зависимости от традиционных владельцев. С этого времени царское правительство стремилось осуществлять более серьезный контроль за крепостными, настраивая их против польских помещиков. Количество крепостных в трех губерниях было следующим441:
Царские власти внушали крепостным убеждение, что Польша больше не существует и что в их же интересах признать своим истинным благодетелем царя, поскольку их с русскими объединяет общая религия. На этих землях доминирующую позицию занимало православие, а грекокатоличество (униатство), преобладавшее до разделов Речи Посполитой, к этому времени уже лишилось большинства верующих. В 1840 г. генерал-губернатор с удовлетворением сообщал об удачном воплощении в жизнь указа 1839 г., которым, в частности, предписывалось приобщение небольшой группы униатов (130 тыс. душ) к православной церкви. 579 402 крестьянина-католика в трех губерниях (70 061 – в Киевской, 224 353 – в Подольской и 284 988 – в Волынской) было незначительным числом по сравнению с тремя миллионами православных442. Впрочем, властям не потребовалось особых усилий, чтобы разжечь в украинском крестьянстве тлевшую вражду к польской шляхте.
Не все поляки, как было показано в первой части, являлись землевладельцами, хотя, как известно, все они считали себя шляхтичами. Тем не менее, крестьяне с ненавистью относились к безземельной шляхте, поскольку именно ее чаще всего привлекали помещики для службы в качестве управляющих, экономов и т.п. Для воспоминаний всех польских авторов об этом регионе характерно обращение к одной крайне важной дате, а именно к 1768 году – году страшной резни польской шляхты в Умани. Еще в XVIII в. киевский депутат сейма Ян Хоецкий справедливо указывал на экономов как на непосредственных эксплуататоров простонародья: «В уманских и белоцерковских имениях [т.е. в крупных поместьях Потоцких и Браницких. – Д.Б.] на службе состоит тысяча шляхтичей; у них есть имения, свободы, и они всем заправляют»443.
Ненависть к полякам и шляхте в это время достигала неслыханной силы; ее ужасающий образ находим в поэме 1828 г. «Каневский замок» польского поэта-романтика С. Гощинского. Герой поэмы казак Небаба, возглавивший в 1768 г. восставших крестьян, призывает своих товарищей идти за ним на борьбу против польской шляхты:
- Тот, у кого кнутом отец засечен,
- Тот, у кого похищена жена,
- Невеста юная осрамлена,
- Тот, кто был лаской панскою отмечен,
- Того стенаньем девушек и вдов
- И муками погибших заклинаю —
- Пускай скорее выйдет из рядов,
- Становится ко мне поближе, с краю.
Это обращение перерастает в поэме в призыв к мести:
- Кто изнемог под игом панских пут
- И кто работал на панов годами,
- А сам и мерз, и голодал как пес,
- Тот, кто не раз утрату перенес,
- Кто совершить задумал дело мести,
- Чтоб позже с наслаждением вздохнуть,
- Того я заклинаю – будем вместе!
- Победа! Вольность! На коней – и в путь!444
Достаточно обратиться к начальному периоду пребывания поляков на Украине, чтобы понять, что их присутствие никогда не было желанным. В опубликованном еще в советское время сборнике документов и материалов представлен перечень крестьянских восстаний, начиная с XVIII в. – непрерывность этой цепи поражает445.
Отношения между поляками и украинцами были не чем иным, как отношениями между помещиками и крепостными. Польский писатель Ю. Крашевский был одним из немногих, возможно даже единственным, кто в упомянутый период решился заклеймить бездумное отношение его единоплеменников к крестьянам и показать, что злоупотребления, которые привели к казацким войнам XVII в. и резне XVIII в., в еще большей степени были усугублены в XIX в. Ссылаясь на сочувственное отношение польских авторов, описывающих войны XVII в. (например, на свидетельства Самуэля Твардовского)446, Крашевский подчеркивал, что уже в те времена «неслыханным было барское притеснение на Руси, которое частично и привело, или, по крайней мере, во многом помогло Хмельницкому в страшном бунте, за который пришлось заплатить такой мерой пролитой крови. Растущее количество налогов, чиншей, разных выплат, к которым вскоре была добавлена тяжесть военного постоя, становилось практически невыносимым. В случае рождения ребенка или свадьбы требовали дань в звонкой монете – еще сейчас на Полесье и Волыни сохранился обычай приносить в дар пану, например, черную курицу, полотно, крупу, водку, пирог, красный кушак и т.д.». Евреи, также эксплуатировавшие крепостных, страдали от взрывов народного гнева вместе с помещиками, однако, по мнению Крашевского, который, впрочем, сам был землевладельцем, основная ответственность лежала на последних: «…действительно, справедливость, должна быть во всем, но я не знаю, как совместить просвещение, к которому стремимся, с нечеловеческим грабежом, который виден почти всюду»447. Как известно, Н.В. Гоголь смог мастерски описать эту трагедию XVII в. в повести «Тарас Бульба».
В 1841 г. другой польский мемуарист так писал о подольских крестьянах: «Татары застали бы мужиков в том же виде, в каком их в начале XIV в. оставили. Те же нужды и промыслы, то же невежество и нищета. Труд их подобен скотскому. Требует присмотра, предоставленные сами себе мужички не работали бы ни на панов, ни на самих себя»448. Рабская атмосфера передана и в живописи тех лет: украинские крестьяне в изображении Каетана Келесинского (1808 – 1849) зачастую лишь пьют или ругаются. Крашевский указывал на то, что множились суеверия и предрассудки, никто не пытался спасать избы во время пожара, поскольку к огню относились как к гостю, которого нужно должным образом встречать. Крестьян было легко держать под контролем, злоупотребляя их простотой и набожностью, требовать, чтобы падали ниц при виде своего господина. По мнению Крашевского, немного более высокий уровень жизни здешних крестьян по сравнению с Царством Польским объяснялся лишь плодородием украинской земли449. В целом же помещики не выделяли больше трети земли под наделы крестьянам, которые после отмены крепостного права в 1861 г. продолжали бесплатно обрабатывать помещичьи земли, как правило более плодородные (такое положение дел будет сохраняться вплоть до 1917 г.)450. Собственно, основной причиной всех бунтов и было рабское угнетение. Однако действия крестьянских банд, таких как отряд Устима Кармелюка, который в количестве 2700 человек терроризировал помещиков Волыни и Подолья с 1812 по 1835 г., пока его предводитель не был пойман и казнен, не следует рассматривать в качестве проявления национального самосознания, которое в этот период было достаточно слабым451.
Ужесточение крепостничества
Так или иначе, но легко понять, почему призывы о поддержке, с которыми восставшие поляки обратились к своим крепостным в 1831 г.452, не были не только услышаны, но и вызвали враждебную реакцию (известно, что, например, Ян Янушевский, дядя Юлиуша Словацкого и брат Соломеи, был убит украинским крепостным), а также легко понять попытку царских властей сыграть с выгодой для себя на давней ненависти украинских крепостных к польской шляхте. Но, как нам предстоит убедиться, подобная политика не была лишена риска – настраивать крестьян против господ значило бы поставить под вопрос сам институт крепостничества, однако российское дворянство не в меньшей степени, чем польские помещики, использовало труд крепостных в своих имениях и боялось, что такой опыт может стать заразительным и обратиться против царской власти. Игра между тремя участниками – поляком, украинцем и русским – приобретала зачастую острый и сложный характер.
В 1839 г. Комитет западных губерний в Петербурге453 с удивлением ознакомился с направленным против польских повстанцев воззванием, которое еще за восемь лет до этого, в 1831 г., распространял главнокомандующий 1-й русской армией генерал Ф.В. фон дер Остен-Сакен: «Жители, сохранившие верность к престолу! Объявляется Вам, что возмутители обманывают Вас и обещают то, чего никогда не могут исполнить, чтобы только делать Вас участниками их преступлений и обогащаются Вашим разорением, не верьте им и тех, которые будут уговаривать и принуждать Вас к бунту, старайтесь захватывать и представлять начальству. [подчеркнуто в оригинале. – Д.Б.]»454.
Генерал-губернатор Д.Г. Бибиков, который сначала представил Николаю I обстоятельства этого дела, припомнив о неосторожном обещании, данном украинскому люду, хотел показать Комитету, что именно теперь, когда раскрыт «заговор» Шимона Конарского, действовавшего во имя народных нужд, следует принять определенные меры в интересах крестьян.
Действительно, за все время своего существования Комитет западных губерний рассмотрел лишь одно дело о личном освобождении крестьянина за донос, сделанный в мае 1831 г. на своего помещика Т. Левицкого из Волынской губернии. Благодаря свидетельству еще пяти крепостных Семен Бурделюк получил вольную, подтвержденную царем 30 июля 1835 г.455 Другие же, подчеркивал Бибиков в отчете за 1839 г., чувствовали себя обманутыми, т.к. были вынуждены вернуться к своим прежним хозяевам, что подорвало их веру в царя. Этой участи избежали лишь те крестьяне, которые были приписаны к конфискованным в результате восстания польским поместьям. Однако и они не были довольны, т.к. попали под контроль Военного министерства, и теперь на них распространялся регламент Аракчеева, предусмотренный для военных поселений. Этим как раз, с горечью констатировал Бибиков, и пользуются польские помещики, убеждая крестьян поддерживать их и оставаться послушными подданными, чтобы не попасть в военные поселения.
Как видим, основная ставка в игре за сохранение влияния в крае делалась именно на украинское крестьянство.
Генерал-губернатор, обеспокоенный сменой настроений в крестьянской среде, констатировал, что во время проведения следствия по делу Конарского не было получено ни одного доноса на помещиков. Через несколько месяцев, в мае 1839 г., в рапорте шефу жандармов и главному начальнику III отделения А.Х. Бенкендорфу Бибиков отмечал, что в его губерниях крестьяне «стараются верной службой Полякам и преданностью к своим помещикам выиграть их благорасположение и тем улучшить свой быт»456. То, что Бибиков воспринимает (или делает вид, что воспринимает) как сближение между украинскими крепостными и их польскими помещиками, было лишь следствием нараставшего террора, механизм которого раскрывают материалы архива киевской полиции с конца 1831 г., т.е. сразу после провала восстания. На самом деле для распростившихся с надеждой на возрождение Польши землевладельцев вновь на первый план вышли классовые интересы и стремление к социальному доминированию.
В свою очередь, царская полиция была безразлична к обещаниям, данным военными за несколько месяцев до этого. Исправники, так же как и помещики, стремились к суровому соблюдению status quo ante457. Таким образом, мы являемся свидетелями того, как быстро было найдено взаимопонимание между русскими (царскими властями) и поляками (помещиками) по вопросу защиты крепостного строя, здание которого покачнулось в период восстания.
Среди материалов встречаются вызывающие удивление жалобы предводителей шляхты разных уездов, адресованные представителям царской власти. 17 июня 1831 г. предводитель Васильковского уезда Боровицкий жаловался киевскому военному губернатору Б.Я. Княжнину, что около двадцати крепостных помещика С. Проскуры отказались отрабатывать барщину и бездельничают. Сходную жалобу на крестьян села Шпитки выслал и предводитель шляхты Киевского уезда Подвысоцкий. Польские помещики обращались с жалобами напрямую к русским чиновникам, как, например, Хоецкий из Сквирского уезда. Некоторые применяли телесные наказания к крестьянам за то, что те не поддержали их во время восстания, на что царская полиция не обращала никакого внимания458.
Неповиновение крестьян могло иметь и более тяжелые последствия. В августе 1832 г. крепостные очень богатого польского помещика Иеронима Собанского из сел Медведовка, Мельники, Голодовка, Осота и Косары Чигиринского уезда, поверив обещаниям царских властей, отказались отрабатывать барщину. Откликнувшийся на жалобу владельца волынский военный губернатор Левашов послал со специальным заданием по наведению порядка часть Волынского уланского полка во главе с полковником Пайковым. После успешного завершения экспедиции, предводитель местной шляхты выслал 13 августа губернатору благодарственное письмо, в котором от имени всей шляхты своего уезда выражал надежду, что отныне ее отношения с крестьянами наладятся, а имевшие место события не ослабят ее власти над подданными. Однако волнения продолжались вплоть до конца 1832 г., их организаторы были наказаны: трем присудили по 30 ударов розгами, одного отдали в солдаты, а еще одного сослали в Сибирь459.
Таких случаев было немало. 30 июня 1832 г. киевский военный губернатор довел до сведения шляхетских собраний, что с каждым ссылаемым в Сибирь крепостным должна ехать жена460. Так восстанавливался порядок.
Польские помещики с все большей жестокостью относились к своим крепостным, веря в свою безнаказанность и желая отомстить украинцам за безразличное отношение к польскому делу. Муж знаменитой Эвелины Ганской, возлюбленной Бальзака, закрывал глаза на действия своих экономов, занимавшихся наведением порядка. Один из них, Врублевский, прославился тем, что в 1829 г. облил кипящей смолой крепостного, от чего тот вскоре умер. В апреле 1832 г. 56 доведенных до отчаяния крепостных села Сухолуч Радомысльского уезда подали православному священнику жалобу на эконома, который, ворвавшись в церковь во время службы на Вербное воскресенье, вытащил шестерых крестьян и приказал казакам помещика отхлестать их нагайками. Причиной было то, что эти «бездельники» осмелились отправиться в лес за хворостом для починки крыш. Ни эконом, ни Вацлав Ганский, бывший предводитель шляхты Волынской губернии, не только не предстали перед земским судом, но и не были потревожены царской администрацией461.
Двенадцать крестьян поставили крестики под жалобой, поданной волынскому гражданскому губернатору в Житомире, на эконома помещика Сорочинского, заставлявшего засевать помещичьим льном крестьянские наделы, а крестьянок трясти выращенный лен. (Эти виды работ, как и трудоемкий и длительный процесс выжигания соды из древесного угля, не засчитывались в качестве барщины.) В жалобе также сообщалось, что у отрабатывавших барщину родителей погибли из-за недосмотра двое детей, эконом запретил им жаловаться под угрозой сдачи мужа в солдаты. Волынский губернатор отослал крестьян, признав требования эконома полностью законными462.
Российские чиновники, как и польская шляхта, относились к украинским крестьянам по большей части как к дикой черни, с которой следует всегда быть начеку. В этой связи характерным представляется воззвание, с которым в октябре 1838 г. три российских гражданских губернатора обратились к польским губернским предводителям. Голодные бунты в причерноморской степи, в особенности в Херсонской губернии, а также опасения, что беспорядки могут распространиться на соседнюю Левобережную Украину, так напугали царских чиновников, что они обратились к польской шляхте: «Государь Император, утвердив предложенные Комитетом Министров меры пособия помещикам тех губерний для продовольствия их крестьян, Высочайше повелеть соизволил, чтобы в случае подобных со стороны крестьян буйств они были немедленно усмиряемы даже силой оружия и что следствие таковой Высочайшей воли Г. Главнокомандующий предписал всем начальникам войск 1 армии, дабы по требованию Гражданского начальства неотлагательно было оказываемо содействие к прекращению беспорядков»463. Хоть такая ситуация была маловероятной в Киевской губернии, гражданский губернатор все же предпочел предупредить предводителей: «Если бы дерзость их [крестьян. – Д.Б.] обнаружилась до такой степени и полицейские меры не могли бы укротить их поступков, а потребовалось пособие со стороны военной, то я предлагаю Вашему Высокоблагородию в таком случае донесть мне с эстафетой или нарочным для должного с моей стороны распоряжения»464.
Чего ждать от патернализма?
Можно констатировать, что до 1838 – 1839 гг. в своем отношении к украинскому крестьянству Петербург и польские помещики Правобережной Украины удивительно похожи друг на друга. Проявление человеколюбия как с российской, так и с польской стороны было скорее исключением, чем правилом. В тяжелые голодные годы о своей обязанности заботиться о крестьянстве вспоминали лишь некоторые польские аристократы. Вот одно из свидетельств того времени: «Наступило лето (1832 г.) и самая печальная жатва. Нечего было собирать крестьянину, и с грустью свозил он на гумно остатки дрянной соломы, пригодной разве для кормления его худой скотины. Неслыханно выросли цены на хлеб. На Волыни корец ржи стоил 30 злотых, немногим меньше – в Подолье и на Украине [то есть в Киевской губернии. – Д.Б.]. Имевшие прошлогоднее зерно помещики, хоть открыли свои токи, но этого было недостаточно, ведь еще нужно было оставить что-то для посева озимых себе и крепостным. К выделенному мизеру зерна приходилось домешивать измельченную кору молодых деревьев или иссеченную и высушенную солому, молоть и печь хлеб. Бесчисленные толпы совершенно нищих и изголодавшихся людей сновали кругом по дорогам и местечкам, вымаливая кусок хлеба…» Автор, приводя примеры чуткого милосердия графини Ожаровской, княгини Радзивилл и графини Дзялинской, утверждает: «По всей Волыни несчастье приводило к тому, что помещики делились с крепостными тем, что было у них на токах. Все ли действовали бескорыстно, сложно сказать, но многие делали это из любви к ближним…»465
В том, что касается российской стороны, следует сказать, что закон 1835 г. предусматривал конфискацию в пользу государства земель польских помещиков, проявивших наибольшую жестокость (в то время как земли русских помещиков в таких случаях отдавались под надзор опекунского совета), однако первоначально закон зачастую не соблюдался. Улучшение положения крестьян было возможно лишь в тех имениях, которые были конфискованы у поляков по политическим мотивам.
Однако 29 марта 1833 г. граф А.Х. Бенкендорф передал министру Е.Ф. Канкрину повеление проверить, насколько правдивы жалобы крестьян, писавших, что при прежних польских хозяевах им жилось лучше. По правде говоря, шеф жандармов считал, что все эти слухи «могут проистекать сколько от корыстолюбивых видов тех лиц, состоящих большой частью из польской шляхты, которые заведывают конфискованными имениями, столько и от неблагонамеренности сих управляющих, которые таковыми средствами желают, может быть, возбудить между крестьянами неудовольствие и ропот против Правительства». Тем не менее подольский гражданский губернатор организовал проверку. Он утверждал, что крестьяне платят обычный налог (3 рубля – двулошадный крестьянин, 1 рубль – однолошадный, 66 копеек – безлошадный). Киевский гражданский губернатор был поставлен в известность о тяжелом положении с тягловой силой и семенным фондом, его также просили оказать содействие в преодолении этих трудностей. В свою очередь, волынский гражданский губернатор констатировал, что управляющие в конфискованных имениях Вацлава Жевуского близ Ковеля, возможно, допускали злоупотребления, однако по сравнению с ними управление казенными лесами, до конфискации принадлежавшими овруцким монахам-базилианам, действительно применяет драконовские меры, в связи с чем необходимо разрешить крестьянам, как и раньше, продавать смолу и деготь, выжигаемые из собранных дров. В конце концов, на основании проверок на местах киевский генерал-губернатор сообщил 4 октября 1834 г. в Петербург, что к «конфискованным» крестьянам везде относятся хорошо, и они постепенно приходят к убеждению, что их нынешнее положение на порядок лучше службы у польских помещиков466. Однако это улучшение, как было показано, носило условный характер – после введения в 1837 г. военных поселений в связи с перестройкой Киселевым организации казенных крестьян положение «конфискованных» лишь ухудшалось.
В какой степени государство и помещики заботились о крестьянах? Патриархальный образ сельской жизни лишь создавал видимость опеки. В Киевской губернии царские власти содержали девять больниц, один сумасшедший дом и один приют для бедных; как и по всей империи, ими управлял Приказ общественного призрения. В сельской местности о здоровье крепостных должны были заботиться помещики, но к этой обязанности они, как правило, относились крайне небрежно. В 1850 г. предоставление медицинской помощи крестьянам в Киевской губернии было зафиксировано лишь в 53 поместьях. Большая часть землевладельцев заявляла о нескольких сотнях больных, в нескольких случаях речь шла о нескольких десятках. Самому большому количеству больных (1200 в течение года) была оказана помощь в имении Браницких (Белая Церковь, Ставище, Смела). Как и в 27 других имениях, помощь предоставлялась бесплатно, остальные помещики требовали платы. Тем не менее оказываемая помощь была недостаточной, среди крестьян наблюдалась высокая смертность.
Регулярно повторялись большие эпидемии. Наибольший урон приносила холера: крестьяне безуспешно пытались избежать ее, прячась по хатам. 15 августа 1848 г. Юзеф Крашевский в письме к матери сообщал: «По всей Волыни и Подолью ужасно свирепствует холера, особенно в местечках, но бывают случаи, когда и в селах обычная дизентерия превращается в холеру. Смертность большая, оторванность, разрыв связей с внешним миром, тишина, изредка нарушаемая криками, не может не волновать. Если и приходят какие-то вести, то, хоть и могут грешить преувеличениями, по сути своей ужасают. В Каменце – беспримерное количество смертей, в Кременце, в Дубне – огромное, в Луцке, Торчине – хоть и меньшее, но все же значительное. Люди мрут и мрут. У нас, слава Богу, до сих пор тихо, но почему-то страшно…»467 Если у помещика были такие впечатления, то что можно говорить о реакции крепостного?
Избежать барщины было практически невозможно. Однако для крестьян, пользовавшихся расположением богатого помещика, крепостная зависимость могла быть совершенно иной. Около 1850 г. в связи с ростом экспорта зерна через Одессу появляется немногочисленная группа привилегированных крестьян – чумаков, перевозчиков и доверенных лиц крупных производителей зерна, отвечавших за доставку зерна в порт, а из порта – вин и колониальных товаров из Марселя для своих господ. Некоторые крепостные, хотя в основном эти должности занимала безземельная шляхта, были управляющими, гуменщиками (смотрителями при гумне), атаманами (старшими пастухами). Другие же благодаря бытовавшей еще традиции держать в крупных польских поместьях «почетную гвардию» становились казаками. Они носили форму, известную еще в давние времена Речи Посполитой, или ливреи, цвета которых соответствовали цветам, характерным для того или иного магнатского рода. В такую гвардию выбирали физически развитых крестьян, выполнявших разные тайные поручения, выступавших посредниками между поместьями, ухаживавших за барскими детьми и т.п. Как правило, эти привилегированные крепостные забывали о своем происхождении и были готовы служить душой и сердцем своим хозяевам.
В неопубликованном дневнике Кароля Бжозовского, написанном, скорее всего, в 40-х гг. XIX в., отдельная глава посвящена его благотворительной деятельности. Стоит отметить, что даже те помещики, которые проявляли наибольшую человечность в отношении крепостных, были убеждены в их умственной неполноценности. Бжозовский писал: «Под ногами у земледельца рассыпаны щедрые дары неба, нужно только, чтобы он собрался над ними склониться, а если захочет он уклониться даже от такого труда, необходимо его принудить к нему. Сельский люд нуждается в отеческой опеке: многие ошибаются, полагая, что лучше всего предоставить его самому себе, что, мол, когда станет ему невтерпеж, то и ленивый возьмется за работу, но этого не происходит, и об этом стоит помнить, если мы действительно хотим понять сельский люд. Случалось так, что я покупал поместья, в которых крестьяне жили в большой бедности, нищете, голоде, без одежды, почти в хлевах; через три года нищета исчезала, а через шесть – благосостояние крестьян восстанавливалось. Важные, а одновременно самые простые меры к тому – это дать каждому крестьянину как можно больший надел, который возможно выкроить и который земледелец будет в состоянии обработать. Безземельных крестьян быть не должно, потому что неизвестно, к какому классу следует относить земледельцев без земли: они хоть и могут прокормиться поденной работой, но в случае болезни, увечья или старости, превратятся в попрошаек…» Далее Бжозовский объясняет, благодаря чему ему удалось добиться процветания своих крепостных: он дал взаймы всем нуждавшимся, а то, как распорядиться полученными средствами, решалось на общем крестьянском сходе; там же при всем народе позднее позорили неудачников. Эта мера применялась и к заядлым пьяницам. Кроме того, крестьяне должны были подписать обязательство не пить в течение определенного срока, а тех, кто нарушал данное слово, хозяин сажал на неделю на хлеб и воду, утром и вечером они получали по одной розге – считалось, что своим поступком они оскорбляли Бога и подавали плохой пример остальным468. Немногочисленные прозорливые свидетели эпохи единогласны в том, что незыблемость существовавшего порядка вещей в этой отдаленной части Европы сохранялась из-за господствовавших архаических отношений. «Помещик, сосредоточив в своих руках административную, исполнительную, а зачастую и судебную власть, – писал Август Иванский, – был полным хозяином в своем имении и проводил замену крестьянских наделов так, как ему было выгодно, обменивал, а временами и забирал у крестьян хутора, на которых они издавна вели хозяйство, вмешивался в порядок распределения их податей и набора в рекруты, забирал способных слуг при продаже имения, переселяя их в другие села, временами выступал арбитром в супружеских делах. И этот порядок вещей помещики и крепостные считали чем-то естественным и не подвластным никаким переменам»469.
Насилие в этом мире было важнее милосердия, а одно из самых жестоких его проявлений – набор в рекруты – служит еще одним свидетельством существования польско-российского заговора. Царские власти, поручая помещикам ежегодно набирать рекрутов на двадцатипятилетнюю военную службу, тем самым развязывали им руки. Это поистине страшное наказание касалось в первую очередь пойманных беглых крестьян. Для их поимки устраивались облавы, беглецов искали всем селом, а затем отправляли на рекрутскую комиссию. Зачастую это случалось и с теми несчастными, которые позволили себе «надерзить», т.е., по словам Иванского, «за любое проявление человеческого достоинства, чего тогдашняя шляхта терпеть не могла, поскольку, к сожалению, этого не понимала и не чувствовала к тому необходимости»470. Набранных в рекруты заковывали в кандалы и увозили. «Послушайте, когда кого-то берут в рекруты, – писал Ю. Крашевский, – какой плач, какое отчаяние, какие рыдания! Самое удивительное, что в такие торжественные минуты горя женщины вместо того, чтобы говорить и плакать, все время угрюмо словно неосознанно поют. Идя за телегой бедного изгнанника, они утирают глаза и грустным пением провожают его к местечку. Задумавшись глубже над причиной слез и горя, найдешь в них материальные причины, хотя чего еще можно ожидать от такого необразованного и бедного люда?»471 Несомненно, этот люд можно было просветить и обучить. Часть польских помещиков осознавала тогда эту проблему: «В руках господ находится дело просветительства, дело похвальное, святое прежде всего. Правительство разрешает открывать в селах приходские школы. Подобные школы, сиротские приюты для детей, больницы для больных, но прежде всего, беззаветные и активные действия привели бы к возрождению многих сотен тысяч людей, судьба коих Божьим Провидением в руки господ под серьезную ответственность отдана!..»472 Мы еще убедимся в том, что, к сожалению, эти благие намерения не были реализованы. Вопрос об образовании был напрямую связан с российско-польским соперничеством: царское правительство давало согласие лишь на открытие русских школ, а помещики хотели общаться со своими крепостными лишь по-польски. Преграда оказалась непреодолимой. Н.И. Костомаров, который в качестве учителя часто ездил по Украине, а кроме того, занимался поиском материалов для своей работы о Богдане Хмельницком в библиотеках помещиков, писал в «Автобиографии», что «интеллигентный язык во всем крае был исключительно польский и даже крестьяне поневоле должны были усваивать его»473.
Часть католического клира и наиболее прогрессивные писатели пытались, правда без особого успеха, оказать влияние на помещиков в решении крестьянского вопроса. В целом католическая церковь, преследуемая и переживавшая после 1831 г. определенный кризис, в незначительной степени интересовалась социальными проблемами. Однако именно в форме проповеди, вложенной в уста священника, писатель Титус Щеневский обратился к польским помещикам: «Сколько же среди вас, славных, дружелюбных, благонравных и даже набожных, не постигли того, что не скотину Господь отдал в ваше ведение и что вы не должны обходиться со своими подданными так, как идолопоклоннические народы Рима и Греции обращались со своими рабами, или как недавно еще поступали с неграми… [многие из вас] думают, как бы в свою пользу пересчитать барщину, эти дни кровавого пота и труда, как бы обвести вокруг пальца крестьянина, чтобы свалить на него и его бедную жену груз самых тяжелых работ… А что говорить о тех, кто злоупотребляет правом телесного наказания, немилосердно относится к люду, невзирая на то что этот необразованный по милости тех же помещиков люд нуждается в большей снисходительности к чинимым им поступкам, которые в основе своей являются следствием подлого положения, в котором его удерживают… Всегда ли были от ваших неприличных распутных домогательств защищены их дочери, их жены? Какого же наказания заслуживают те, кто, используя высоту своего положения над подданными, толкает эти бедные и несчастные существа в бездну позора?..»474 Следует сказать, что положение украинских женщин – одна из наиболее болезненных тем. Польская шляхта смотрела на крепостных чрезвычайно цинично, и хотя не все были настолько богаты, как граф Мечислав Потоцкий, державший в Тульчинском дворце гарем из крепостных красавиц475, многие сожительствовали с крепостными крестьянками, за что их в своих популярных морализаторских романах клеймил Ю. Крашевский.
Исключительными примерами иного отношения к крестьянству Украины, спасающего честь польской шляхты, являются Юзеф Крашевский и Зигмунд Милковский, писавший под псевдонимом Теодор Томаш Еж. Крашевский не обращал внимания на национальные отличия между помещиками и крепостными, однако в 1840 – 1860-х гг., когда он писал свои популярные романы, это было еще допустимо. Героями его книг были украинцы, подобно тому как героями Жорж Санд были жители французской провинции Берри. Но как в одном, так и в другом случае главным для писателей было то, что их героями были крестьяне. Крашевский сам в 1840 – 1846 гг. занимался хозяйством в небольшом имении Грудек под Луцком в Волынской губернии, а позже в имении Губин. Искреннее желание обличить помещиков в эксплуатации крестьян и борьба за человеческое достоинство обездоленных привели к тому, что Крашевский нажил себе множество врагов среди людей своего же класса. Судьба Милковского сложилась иначе. Он учился в Немировской гимназии, Одесском лицее и был студентом Киевского университета, в 1848 г. ему довелось принимать участие в Венгерской революции. Написанная в 1857 г. и посвященная крестьянской теме повесть «Васыль Голуб» основана на личных воспоминаниях писателя. Это история крестьянина, который бежит от жестокого помещика в бессарабские степи. В повести элементы реализма сливаются с утопическими идеями аграрного общества.
Произведения обоих писателей, несмотря на то что сегодня могут казаться крайне мелодраматичными, отражают грустную действительность того времени. В повести «Уляна» (1842 г.) Крашевский изображает трагическую судьбу соблазненной собственным помещиком крестьянки. Муж в отчаянии избивает ее, за что помещик сажает его под замок. Брошенная любовником женщина вешается, а ее муж поджигает усадьбу и тоже кончает жизнь самоубийством. Написанная в том же году «Повесть о Савке» посвящена подобной типичной ситуации, когда польский шляхтич (управляющий) похищает жену у замученного непосильным трудом бедняка Савки. Савка, ранив его, решается бежать в австрийскую Галицию. Герои этих произведений связывают причины своей тяжелой нищей жизни с божьим гневом, обрушившимся на них за грехи. Тем не менее Крашевский разоблачает польских помещиков, указывая на то, что им известны лишь кулак и палка, они бесчестят женщин и девушек, подкупают царскую администрацию, чтобы скрыть следы собственной жестокости. В повести «Остап Бондарчук» (1847 г.) показана пропасть, отделяющая от мира господ крестьянина, которому удалось получить образование. Продолжением этой темы стала написанная в 1860 г. в разгар общероссийских дискуссий о будущем освобождении крепостных повесть «История колышка в плетне», в которой Крашевский разоблачает отсталость и ограниченность шляхты. Это повесть о талантливом крепостном музыканте, которому суждено так и остаться слугой, подобно тому как из прекрасного молодого дуба выйдет всего-навсего колышек для плетня. Не понятый и осуждаемый шляхтой, Крашевский после восстания 1863 г. эмигрировал в Саксонию.
По сравнению со всеми землями давней Речи Посполитой Правобережная Украина, несомненно, была наиболее отсталой в социальном плане. Разница в сознании поляков – жителей Украины и поляков – эмигрантов во Франции была огромной. Последние по иронии судьбы, вдохновленные демократическими идеалами, дали одному из «Обществ польского люда» название «Общество Умань» в знак солидарности с угнетаемым народом Украины. Как же далеки они были и оторваны от действительности!
Руководитель упомянутой группы демократов Хенрик Каминский в своих воспоминаниях, опубликованных лишь в 1951 г., описывает, как во время своей тайной поездки на Правобережную Украину в 1844 г. он убеждал нескольких крестьян поверить в рай, которым станет Польша (а с ней и Украина), когда помещики добровольно откажутся от барщины. Впрочем, он быстро убедился в безрезультатности таких бесед.
Умелое использование злоупотреблений
Февраль 1838 г., время вступления в должность нового киевского генерал-губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, следует считать поворотным пунктом в царской политике по крестьянскому вопросу на Украине. С этого времени политика Петербурга будет направлена на то, чтобы максимально использовать случаи злоупотреблений польских землевладельцев в отношении крепостных, чтобы теснее связать украинское население с Российской империей. Царские власти, не реформируя крепостные отношения в самой России, пытались добиться их ослабления именно в этом регионе с целью ограничить польское влияние. Отличались ли условия крепостничества в Центральной России по сравнению с Правобережной Украиной? Ситуация была общей в том, что касалось рекрутского набора и телесных наказаний476. Привела ли замена барщины оброком к улучшению положения?477 В данном исследовании не столь важен вопрос о том, насколько консервативная часть российских помещиков была готова к переменам, – куда важнее для нас представить степень ограниченности польских землевладельцев.
Уже в 1837 г. Комитет западных губерний на основании закона 1835 г. потребовал от губернаторов трех юго-западных губерний назначить специального чиновника для принятия жалоб от крестьян, принадлежавших помещикам или католическому духовенству, а также полицейского – для проведения соответствующих расследований478. Становилось ясно, что превышение власти польскими помещиками обернется против них самих, став отличным поводом для антипольской борьбы.
7 января 1838 г. Николай I обратился к Комитету с поручением рассмотреть предложения анонимной докладной записки ярко выраженного антипольского характера. Царь не раз прибегал к такого рода приемам, желая выразить или поддержать интересные, с его точки зрения, идеи. В данном случае высказывалось два предложения: о полной конфискации земельной собственности католической церкви, к чему мы еще вернемся, и об ограничении власти помещиков над крепостными. Комитет был напуган смелостью этих предложений. Они были поддержаны лишь князем Долгоруковым; впрочем, в будущем ко второй идее еще вернутся479. Через десять лет она будет воплощена по инициативе Бибикова в «Инвентарных правилах». В связи с этим можно предположить, что автором анонимной записки царю был не кто иной, как Бибиков, получивший через месяц назначение на должность генерал-губернатора трех губерний. В конечном счете все инициативы этого непримиримого врага поляков вплоть до конца его карьеры в 1852 г. имели одинаковую направленность.
Сделанное предположение подтверждает и одно из первых решений нового генерал-губернатора. 16 апреля 1838 г., едва вступив в должность, Бибиков обратился к уголовным палатам каждой из губерний с требованием предоставить сведения о расследовании дел по злоупотреблениям в отношении крестьян. Это полностью отвечало духу анонимной записки к царю. Если принять во внимание то, что в это время, а также и в дальнейшем суд над крестьянами вершила польская шляхта согласно устоявшейся еще до разделов Речи Посполитой традиции, то не должно вызывать удивления, что обращение Бибикова осталось без ответа. Однако он настойчиво повторил свое требование в письме от 13 января 1839 г. Поскольку он успел зарекомендовать себя как человек крутого нрава, то на этот раз поквартальные данные за 1839 г. были представлены, хотя и не исчерпывающие.
Подольский земский суд сообщал, что в 1-м квартале 1839 г. было рассмотрено три случая злоупотреблений – избиение, ранение, жестокое телесное наказание крепостных. В двух случаях чрезмерная жестокость стала причиной смерти. Не было вынесено ни одного обвинительного приговора, каждый раз виновниками были экономы шляхетского происхождения. Во 2-м квартале было зафиксировано одиннадцать подобных случаев, пять из которых закончились смертью и один – самоубийством крепостного. Не лучше обстояли дела и в Волынской губернии – семь случаев грубого обращения в 1-м квартале (непосильный труд, насилие, выкидыши у женщин после избиения) и еще тринадцать – к концу года; большинство из них стали причиной смертельного исхода. Наказания не последовало. Перечисленные фамилии помещиков, управляющих, а также названия поместий, в которых были зафиксированы эти случаи, являются, несомненно, польскими480.
Генерал-губернатор, заинтересовавшись таким положением вещей, приказал подготовить более подробные списки по каждой губернии за период с 1838 по 1840 г. Эти списки говорят сами за себя: в одной колонке представлены случаи, рассмотренные судом, во второй – решения, вынесенные шляхетским правосудием. Трудно найти более удручающий пример обращения помещиков со своими крепостными, свидетельствующий о духе шляхетского правосудия, остававшегося неизменным со времени Литовского статута. Отмена этого Статута в 1840 г., о чем еще пойдет речь, была неизбежной.
Достаточно сопоставить несколько случаев жестокого отношения к крепостным с откровенным цинизмом вынесенных «судебных приговоров», чтобы понять суть устоявшихся взаимоотношений между помещиком и крепостными. В качестве примера обратимся к подборке, сделанной Киевской уголовной палатой на основании данных земских судов481:
– 16 декабря 1837 г. Эконом Л. Вежбовский избил двух больных крестьян, один из которых умер. Приговор: месяц ареста и наложенное ксендзом церковное покаяние.
– 18 декабря 1837 г. К. Коцубинский, эконом в поместье Мадейского, назначил наказание, которое привело к смерти. Обвиняемый освобожден.
– 2 января 1838 г. После избиения экономом из поместья Давидова у крестьянки произошел выкидыш. Две недели ареста.
– 7 января 1838 г. Сверчевский, помещик из Сквиры, вместе со своим экономом принуждали крестьян к работе в воскресные и праздничные дни. Два месяца ареста.
– 14 января 1838 г. После наказаний эконома Чайковского крепостная скончалась. Месяц ареста за свой счет.
– 14 января 1838 г. Главный управляющий имения Браницких Домбровский, а также экономы Пискорский, Маркевич, Вишневский и Вахновский принуждали к дополнительным работам в воскресные и праздничные дни. Поскольку крестьяне, подавшие жалобу, прекратили отрабатывать барщину, суд не рассматривал данное дело, ограничившись простым замечанием обвиняемым.
– 18 февраля 1838 г. Суд над помещиком К. Добжанским по обвинению в чрезмерно суровом наказании соседских крестьян, один из которых повесился; шляхтич был «временно» посажен под домашний арест. В отношении самоубийства крестьянина принято решение согласно часто встречающейся формулировке – «на то воля Божья».
– 11 марта 1838 г. Землевладелец Т. Тушинский до смерти забил одного из своих крепостных. Оправдан.
– 28 апреля 1838 г. Эконом князя Радзивила Я. Замброшицкий забил крестьянина до смерти. Оправдан.
– 20 мая 1838 г. Эконом Я. Козловский избил до смерти крепостного из поместья княгини Лопухиной. Не был лишен свободы, но было сделано замечание, что впредь наказание будет назначено в соответствии с законом.
– 27 мая 1838 г. Помещица Ружа Гляер забила до смерти одну из своих служанок. Дело вообще не рассматривалось судом.
– 19 июня 1838 г. Такое же преступление совершил эконом Ольшанский, он также был оставлен на свободе, т.к. смерть крестьянина наступила по «Божьей воле». Для того чтобы в будущем эконом не распускал руки, его продержали неделю за свой счет под полицейским арестом.