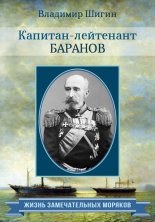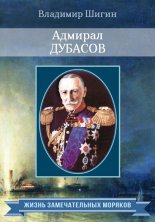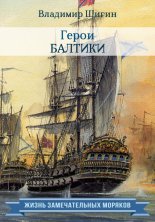Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) Бовуа Даниэль
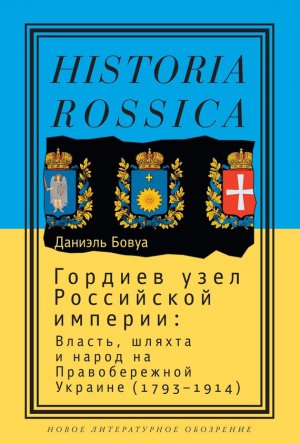
– 30 сентября 1838 г. Эконом З. Добровольский избил до смерти крепостного. Избежал какой-либо ответственности.
– 10 декабря 1838 г. Эконом А. Массальский избил крестьянку; она умерла через три дня. Его продержали месяц в тюрьме за свой счет (это означало, что он мог заказывать еду и иметь прислугу), затем «для очищения совести, предав его церковному покаянию по назначению духовной власти, взыскать от него прогонные деньги».
– 12 января 1839 г. Эконом Трипольских А. Новицкий ударил беременную, родившую после этого мертвого ребенка. За эту «оплошность» две недели провел под арестом в полиции за свой счет.
– 12 января 1839 г. К. Мировский, эконом помещика В. Бущинского, за избиение, приведшее к смерти, был посажен в тюрьму на три недели за свой счет, к нему была применена исключительная строгость – ему запрещалось занимать данную должность впредь.
– 31 мая 1839 г. Эконом Браницких А. Олехневич избил до смерти крепостного. Суд решил: «Смерть крестьянина почесть естественной и дворянина не обвинять». Приняв во внимание жалобы крестьян на беспричинные наказания, он призвал помещика к большей сдержанности.
– 16 августа 1839 г. Эконом К. Кшижановский482 побил до смерти крепостного. Эту смерть отнесли на счет Божьей воли, виновник, получив предупреждение, был оставлен на свободе.
– 19 августа 1839 г. Эконом С. Бжозовский483 побил беременную женщину, что привело к преждевременным родам. Был под арестом две недели за свой счет.
– 12 октября 1839 г. Служанка Босючкова повесилась после порки, устроенной помещицей Г. Ероминской. Решено: «случай смерти Босючковой признать последовавшим от собственного ее произвола» и не беспокоить землевладелицу.
– 31 декабря 1839 г. Эконом Ивашкевичей Вежемский484 избил до смерти крепостную, за что был лишен места и посажен на хлеб и воду на две недели. Наказание было сильнее, если жертвой оказывалась женщина, это характерно и для следующего случая.
– 5 января 1840 г. За такое же преступление 24 неделями ареста был наказан эконом Браницких, В. Городецкий. Его обязали дать сумму в 80 копеек (!) на сирот.
– 16 января 1840 г. Помещик А. Августинович избил крепостную, родившую в результате этого мертвого ребенка. Его посадили в тюрьму на три месяца за свой счет.
– 24 января 1840 г. Землевладелец Карпицкий избил крестьянина, который после этого повесился. Помещику было вынесено суровое порицание за то, что произвел наказание на Пасху.
– 24 января 1840 г. Гурский, эконом Браницких, убил двух старушек. Три дня его держали в полиции, а затем запретили исполнять обязанности, «за невнимание при наказании на болезненное положение старого человека».
– 27 января 1840 г. М. Франковский, эконом государственных имений Уманского уезда (конфискованных у Потоцкого), за убийство крестьянина был задержан на неделю в полиции и получил серьезное взыскание.
Приведенные примеры вынесенных приговоров сегодня кажутся совершенно возмутительными; они не охватывают даже трех лет и касаются лишь одной губернии. Можно представить себе, какой была жизнь украинских крепостных на протяжении многовековой рабской зависимости. Стоит отметить, что в этих приговорах, преимущественно направленных против экономов шляхетского происхождения, даже не считали нужным указывать фамилии жертв, и эта анонимность жертв усугубляет впечатление пренебрежительного отношения шляхты к крестьянскому миру.
Шляхта, жившая на Правобережной Украине, не могла себе представить, что судебные решения могли быть иными. Хенрик Жевуский в «Воспоминаниях Соплицы» (1839 г.) наивно прославляет тех шляхтичей, которые добровольно, без принуждения со стороны полиции приходили в суд и ради искупления вины определяли себе сами несколько недель покаяния (глава «Пан Лещиц»). Не тем ли самым восхищается в «Пане Тадеуше» Адам Мицкевич, вкладывая в уста Войского такие слова:
- То время доброе давно умчалось, паны,
- Когда шляхетские разнузданные страсти
- Обуздывать могли без полицейской власти,
- И свято верили и уважали право,
- Порядок с волей был, и шла с богатством слава!
Именно поэтому ксендз Робак с пониманием отпускает грехи Ключнику, который позволил себе «на беззащитного… поднять оружье»: убийство крепостного вообще не считалось преступлением!
Стоит отметить, что снисходительное отношение к преступлениям такого рода практиковалось только в отношении шляхты. Когда же виновником становился крестьянин, которому повезло (а это, как уже говорилось, было редкостью) стать экономом, то его наказывали по всей строгости. Так, 13 сентября 1839 г. тот же Киевский суд присудил 25 ударов розгами крестьянину-эконому, который с согласия своего помещика С. Ясинского наказал крепостного, покончившего затем жизнь самоубийством. Эконома вскоре выслали, участие помещика не было принято во внимание. Подобная история произошла и с Беньковским, экономом Браницких, чье шляхетское происхождение вызывало сомнения. 26 ноября 1839 г. за принуждение крепостных к работам он был приговорен к трем месяцам тюрьмы и крупному штрафу, ему также было запрещено в дальнейшем занимать должность эконома. Итак, отношение к крепостным хуже, чем к скоту, было исключительной привилегией шляхты и дворянства. Все это осуществлялось при молчаливом согласии внимательно следившей за происходящим судебной власти, которая также состояла из людей шляхетского происхождения.
28 сентября 1839 г. Бибиков, принимая во внимание всю серьезность ситуации, подготовил «Проект предложения уездным предводителям дворянства» и поручил гражданским губернаторам трех губерний распространить его среди заинтересованных лиц. В этом проекте высший представитель царской власти говорит о гнетущем впечатлении, которое на него произвели полученные донесения, и призывал предводителей шляхты проявить здравый смысл, ссылаясь на моральные принципы и благо крепостных. Подобный текст был распространен и среди исправников, уездных полицейских начальников, с призывом следить за порядком485. Разоблачая злоупотребления, Бибиков одним выстрелом убивал двух зайцев: с одной стороны, закладывал фундамент для верховенства центральной российской власти над судебными органами, действовавшими на Украине, а с другой – подрывал среди поляков доверие к возможным сторонникам «друга народа» Ш. Конарского. После ликвидации «заговора» царские власти превратились в единственного защитника крепостных.
Как облегчить крестьянскую долю?
Пополняя свое досье, генерал-губернатор 28 ноября 1839 г. просил предоставить данные о количестве крепостных, сосланных помещиками в Сибирь за предыдущий год. Однако в этот раз результаты не оправдали его ожиданий. Сведения поступили лишь от трех шляхтичей из Подольской губернии – Седроцкого, Ижицкого и Сулатицкого и двух русских помещиков из Киевской губернии (Ф. Уварова и М. Протопопова). Однако это не помешало губернскому прокурору предложить в письме к Бибикову от 4 декабря 1839 г. лишить польскую шляхту права ссылки крестьян в Сибирь. «Многие, – писал прокурор, – без сомнения питают мщение к крестьянам своим», часто выдававшим их властям во время Ноябрьского восстания. Он подчеркивал, что помещики держат зло на крестьян и за то, что те осмеливаются подавать жалобы царским властям. И хотя в 1826 г. предводителям дворянства предлагалось вести тайное наблюдение и противодействовать высылке крепостных, прокурор не питал к ним доверия, поскольку они, «принадлежа сами к сословию помещиков, едва ли могут быть всегда бесстрастными в сем отношении». Он предлагал отменить статью 601 т. IX и статьи 319, 320, 321 т. XIV Свода законов, где предоставлялось это право землевладельцам, а надзор за крестьянами – полностью передать в ведение государственной полиции486.
Через полгода, 2 июля 1840 г., Бибиков обратился к представителям шляхты по крестьянскому вопросу в более торжественной форме, выслав с подтверждением о получении уездным предводителям циркуляр, напечатанный на трех больших листах. Он отмечал, что в трех порученных ему губерниях крестьяне подвергаются слишком большой эксплуатации и притеснению, а также винил за пренебрежение своими обязанностями тех владельцев, которые передавали всю власть управляющим. В следующей главе мы убедимся в том, что злоупотребления части помещиков станут основанием для безжалостной борьбы с огромной группой безземельной шляхты и для проведения широкомасштабной акции по пересмотру ее статуса, которая приведет к ее деклассированию. Пока же отметим, что генерал-губернатор затеял беспроигрышную игру и, опираясь на соответствующие судебные документы, мог утверждать, что экономы вышли «из низшего класса людей, не образованные и нимало не понимающие возлагаемой на них обязанности». Эти люди, подчеркивал Бибиков, избирались на основании шляхетской солидарности и были привязаны к своим хозяевам долговыми обязательствами. Все их мысли были направлены лишь на то, как забрать у крестьян последнее, и с этой целью они шли на неслыханные меры, заковывали крепостных в кандалы, брили наголо и т.п. Далее он затрагивал один из наиболее возмутительных моментов в отношениях между крепостными и помещиками – огромное количество самоубийств. Бибиков подчеркивал, что их процент выше, чем в остальной части Российской империи. Страх перед наказанием был настолько велик, что несчастные решались умереть, чтобы избежать издевательств помещиков. За два года и пять месяцев пребывания на должности генерал-губернатора Бибиков зарегистрировал свыше 500 случаев крестьянских самоубийств. Документ заканчивался напоминанием о распоряжении от 6 сентября 1826 г., согласно которому предводителей дворянства обязывали своей властью предотвращать преследования помещиками крепостных, а также информировать об имевших место злоупотреблениях487.
Ответы предводителей шляхты на это развернутое письмо были достаточно лаконичны. Они подтверждали его получение и обещали действовать в соответствии с законом. Часть указывала на то, что в этом направлении уже приняты некие меры. Два уездных предводителя позволили себе высказать замечания, крайне характерные для миропонимания польских помещиков того времени.
Предводитель дворянства Овруцкого уезда считал, что ослабление дисциплины сложно было бы осуществить на практике, поскольку крестьяне отличаются особой ленью и нерадивостью. Кроме того, добавлял он, не следует верить всем жалобам. Реакция Бибикова была жесткой – умело используя имеющиеся аргументы, он указал на необходимость подчиниться данному распоряжению: «Ибо по долгу звания вашего и лежащей обязанности стремиться к пользам предводительствуемых вами дворян, невозможно вам не знать в подробности положения, быта, образа жизни и поступков владельцев…»488
Ответ предводителя Винницкого уездного дворянства В. Здзеховского, в свою очередь, дает представление об особенностях шляхетского сознания и умении с легкостью находить готовые объяснения, когда речь идет о крестьянских бедах. Причиной самоубийства крепостных, по его мнению, чаще всего было чрезмерное пьянство, а не крайняя жестокость господ. Подобным образом обстояли дела и с кражами. Предводитель выражал сожаление, что из-за подобных случаев помещики попадают под подозрение правительства, и приводил контраргумент, который повторялся шляхтой на протяжении не только XVIII, но и XIX в.: в действительности, пишет В. Здзеховский, виной всему евреи, травящие крестьян водкой. Именно из-за них не удается улучшить положение крепостных. Доведенные евреями до крайней черты бедности, крестьяне совершают самоубийства. Те же из крестьян, кто действительно совершил преступление, на подобные меры не идут, а бегут в бессарабские и херсонские степи, не думая о возвращении. Избавление от евреев, писал Здзеховский, приведет к тому, что крестьяне станут здоровее; пока же таких, судя по рекрутским наборам, найти все сложнее. В том, что касалось злоупотреблений экономов, предводитель, напротив, отмечал лишь их моральные добродетели и чувство приязни к простому люду…
Бибиков был вынужден признать, что из 500 самоубийств за два года «лишь» 50 были следствием жестокости помещиков. Он не согласился с тем, что остальные случаи были вызваны пьянством. В то же время и он не видел корня проблемы, а именно того, что крестьяне доведены до крайней бедности и отчаяния489.
Поскольку было невозможно добиться немедленного изменения в отношениях помещиков к крепостным, генерал-губернатор хотел, по крайней мере, очистить от польских управляющих конфискованные имения, перешедшие под казенное управление. К тому времени в трех украинских губерниях насчитывалось 464 казенных имения, из которых 404 арендовали поляки, на которых, по мнению Бибикова, нельзя было положиться, а потому насущной задачей было полное устранение их с должностей. О необходимости проведения подобной чистки уже говорилось в 1839 г. В данном случае в списке из 12 антипольских мер, представленных в Комитет западных губерний и рассмотренных на заседаниях 3, 20 и 28 апреля 1840 г., это предложение было внесено под 11-м пунктом.
Интересно, что даже заядлые сторонники русификации в Комитете колебались по поводу идеи устранения польских арендаторов, управляющих и экономов и признали эту задачу невыполнимой. Граф П.Д. Киселев, министр государственных имуществ, несомненно, с радостью отправил бы на украинские земли русских или прибалтийских экономов, которые «по нравственным своим качествам предоставляют ручательство в несомненной их преданности правительству», но где было их взять? И высшему лицу в Министерстве государственных имуществ пришлось сделать признание, в корне противоречащее общим обвинениям киевского губернатора, а именно что лишь поляки имеют опыт управления этими имениями и в этом деле они незаменимы. Петербургские власти, таким образом, смягчили занятую киевскими властями позицию и восстановили мнимое равновесие. Оказалось, что, несмотря на проявление очевидной жестокости к крепостным, большая часть поляков знает свое дело. Кроме того, Киселев отмечал, что «поспешность в сих мерах, единственно с целью быстрого преобразования края, в видах исключительно политических, может иметь совершенно противные последствия». Он считал ошибочным ради отдаленных целей назначать управляющими русских, незнакомых со спецификой этой работы, поскольку это могло бы привести к ухудшению положения крепостных и нарушению экономического развития этих земель, напрямую зависящего от умелого управления.
Комиссия признала польские методы ведения хозяйства единственно способными обеспечить рентабельность конфискованных имений в сложившейся ситуации, подтвердила существующее положение дел, однако в то же время среди первоочередных задач назвала обеспечение благосостояния крестьянства490.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать рвение Бибикова. 12 августа 1841 г. Комитет рассмотрел его подробный отчет, в котором он еще раз изложил обвинения против польских экономов, которых, по его мнению, ничто не объединяло с крестьянами: ни религия, ни язык, ни верность трону и родине. Зная, что подобные рапорты сначала читает Николай I, крайне чувствительный к такого рода аргументам, Бибиков добавил, что в ряде случаев крепостные, выдававшие повстанцев в 1831 г., после конфискации имений были переданы в управление женам и родственникам последних. «Как это быть могло?» – пометил царь на полях рапорта. Киселев был вынужден долго объяснять, что, согласно законам, подобных ситуаций избежать невозможно, но в 1840 г. палаты государственных имуществ получили тайную инструкцию о замене по мере инвентаризации государственных имений польских управляющих русскими или прибалтийскими немцами, а в случае их отсутствия – поляками, служившими в царской армии, на которых можно было бы положиться. Киселев также обратился к губернаторам с просьбой подать списки возможных кандидатов на эти должности из числа русских, а к рижскому генерал-губернатору – с просьбой опубликовать в газетах перечень имений, где нужны новые управляющие. Оказалось, продолжал министр (и это пришлось признать даже Бибикову), что в трех украинских губерниях «вовсе нет лиц, коих он признавал бы достойными к занятию администраторских мест».
Тем не менее киевский генерал-губернатор, пользовавшийся поддержкой царя, смог одержать верх над министром. Киселеву пришлось вернуться к первоначально отвергнутому им плану действий. Стремясь доказать свое повиновение, он сообщал, что в прессе уже объявлен список казенных имений и уже появилось несколько желающих. При повторной публикации количество русских, желающих стать управляющими, должно было, по его мнению, возрасти. С целью скорейшего изгнания поляков он предлагал отдавать имения русским «в безотчетную администрацию». Киселев также получил от Комитета одобрение проекта о предоставлении новым управляющим после двенадцатилетней службы 30 % прибыли, а не 12 %, как это было в прибалтийских землях. Кроме того, по его мнению, особую привлекательность эти должности могли получить после принятия закона, позволяющего арендаторам участвовать в дворянских собраниях491.
Вырвать крестьян из-под польского влияния
Основной проблемой в изучаемый период продолжала оставаться судьба помещичьих крепостных. Все эти годы, вплоть до 1848 г., Бибиков пытался добиться ограничения полномочий помещиков, что нашло выражение также в известном проекте «Инвентарных правил».
Эта грандиозная идея по сути своей была антипольской; поскольку в других частях империи вопрос о крепостничестве, поднимавшийся многими русскими писателями от А.Н. Радищева до А.И. Герцена, никогда не ставился. Здесь же, напротив, с появлением все большего количества данных об очередных злоупотреблениях помещиков идея контроля над ними становилась все более настоятельной.
Возмущение царских властей вызывали уже не только телесные издевательства, убийства, самоубийства, но и побеги крестьян. В октябре 1842 г. уездный предводитель дворянства Киевской губернии получил от гражданского губернатора еще одно напоминание о распоряжении 1826 г., а также очередной призыв начать борьбу с недостойным отношением к крепостным, которое, как говорилось в документе, приводит к частым побегам крестьян в соседнюю еще малозаселенную Новороссию. Обеспокоенный побегами, министр внутренних дел просил сообщить о предпринимаемых в этой связи мерах. В очередной раз ответственным представителям шляхты сообщалось, что «согласно возложенной на Вас обязанности, Высочайшего рескрипта и существующих узаконений, всем внушать человеколюбивое обращение с крестьянами и должное снисхождение ко всем их нуждам»492.
Это подозрительное проявление любви высоких царских чиновников к украинскому люду зачастую ограничивало или даже парализовало продажность низших чиновников. События, происходившие с июля по сентябрь 1845 г. в селе Бузова Киевского уезда в имении помещицы Цивинской, дают возможность увидеть эту проблему в более широком контексте, а также понять трудности, возникавшие при урегулировании крестьянского вопроса.
Подкупленная землевладельцами царская полиция не ограничивала помещичьего произвола. Хотя документы не дают прямого ответа, но нетрудно догадаться, на чьей стороне оказался исправник, когда в селе Бузова начались волнения. Следует подчеркнуть, что подобные случаи дают возможность понять, что, какими бы ни были планы гражданского губернатора и какой бы ни была его ненависть к полякам, это не означало, что на местах проводимая им политика реализовывалась.
Узнав, что через губернию вскоре будет проезжать царь, шестнадцать крестьян Цивинской решили подать жалобу. Будучи неграмотными, они обратились с просьбой к Рогальскому, одному из бедных безземельных шляхтичей, который вел скорее крестьянский, чем господский образ жизни. 19 июля 1845 г. он от имени крестьян написал, что Цивинская обманывает их, и они вынуждены выплачивать большую сумму налога, чем предусмотрено государством. Кроме того, она также забирает у них большую часть зерна для производства водки, захватывает лучшие наделы земли, притесняет барщиной, в том числе заставляя работать на винокуренном заводе, и не оставляет крестьянам времени для работы на собственных наделах. Жалоба, конечно же, попала к гражданскому губернатору, который захотел убедиться в достоверности изложенного. С этой целью он обратился к уездному предводителю дворянства Гудим-Левковичу, одному из немногих русских на этом посту (строго говоря, происходившему из казачества Левобережной Украины) и такому же, как и поляки, стороннику крепостного права, а также к исправнику. Эти двое обратились с письмом к православному священнику, которому, очевидно, тоже было щедро заплачено, поскольку он не решился пойти против помещицы. В своем ответе гражданскому губернатору предводитель обвинил во всех грехах крепостных – победа оказалась на стороне сильнейшего.
По сообщению Гудим-Левковича, крестьяне собрались у церкви, заявляя, что царь собирается им даровать свободу, и выступая против своей помещицы. Одна из наиболее взволнованных крестьянок божилась, что получила от царя серебряный крестик и призывала село к бунту, а кроме того, оскорбляла присутствовавших «граждан» и исправника. Кроме того, предводитель сообщал, что «характер крестьян с. Бузовой более как от 30 лет всегда отличался самыми резкими чертами неукротимой страсти к бродяжничеству, буйству и своеволию». Таким образом, с помещицы были сняты все подозрения. Чтобы показать, на чьей стороне сила, предводитель шляхты арестовал и отправил в Киев Рогальского, написавшего прошение к царю, а также потребовал суда над двумя крестьянами. В следующей главе еще будет затронута тема близости положения деклассированного польского шляхтича и украинского крепостного493.
В 1844 – 1845 гг. борьба царских властей за украинские души приобрела особый характер. Приходские школы, содержавшиеся поляками для обучения простолюдинов до 1832 г. (сначала – в традициях Комиссии национального просвещения, затем – под эгидой Виленского университета и под опекой Т. Чацкого), после Ноябрьского восстания были закрыты. Отныне лишь православные священники получили право вести начальное обучение исключительно на русском языке, поскольку царь, как некогда и поляки, украинский язык считал диалектом. По его приказу с августа 1832 г. в шести главных уездных местечках Киевской губернии на средства приказов общественного призрения были открыты начальные школы. Однако до Бибикова доходили слухи о том, что в нескольких крупных имениях велось обучение на польском языке. Существование подобной конкуренции не входило в планы царских властей, стремящихся к культурному доминированию в этом регионе. С 1831 г. русский язык стал обязательным на государственном уровне, несмотря на это, польский продолжал использоваться в частной сфере, в т.ч. в общении с украинскими крестьянами494.
12 сентября 1844 г. канцелярия генерал-губернатора разослала исправникам всех трех губерний циркуляр с пометкой «совершенно секретный» с требованием представить перечень имений, в которых крестьянские дети учатся на польском языке. В большинстве ответов полиции отрицалось проведение обучения на этом языке, хотя и указывалось на существование отдельных кружков, которые организовывали зажиточные помещики отчасти с образовательной целью, поскольку посещавшие их крестьяне прислуживали в костеле или пели в хоре. К примеру, в имении княгини Марцелины Чарторыйской, урожденной Радзивилл, ксендз из-под Ровно вместе с органистом преподавал азбуку и катехизис восьми детям в возрасте от 7 до 15 лет, причем не только крестьянским. В имении графа Плятера того же уезда имелась музыкальная школа, где дети разучивали польские песни. В имении Ожешко Ковельского уезда 11 детей, в том числе, как подчеркивалось царскими чиновниками, 9 православных учились петь. У графа С. Холоневского в Литинском уезде проходили занятия по польскому языку, музыке и счету. У князя Лямберта Понятовского в Киевском уезде шестеро детей учились польскому и русскому языкам, а также счету и ведению реестров. У С. Липецкого 12 подростков от 14 до 18 лет учились играть на разных инструментах и петь на польском языке. Молодецкий из-под Дубно одел учеников школы пения в синюю форму с отворотами, как в российских гимназиях. Нововейский из-под Ровно держал хор, в котором читали и пели на польском языке, а семнадцати уже взрослым певцам (11 православных и 6 католиков) были присвоены итальянские фамилии: Паганини, Тартини, Альбини, Щербини и т.п.
Действительно, положение было скандальным. Бибикова переполняло враждебное отношение к полякам. При этом он не обращал внимания на этнические особенности украинского крестьянства. 28 ноября 1844 г. он потребовал от полиции разъяснений: «для чего в имении… учат мальчиков польскому языку, тогда как крестьяне, будучи совершенно Русскими, не могут иначе объясняться как по-русски и в знании другого языка никакой надобности не имеют…»
В декабре 1844 г. большинство землевладельцев постарались уйти от ответа. Чарторыйская, Плятер и Понятовский путешествовали. Холоневский, поскольку на получении ответа настаивали, заявил, что это вовсе не школа. Липецкий всю вину свалил на органиста, Млодецкий сначала категорически отказывался давать письменные объяснения, а затем заставил какого-то крестьянина ответить по-русски, что все очень хорошо владеют этим языком. Наиболее напряженная ситуация сложилась между генерал-губернатором и помещиками И. Плятером и Л. Понятовским.
Плятер, как сообщал ровенский исправник, отказался подписать документ, составленный на русском языке, заявив, что он его не знает и не может подписать то, чего не понимает. Поэтому он 10 января 1845 г. дал объяснение по-польски, сообщив, что держит детей у себя, как это делал его отец Антоний на протяжении 50 лет, для своего собственного удовольствия, а в том, что касается языков, то ему неинтересно, на каком языке они говорят, и никаким языкам он их не учит. Бибиков ответил 24 марта: «Не полагаю, что Ваше Сиятельство, имея у себя Русских крестьян, не знали сами русского языка и не объяснялись с ними по-русски, не знали закона, который предписывает употребление русского языка в официальных бумагах, чтобы Вы не знали, что делают и чему обучаются Ваши люди в Вашем доме, я признаю ответ Ваш нисколько не соответствующим данному Вам вопросу и Вашим обязанностям как дворянина и помещика, ибо грубость нигде и никогда, особенно в отношениях официальных и между людьми Вашего образования, не была и не должна быть дозволена… При сем прошу Вас воспретить решительно обучать крестьянских мальчиков в Вашем имении чужому для них языку».
Л. Понятовский объяснил, что после приобретения имения в 1823 г. он стал готовить людей для ведения своих учетных книг как по-польски, так и по-русски, а потому и речи быть не может о какой-то школе, а лишь о домашнем обучении. Такое объяснение не удовлетворило Бибикова, и 14 апреля 1845 г. он передал через уездного предводителя дворянства, что Понятовскому не следует у себя дома говорить по-польски: «…обучать крестьянских мальчиков польскому языку не выгодно и не следует, потому что они не имеют в нем никакой надобности. Если они сами нужны для счетного производства дел по имению, то таковое производство может быть делаемо всегда на русском языке… почему и должен он прекратить всякое обучение крестьян польскому языку».
В конечном счете уступили даже самые упрямые, подписав необходимые заявления. 10 марта 1845 г., чтобы шляхта не могла в своих аргументах апеллировать к религии, генерал-губернатор выслал полиции трех губерний распоряжение, в котором заявлялось, что «обучать крестьянских мальчиков польскому языку, хотя бы они были и латинского исповедания, нет никакой надобности». Это был достаточно ощутимый удар по языковой связи, существовавшей между польской шляхтой и 579 тысячами крестьян-католиков. По мнению Бибикова, польский язык был не нужен в католической церкви, поскольку служба велась на латыни. До самой смерти Николая I, этого жандарма Европы, запуганные поляки уже не пытались обучать крестьян польскому языку. Новые попытки в этом направлении будут предприняты около 1860 г., а затем в 1905 – 1907 гг.
«Инвентарные правила» и их применение
При таких обстоятельствах было произведено первое ограничение крепостного права в Российской империи. Эта реформа, безусловно, была бы проведена раньше, если бы не возникли трудности с определением «справедливой» нормы барщины, а также если бы составление нескончаемых «инвентарей» на землю, ограничивающих возможность злоупотреблений, было проведено в более сжатые сроки. Уже 16 июля 1840 г. после отчета министра внутренних дел А.Г. Строганова Комитет западных губерний, «изыскивая способы к ограждению крестьян в Западном Крае от излишних поборов помещиков, признавал весьма полезным введение в помещичьих имениях вообще обязательных инвентарей…». Строганов указывал на то, что это потребует времени, и предлагал начать с нескольких имений, которые будут переданы под опеку государства в связи с плохим отношением к крестьянам. Строганов намеревался распространить эту практику также на Могилевскую и Витебскую губернии (территория, на которой они были образованы, была до 1772 г. польской). Николай I, по мнению которого инвентаризация должна была носить общий характер, написал на рапорте: «Ежели из сего будет некоторое стеснение прав помещиков, то оно касается прямо блага их крепостных людей и не должно отнюдь останавливать благой цели правительства». Император счел нужным приступить к делу уже 1 сентября того же 1840 г., но чиновники обратили внимание на необходимость разработки модели, образцом для которой должны были стать государственные имения, т.к. последняя кадастровая ревизия проводилась в 1798 г., а текущая еще не была завершена495.
Проект об урегулировании отношений между помещиками и крепостными, представленный 1 апреля 1844 г. Министерством внутренних дел, стал для Комитета во многом сенсационным496. Наряду с общим мнением о том, что землевладельцы должны отчитываться о своих действиях перед правительством, проект предусматривал предоставление больших земельных участков крестьянам: это могли быть пустующие угодья помещика или даже его собственная земля.
Подобное проявление либерализма было с удивлением воспринято П.Д. Киселевым, видевшим в этом – и вполне закономерно – «совершенный переворот в хозяйстве всего края». Комитет западных губерний утверждал, что речь идет лишь об установлении нормы барщины, с этой целью в каждой губернии было решено создать Комиссию по инспекции и инвентаризации частных имений в западных губерниях. В ее состав должны были входить гражданский губернатор (председатель), губернские предводители дворянства, прокурор и три землевладельца, зарекомендовавшие себя как хорошие хозяева в собственных имениях, которых должны были избрать на дворянском собрании, чтобы не вызвать подозрения в возможном принуждении. Конечно, состав Комиссии должен был утверждать генерал-губернатор, а все расходы на ее деятельность возлагались на дворянские собрания. 15 апреля царь утвердил эти предложения, установив шестимесячный срок для реализации этого замысла497.
Бибиков ждал этого момента почти десять лет. Не откладывая этого дела в долгий ящик, он сразу принялся за создание комиссий в трех подопечных губерниях, и уже 26 мая 1847 г. царь подписал указ о начале инвентаризации на Украине. Ф.Я. Миркович, который занимал такую же должность на прежних польских землях Белоруссии и Литвы (Виленское генерал-губернаторство), долго колебался, прежде чем приступил к делу, но киевский генерал-губернатор пожелал встать во главе борьбы с поляками498. Поскольку доверия к предводителям дворянства в проведении инвентаризации не было, он приказал исправникам подать тайные полицейские отчеты по каждой губернии, которые должны были передаваться при посредничестве губернской полиции в специальный комитет Министерства внутренних дел.
В чем же была суть «Инвентарных правил», малоизвестных западным историкам, как правило, считающим, что реформа 1861 г. была единственным актом правительства, направленным на смену положения крестьян в империи?499 Без сомнения, «гуманитарные» мероприятия в отношении украинских крепостных принесли определенную пользу. Собственно, «Инвентарные правила» очерчивали пределы возможного для царских властей либерализма, но в то же время сигнализировали о неизбежности отмены крепостного права во всей империи, потому что при всей своей умеренности эти уступки не могли не отозваться слухами в других губерниях Российской империи.
Главная идея документа, состоявшего из 65 статей, заключалась в определении нормы барщинной повинности, в том, чтобы раз и навсегда определить рамки отношений между крепостными и помещиками, детально зафиксировав принципы жизнедеятельности патерналистского общества. Все польские помещики получили напечатанный экземпляр данного закона. Крепостное право определялось в нем в качестве обычного контракта между помещиком и крепостными, согласно которому «вся земля, находящаяся ныне в пользовании крестьян и подробно означенная в инвентаре, должна, как мирская, оставаться у них без всякого изменения», за пользование ею крестьяне бесплатно отбывали повинности. Таким образом, на этих землях внедрялось неизвестное как полякам, так и украинцам понятие общины – мира. При согласии общины помещик имел право увеличить или уменьшить крестьянский надел. Численность сельского населения влияла на размер надела, однако в любом случае он должен был соответствовать возможности его обработки силами крепостной семьи. Крепостные подразделялись на четыре категории: тяглые, владевшие одной воловьей упряжкой, полутяглые, владевшие упряжкой на двоих, огородники и бобыли – батраки. Барщину отрабатывало «тяглое семейство – по три дня тяглых с упряжью и по одному дню женских; полутяглое – по два дня пеших и по одному дню женских».
Пригодными для работы, за исключением калек, считались мужчины в возрасте от 17 до 55 и женщины – от 16 до 50 лет. Для отработки барщины с упряжью нужно было иметь пару рабочего скота и необходимый инвентарь, на пешую барщину также следовало являться со своим инвентарем. Если в крестьянской семье была всего одна женщина, она освобождалась от барщины.
Крестьяне, которые хотели бы иметь больший участок земли, должны были договориться с помещиком об отработке большей барщины, при этом помещик не имел права делить семью между двумя хозяйствами. Это правило действовало и тогда, когда помещик, который единолично распоряжался крестьянами, хотел их переселить: он должен был переселять крестьян целыми семьями. Вся предоставленная крестьянину земля должна была составлять единое целое, внесенное в инвентарь. В случае смерти крепостного его надел мог быть передан, но дом и огород оставались за женой и детьми.
Землевладелец обязывался в письменной форме сообщать уездному предводителю дворянства обо всех изменениях в установленном порядке, которые были бы согласованы с крестьянами и не противоречили действующему праву. Изменения допускались лишь в исключительных случаях и не должны были приводить к деградации социального статуса крестьян. Постоянный контроль возлагался одновременно на предводителя дворянства и исправника.
Обширное и подробное описание работ в поле, лесу или в помещичьей усадьбе исключало в теории какие-либо случайности. Барщину нельзя было переносить с одной недели на другую, запрещалось работать по праздникам. Интересной представляется идея оплаты, в случае если помещик решал, что барщинных дней недостаточно: за дополнительные рабочие дни (не больше двух в неделю) следовало платить от 7,5 до 15 копеек серебром в день в зависимости от характера работы. Однако, кроме того, крестьяне каждое лето должны были отработать бесплатно еще двенадцать дней.
Заключительные пункты «Инвентарных правил» посвящены наказанию крепостных. Право владельца наказывать крепостных принималось как данность. Телесные наказания отдельно не оговаривались, т.е. допускались как само собой разумеющееся. Однако при этом помещик имел «право» привлечь виновного к ответственности лишь в случае «грубого» поведения в отношении его самого и его представителей, а также отказа отработки барщины. Для записи же всех нарушений вводился реестр штрафов.
Таким образом, Российское государство вводило хоть и небольшие, но достаточно существенные ограничения на бесконтрольную до этого времени власть польских землевладельцев над украинскими крепостными500. К сожалению, время принятия и приведения в действие данного закона не способствовало его спокойной реализации. Дело было не столько в том, что польская шляхта пыталась всеми силами подкупить продажное окружение Бибикова, чтобы избежать предписанных ограничений, противоречащих устоявшимся обычаям501, сколько в обострении революционной ситуации в Европе, которая начинала оказывать влияние и на эти губернии, все еще далекие от ассимиляции царской империей. Правительство заколебалось – облегчить ли судьбу украинского крестьянина или обратиться к репрессиям против украинского народа. Появилась действительная опасность социального взрыва, который впервые приобрел форму украинского национализма.
Опасность украинского национального движения была связана, как нам предстоит убедиться, с тем, что в русские школы на должности учителей в первый раз пришла часть интеллигенции – выходцы из духовенства и купечества. В 1844 г. в Киев приехал Н.И. Костомаров, который до этого времени служил учителем истории новой Ровенской гимназии в Волынской губернии. Такую же должность занимал в Луцкой гимназии П.А. Кулиш. Каждый из них стремился разбудить в своих учениках украинское национальное сознание.
В том же году, когда были приняты «Инвентарные правила», царская полиция разгромила в Киеве Кирилло-Мефодиевское братство, в которое входили студенты университета и молодые интеллектуалы, такие как, например, Тарас Шевченко, ставший известным после публикации в 1840 г. сборника стихов на украинском языке «Кобзарь» и считающийся основоположником национального возрождения украинцев. После окончания в Петербурге Академии художеств, он вместе с несколькими товарищами (Н.И. Гулаком, Н.И. Костомаровым) вернулся, чтобы создать упомянутое общество, которое достаточно наивно провозгласило идею всеславянской федерации. Основным программным документом общества стал «Закон Божий, или Книги бытия украинского народа», написанный под влиянием «Книг польского народа и польского пилигримства» Адама Мицкевича, изданных в Париже в 1832 г. Члены братства по-разному смотрели на будущее своего края – одни связывали его с Россией (как раз в 1846 г. в Москве была издана «История русов», основополагающая книга, создавшая отдельное украинское историографическое течение), другие мечтали о создании республики, но всех их вскоре ждал арест. Шевченко забрали в солдаты, из армии он вернулся лишь в 1860 г., а через год его уже не стало.
Несмотря на кратковременное существование, Кирилло-Мефодиевскому братству удалось оказать определенное влияние на крестьянство. С крестьянами работали и связанные со Славянским комитетом в Праге (повлиявшим, как известно, на начало «Весны народов») польские пропагандисты, прибывшие из австрийской Галиции. Николая I беспокоила эта волна, угрожавшая патерналистской гармонии – модели, которую ему только удалось создать в форме «Инвентарных правил».
Начиная с марта 1848 г. царь в связи с событиями в Париже и Вене еженедельно лично просматривал полицейские доклады о политической ситуации в неблагонадежных западных губерниях, которые находились, как тогда говорилось, под пагубным влиянием «польской интриги». В целом в докладах не было упоминаний о каких-то беспорядках, однако полиция сигнализировала об отдельных тревожных фактах, связанных с крестьянским вопросом502.
Подольский гражданский губернатор сообщал из Каменца о перехваченной на таможне брошюре, написанной «малороссийским наречием» и напечатанной кириллицей во Львове, которая призывала к введению польского языка в школах и судах, к назначению на должности людей местного и нерусского происхождения, к освобождению политических заключенных, созданию национальной польской армии с офицерами из Галиции и к отмене крепостничества. 13 июня в Летичевском костеле были расклеены воззвания Славянского комитета на польском и русском языках. Это сделали замеченные утром киевские студенты Станислав Беньковский и Людвик Чайковский. 20 июня в Каменце были найдены стихи на русском и польском языках с призывами к восстанию.
Крестьяне путали эти воззвания с провозглашенными «Инвентарными правилами», и это часто приводило к волнениям. Например, волынский губернатор сообщает, что в 37 имениях новость об инвентарях вызвала беспорядки, которые пришлось подавлять оружием503. Поэтому документ, направленный на «защиту мужиков», не выполнил намеченных его авторами целей: царская власть, опасаясь крупных социальных волнений, вновь была вынуждена обратиться к тем же помещикам, от которых хотела отделить крестьян. Когда речь шла об отдельных преследованиях крестьян, российские власти были на их стороне, однако они незамедлительно принимали сторону польских помещиков, как только видели признаки пробуждения социального сознания украинского крестьянства.
Приведем несколько примеров той поспешности, с которой было решено обновить российско-польский союз в условиях возникновения серьезной угрозы социальному строю. 6 июня 1848 г. ольгопольский предводитель дворянства Стажинский попросил Бибикова прислать подмогу против крестьян своего уезда. Генерал-губернатор исполнил просьбу уже 10 июня. Как после многолетней борьбы с польскими землевладельцами дело могло дойти до столь парадоксальной ситуации?
Приведенные Стажинским факты хорошо характеризовали нависшую угрозу. Речь шла вновь, как и в 1832 г., о крестьянах в имениях Собанского, где положение дел осложнила смерть владельца. Крепостные, воспользовавшись этим, отказались от исполнения барщины. Свыше трех тысяч крестьян отказывались верить в то, что инвентари сохраняют барщину, и выказали в церкви неуважение к священнику, обвинив в укрывательстве «настоящего» закона. Предводитель дворянства просил прислать военную силу. Из его письма к генерал-губернатору видно, что поляки были напуганы начавшимися волнениями не меньше русских. Крестьянам было достаточно проявить неповиновение, как польские помещики поспешили искать защиты под российским крылом: «Его Величеству благоугодно, чтобы при малейшем нарушении повиновения крестьян обращено было на то строгое внимание и принимались без упущения необходимые меры. По моему мнению, меры эти должны быть если не крутая жестокость, то не менее того радикальные, в состоянии доказать силу [подчеркнуто в оригинале. – Д.Б.] власти и поселить в умах простолюдинов страх… Меры эти я нахожу единственно в том, чтобы мне дозволено было, разумеется в случае нужды, пригласить военную команду и в ее присутствии, под ее прикрытием увещать крестьян и виновных или зачинщиков наказывать»504.
Когда троны европейских монархов зашатались, даже антагонистические силы объединились против крестьян.
12 июня 1848 г. предводитель дворянства Литинского уезда сообщил Бибикову о новом подобном происшествии. Теперь речь шла о крепостных землевладельца Юстина Корнеловского, которые «отказываются от барщины, но ещё на всяком шагу оказывают грубость, дерзость и упрямство». Благодаря присутствию исправника ему удалось противостоять толпе, которая по-своему понимала суть инвентарных правил, и навести порядок при помощи зуботычин зачинщикам, которых было приказано схватить и при всем народе высечь505.
В этот страшный для землевладельцев год генерал-губернатор был вынужден отложить реформу, смирившись с фактами, которым в другое время нашел бы иное применение. Столкнувшись, к примеру, в феврале 1848 г. в отчете сквирского исправника с таким же отказом от барщины крестьян землевладельца Теодора Рыльского в Сквирском уезде, он в октябре дал согласие на освобождение эконома Глинского, посаженного в тюрьму по обвинению в неоднократных издевательствах над крепостными. Глинский был уже ранее известен тем, что принуждал крестьян к непосильному труду и предлагал сослать в Сибирь 26 человек. Несмотря на это, он был оправдан, т.к. были услышаны его жалобы на то, что он – человек бедный, не может должным образом питаться в тюрьме, а потому ослаблен!506
Горькое завершение царствования Николая I
Вряд ли можно утверждать, что введение «Инвентарных правил» дало позитивные результаты. Конечно, когда рассеялся призрак мятежного 1848 года, царские власти вновь вернулись к прежнему намерению проявить заботу о крестьянах, однако это приносило плоды лишь в исключительных случаях, в целом же жестокой эксплуатации крепостных был положен предел лишь в результате реформ Александра II. Август Иванский, человек либеральных взглядов, писал с сожалением: «Унизительным для нас было также то, что даже киевский сатрап Бибиков должен был ограничивать и нормировать барщину, исполнения которой требовали землевладельцы, и ограничить иные их злоупотребления, издав в 1848 г. обязательные для обеих сторон так называемые Инвентари. С грустью следует признать, что описанные Шайнохой отношения, господствовавшие между шляхтой и крестьянами в руських землях в середине XVII в., никоим образом не претерпели изменений к лучшему на протяжении последующих двух веков»507.
Архивные материалы говорят о том, что все-таки благодаря «Инвентарным правилам» положение крестьян кое-где удавалось улучшить. К примеру, 30 декабря 1850 г. князь Радзивилл дал согласие отстранить своего арендатора Франковского в связи с недоразумениями, возникшими между ним и крестьянами Сквирского уезда во главе с неким Косяньчуком. Жалоба уездного предводителя дворянства на крепостных не была принята, полиция же установила, что арендатор принуждал крестьян платить значительно больше налогов, чем сам отдавал в казну (в целом 1460 серебряных рублей вместо 960)508. В августе 1850 г. исправник Таращанского уезда получил жалобу крестьян на помещика А. Бекерского: тот, пренебрегая инвентарем, требовал выполнения крайне завышенной дневной нормы во время жатвы, заставлял женщин нести тяжелую барщину через две-три недели после родов, приказывал «наверстывать» праздничные дни. 14 мая 1851 г. уездный предводитель дворянства выслал Бекерскому на подпись обязательство придерживаться «Инвентарных правил» на официальном бланке Министерства внутренних дел509. В свою очередь, в ответ на жалобу исправника из Липовца от 15 сентября 1850 г. на графа Юлиуша Красицкого, выделившего крайне мало земли в крестьянское пользование и принуждавшего крепостных к непосильному труду, Киевская комиссия инвентаризации рекомендовала провести передел земли510.
Однако в целом положение украинского крестьянства в конце правления Николая I не претерпело значительных изменений. Сложно было осуществлять контроль за злоупотреблениями, которые за несколько столетий уже вошли в правило на этих обширных землях, где всегда могли найтись предводители дворянства, готовые поддержать равного себе и нечистого на руку помещика. Нормой, например, в Сквирском уезде считалось наказание в 15 розог за отказ отрабатывать барщину511. В другом случае ограничились лишь регистрацией жалобы молодой крестьянки, которую помещик Юркевич послал на бесплатную работу к своему эконому Табенскому. Девушка вернулась домой и спряталась. Тогда крестьянина заставили отправить на работу вторую дочь и высекли за то, что спрятал первую дочь. Была ли столь вялая реакция на злоупотребления в отношении крестьян следствием бюрократического бессилия или тихого сговора?
Лишь злая воля графини Ганской смогла заставить Бальзака во время путешествия в Верховню в 1847 г. поверить, что «крестьянин при нынешнем порядке вещей живет беззаботно, как у Христа за пазухой. Его кормят, ему платят, так что рабство для него из зла превращается в источник счастья и покоя». Как известно, Бальзак, сторонник царского абсолютизма, не был тем человеком, у которого можно найти хотя бы крупицу сочувствия к крепостным. Его муза убедила его в том, что не стоит верить тем, которым никто из помещиков не собирался даровать свободу, и он старательно, словно затверженный урок, повторил: «Характер здешних крестьян исчерпывается двумя словами: варварское невежество; эти люди ловки и хитры, но потребуются столетия, чтобы их просветить. Разговоры о свободе они, точь-в-точь как негры, понимают в том смысле, что им больше не придется работать. Освобождение привело бы в расстройство всю империю, зиждущуюся на послушании. И правительство, и помещики – все, кто видят, как мало толку от работы на барщине, – охотно перешли бы от нынешнего порядка к наемному труду; однако на пути у них встало бы огромное препятствие – крестьянское пьянство. Нынче крестьянин зарабатывает деньги лишь ради того, чтобы купить себе водки. Торговля водкой составляет один из главных источников дохода для помещиков, которые, продавая ее крестьянам, получают назад все, что те им заплатили. Свободу крестьяне поймут исключительно как возможность напиваться до бесчувствия»512.
В нескольких поместьях, где начала развиваться пищевая промышленность, которой было суждено к концу XIX в. превратиться в источник богатства Украины, произвол принимал еще больший размах, поскольку недостатки еще существовавшего феодального строя сочетались с нищетой зарождавшегося пролетариата. Например, в январе 1849 г. исправник из Староконстантинова сообщал, что в имении покойного помещика Чорбы, наследник которого находился в Варшаве, эконом-иностранец Покарт абсолютно бесчеловечным образом управлял сахарным заводом. Постоянно работавшие крестьяне не получали платы за свой труд, их били, унижали, брили головы и отправляли в солдаты, заставляли работать, пренебрегая требованиями «Инвентарных правил», а женщин и детей принуждали к труду наравне с мужчинами. Лишь после покупки сахарного завода семьей Браницких удалось навести порядок513.
Еще худшей была судьба крестьян, принадлежавших помещикам с психическими отклонениями. 12 апреля 1850 г. исправник Липовецкого уезда обнаружил, что восьмидесятитрехлетний Б. Машевский, которому с 1835 г. было запрещено проживать в своем селе Лопатинцы, вернулся и наложил на крепостных штрафы под угрозой телесных наказаний. Крестьянскую общину взбудоражило известие о гибели двух крепостных, которых, заковав в кандалы, хозяин подвергал пыткам в охраняемом доме. После ареста безумный старик не только не раскаялся, но стал писать протесты, ссылаясь на хорошую репутацию в обществе. Он сообщал гражданскому губернатору, что его арестовали, не позволив даже одеться, между тем как его «безукоризненное» поведение не дает оснований для тюремного заключения. На протяжении всего 1850 г. он продолжал писать Бибикову, в Министерство юстиции, Сенат, выслал 300 рублей серебром киевскому адвокату на ведение дела. Приговор был вынесен лишь 26 мая 1853 г.: безумца оштрафовали на 50 рублей серебром и запретили появляться в собственном имении, которое было передано под опеку дворянского собрания514.
Если бы сам старик не поднял шуму, то, вероятнее всего, он не был бы так наказан, поскольку предводители дворянства почти регулярно посылали генерал-губернатору рапорты, сводившие на нет все обвинения исправников. Скорее всего, с помощью взяток удавалось заглушить возможные угрызения совести у чиновников. По крайней мере, во многих случаях рапорты вообще не рассматривались, а «Инвентарные правила» не соблюдались. 11 апреля 1851 г. сквирский предводитель дворянства объяснял, что представленный исправником рапорт об избыточном наказании крепостного шляхтичем Жураковским – это выдумки, потому что упомянутый крестьянин – лодырь и пьяница, ему дали всего несколько подзатыльников, чтобы успокоить, а его жена получила лишь пять розог…515 В другой раз этот же представитель шляхты объяснял, что крестьянин, которого побили палкой и розгами, сам себя покалечил, т.к. не давал привести в исполнение законное наказание516.
В 1853 г. разразилась Крымская война, во многом определившая новый период напряженности в крестьянском мире. Некоторые из польских историков ошибочно полагают, что крестьянские бунты этого периода были вызваны надеждой на то, что поляки выступят на стороне Англии и Франции517. Подобные иллюзии были у нескольких поляков, о чем еще пойдет речь. Однако достаточно обратиться к свидетельству Бобровского, польского очевидца тех событий, чтобы понять, что и в этот раз, как и ранее, украинское село хотело реализовать свои собственные стремления и мечты. Ходили слухи, что царь разрешил формировать вольные казацкие отряды, и теперь не нужно будет отрабатывать барщину и платить подати. Прослышав об этой вести, крепостные пятнадцати сел Сквирского уезда начали сходиться. Себе на беду среди них появился киевский студент Ю. Розенталь, раздававший листовки с призывом поддержать поляков, которые прогонят русских. Крестьяне поймали студента (впоследствии он был сослан в Сибирь), затем обвинили польских помещиков в укрывательстве тайного царского указа и утопили нескольких из них в прудах. И вновь повторяется знакомый сценарий: обеспокоенные в первую очередь сохранением барщины, а не проблемой независимости, польские помещики обратились к полиции, а когда ее помощь оказалась недостаточной, к армии. В селе Березна при разгоне армией 5000 мужиков около пятнадцати человек было убито518.
Ко времени смерти Николая I в жизни крепостных не было ни единого луча надежды на лучшее будущее: обе противоборствующие силы, как русская, так и польская, были одинаково заинтересованы в сохранении существовавшего status quo. Ю. Крашевский в одном из своих романов, написанном в 1855 г. в Житомире, так изображает безнадежное одиночество крепостного: крупный помещик, говорит крепостной Парфен, «людей не видит и не понимает, вниманием их не удостоит; я сам беседовал с одним деревенским, что три дня уже стоит в воротах, желая пана увидеть и с ним поговорить… И что? Пан его наверняка пошлет к управляющему имением, а управляющий к эконому, на которого тот пришел жаловаться… А эти лакеи хуже панов; сермягу только скинул, а уже из себя ляха строит, и еще пуще пана нос задирает… У нас имение и село – все одно, а тут в замке другой народ, не поговорить, не пожаловаться…»519.
Кому выгоден либерализм?
И все же среди этой беспросветной тьмы блеснул луч надежды – на трон взошел «царь-освободитель» Александр II. Первым проявлением изменения климата стало появление и широкое распространение по всей Российской империи, и соответственно Украине, народнического, морализаторского и литературно-политического движения, которое, конечно же, подняло вопрос об отношении к простонародью. Творчество Крашевского, находившегося под влиянием этого движения, стало очень популярно на Украине, особенно среди киевских студентов. Украинский фольклор и музыку популяризировал один из поэтов, Тимко Падура (1801 – 1871), выпускник польской гимназии в Виннице (сборник песен «Pienia Tomasza Padurry» 1842 г.). С 1857 г. группа молодежи во главе с Владимиром Антоновичем, т.н. хлопоманы, распространяла тексты с призывами к польской шляхте прислушиваться к своей совести, надеть крестьянские рубахи, избавившись от спеси, сломить социальные барьеры и слиться с народом520. Одновременно с этим А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, Д.И. Писарев, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский ставили крестьянский вопрос во главу социальных проблем Российской империи.
В общей эйфории перемен первых лет царствования Александра II поляки Литвы и Белоруссии заявили себя в сфере реформ. Были ли они более открыты и либерально настроены, чем их собратья на Украине? Шляхта трех северо-западных губерний, созданных на захваченных у Речи Посполитой землях, официально выступила с инициативой отмены крепостного права. Ей было невдомек, что ею манипулирует виленский генерал-губернатор. Именно с ее обращения на имя императора в октябре 1857 г. началась большая дискуссия о решении крайне болезненного для всей империи крестьянского вопроса. Консервативный мир польской шляхты Украины, хотел он того или нет, был втянут в это полностью одобряемое новым царем предприятие. В обращении к Александру II от 31 января 1858 г., составленном во время выборов в Подольской губернии, шляхта не скрывала своего ужаса, только и говоря о необходимости сохранения за ней всей земли и привилегий. В более пространном меморандуме на имя министра внутренних дел С.С. Ланского она указывала, что и слышать не желает о предоставлении крестьянам земли, на которой они живут. Поскольку, как писал Ян Сулатыцкий, это приведет к невосполнимой потере, а, кроме того, крестьянские наделы будут затем продаваться «недобрым людям, приносящим зло обществу, евреям». В довершение, проявив крайнюю неосторожность, подольская шляхта передала этот текст для публикации в Краковской газете «Czas», что вызвало возмущение как на страницах самой газеты, так и среди польской общественности Парижа и Лондона. «Czas» резко осудил подольский консерватизм: «Неужели шляхта руських земель из своих многочисленных поездок заграницу привезла для пользы края лишь грязь европейских столиц… узурпировала себе материализм? …в собственных интересах необходимо преобразовать состояние миллионов людей, превратив их чуть ли не из сведенного к предметам существования в сыновей земли, на которой они живут…» – заявлял корреспондент краковской газеты в Познани, подчеркивая антихристианскую позицию подольских «граждан»521. Тем временем 9 марта 1858 г. царь призвал все дворянские собрания русских губерний создать комитеты, которые вскоре приступят к работе.
Т. Бобровский, достаточно либеральный землевладелец Киевской губернии, о котором уже была речь, в «Записках о моей жизни» дает достаточно точное, зачастую даже резкое, описание деятельности дворянских комитетов «для устройства быта крестьян», как их официально именовали, или крестьянских комитетов, как было принято их называть, хотя крестьяне не входили в их состав. Бобровский отмечает, что, хотя комитеты вели серьезнейшую работу, землевладельческая общественность не принимала в них никакого участия, не проявляла ни малейшего к ним интереса. Избранные же 24 июня 1858 г. на дворянских собраниях, из расчета по два человека от уезда, т.е. по 24 представителя от каждой губернии, не проявили, как и можно было ожидать, новаторского энтузиазма. 8 сентября 1858 г. они начали заседания в Киеве, Житомире и Каменец-Подольском, которые с перерывами на светские развлечения длились вплоть до весны 1859 г. Сторонников сохранения существующей системы больше всего было в Подольском комитете522, где верховодили такие магнаты, как Бжозовский и Собанский. Однако в Киевской и Волынской губерниях удалось разработать комплексный проект, согласно которому в зависимости от качества пахотной земли предусматривалось либо переведение крестьян на оброк, либо предоставление им больших земельных наделов523.
Впрочем, то, каким образом в дальнейшем была организована работа над реформой в Петербурге, не дало возможности использовать идеи, предложенные украинскими комитетами. В столицу съехалось по одному представителю от каждого великороссийского комитета, однако три украинские губернии были представлены одной общей делегацией, как, впрочем, и шесть губерний Белоруссии и Литвы, т.е. в целом было создано два общих польских комитета от девяти губерний. Общая комиссия трех украинских губерний заседала с 19 апреля по 26 июля 1859 г. и в результате направила в столицу четырех ультраконсервативных делегатов: Феликса Собанского от Подольской губернии, Феликса Шостаковского от Киевской, Карла Микулича от Волынской и Эдварда Ярошинского в качестве главы делегации, который сразу по приезде сбежал с любовницей.
Известно, какое сопротивление со стороны землевладельцев встретила законотворческая работа в Петербурге в Редакционных комиссиях под руководством министра юстиции В.Н. Панина и под эгидой министра внутренних дел С.С. Ланского. В итоге объявление 19 февраля (3 марта) 1861 г. Манифеста об отмене крепостного права имело весьма эфемерные последствия, поскольку его действительное внедрение в жизнь началось лишь в 1863 г., когда царские власти, признав, что Украина охвачена польским восстанием, предприняли чрезвычайные меры.
1861 год не принес значительных перемен в жизни притесняемых польскими помещиками украинских крестьян. Согласно § 8 Манифеста об отмене крепостного права, в трех юго-западных губерниях (как и в 1847 г.) вводились русские традиции, то есть такие понятия, как «мир» и «волость», а также было закреплено полное преимущество дворянства с помощью создания института мирового посредника, который должен был выступать своеобразным арбитром при рассмотрении конфликтов между крестьянами и помещиками. Назначать посредников должен был в течение первых трех лет губернатор – он выбирал кандидатов из списка, составленного предводителем уездного дворянства после одобрения местного дворянского собрания. Пока уставные грамоты не заменили выкупными актами, польские помещики считали, что продолжают быть единственными опекунами крестьян. Они даже с большим рвением исполняли эту новую функцию, чтобы сохранить свою власть524. В свою очередь, посредники (хотя такое и не предусматривалось законом) стали назначать волостных писарей из польской деклассированной шляхты, частично ассимилировавшейся среди крестьян, в связи с чем Киевский митрополит Арсений жаловался генерал-губернатору. 30 декабря 1861 г. князь И.И. Васильчиков, сменивший Бибикова на посту генерал-губернатора в 1853 г., ответил ему, что функции писаря должны возлагаться исключительно на крестьян525. Вполне понятно, что крестьянство, дезориентированное происходящими переменами, которые к тому же осуществлялись от его имени, но без его участия, вновь начало бунтовать. Весной 1861 г. Юзеф Шембек писал из Устья в Подольской губернии своему тестю Петру Мошинскому о том, с каким трудом ему удалось объяснить крестьянам, в чем заключаются их права. По его мнению, «царский манифест об эмансипации крестьян» был написан нечетко, крестьяне решили, что в нем идет речь об уничтожении барщины, что привело к острым столкновениям, закончившимся экспедицией батальона пехоты и эскадрона кавалерии, блокадой села, арестами «главных зачинщиков, как мужчин, так и женщин», причем наибольшую активность проявили последние, подстрекавшие своих мужей526.
Для того чтобы докопаться до сути польско-украинских отношений и проследить развитие русско-польской борьбы за власть над украинскими душами, важно понять ситуацию, сложившуюся в начальном образовании, которым польская сторона долгое время пренебрегала.
Как уже отмечалось, еще в 1845 г. Бибиков утверждал, что украинцу-католику нет нужды ни молиться, ни читать по-польски. В свою очередь, православная церковь не прилагала усилий к тому, чтобы ликвидировать неграмотность крестьянства. Между тем огромный интерес к люду, как следствие обсуждения вопроса о крестьянской реформе, и, возможно, развитие украинофильства в Петербурге вызвали у священников рвение, подогреваемое как пастырскими, так и русификаторскими планами. Власти стали обеспечивать православным священникам необходимые условия и оказывать различную помощь с целью организации при каждой церкви обучения молитвам на церковнославянском языке, а также чтению и письму на русском языке. Из рапорта канцелярии генерал-губернатора следует, что в восьми уездах Киевской губернии только за период с 1859 по 1869 г. было открыто 548 приходских школ527:
Как правило, в таких школах было от 50 до 70 учеников. Таким образом, можно говорить о значительном прогрессе в развитии народного образования, который становится особенно заметным, если учесть тот факт, что система приходских школ развивалась наряду с государственной системой начального образования – народными училищами.
Польским помещикам, отрицательно относившимся к любым реформам, потребовалось время, чтобы заметить, что подобное движение чревато все большим отрывом от них украинского крестьянства. Они оставались глухи к призывам опередить царские власти, с которыми к ним обращались польские эмигранты в Париже на страницах печатного органа князя А. Чарторыйского «Wiadomoci Polskie»528. Впрочем, благодаря либерализму Александра II польские студенты в Киеве, осмелев, создали «Общество образовательной помощи польскому люду Волыни, Подолья и Украины». Поскольку на Украине «польского люда» практически не было, под ним следовало понимать украинский народ. Согласно уставу «Общество…» должно было организовывать «воскресные школы» для ремесленников и открывать начальные школы. Удалось открыть 43 школы529.
Тогда же на помощь польской шляхте в ее стремлении удержать хотя бы часть украинцев в орбите польского влияния пришла католическая церковь, практически не проявлявшая себя после событий 1830 – 1831 гг. Подобную смелость в действиях католической церкви можно объяснить временным проявлением либерализма, связанным с приходом на должность попечителя Киевского учебного округа гуманиста Н.И. Пирогова, а также с попытками главы гражданской администрации Царства Польского А. Велепольского добиться восстановления политической автономии Царства.
Осенью 1859 г. Александр II приехал на охоту в Белую Церковь к графу Владиславу Браницкому, откуда затем отправился на встречу с подольским дворянством в Каменце. Дворянство воспользовалось случаем и обратилось к императору с петицией (согласно традиции это разрешалось делать во время дворянских шляхетских выборов). Двести землевладельцев рискнули просить, «чтобы дети бедных крестьян католического вероисповедания могли изучать, по крайней мере, азы своей веры»530. 16 января 1860 г. генерал-губернатор И.И. Васильчиков передал просителям ответ Комитета министров, который не может не удивлять: «Отныне римо-католическому духовенству наравне с православным духовенством предоставляются права для проведения обучения основным принципам веры». К каким же серьезным последствиям привело это решение!
Объектом языковой и религиозной борьбы стали 579 тыс. крестьян-католиков и 450 тыс. деклассированных шляхтичей531. Первые католические приходские школы были открыты в Подольской губернии в имениях Александры Потоцкой и Чеслава Ярошинского; однако вскоре они были закрыты полицией, которая еще действовала согласно установленным Бибиковым принципам. В ноябре 1860 г. исправник Гайсинского уезда приказал закрыть пять подобных школ в своем уезде, где училось 39, 18, 10, 7 и 3 ученика. Подольский предводитель дворянства Ф. Собанский оспорил это решение перед Васильчиковым, указав на значительное количество крестьян, нуждавшихся в такого рода обучении532. Васильчиков, сделав вид, что стремится к примирению, обратился к двум епископам католических епархий Юго-Западного края с просьбой следить за тем, чтобы обучение катехизису не превращалось в изучение грамоты533.
Наступает период особенного напряжения: 26 февраля 1861 г. в Варшаве, в Царстве Польском, при разгоне с применением оружия уличных манифестаций дело доходит до человеческих жертв. В связи с этим и в Царстве Польском, и в Западном крае проходили панихиды по павшим, что вызвало крайнее беспокойство царских властей. Эти панихиды, конечно, не являлись угрозой в украинских селах. Крестьяне, как пишет Т. Бобровский, считали, что паны молились по костелам за возвращение барщины!534 Однако епископы были убеждены в том, что если они сократят количество подобных служб, возбуждающих патриотические чувства среди поляков, то тем самым добьются более благосклонного отношения царских властей в школьном вопросе. Такая позиция просматривается в письме от 18 марта 1861 г. Каспера Боровского, луцко-житомирского епископа, И.И. Васильчикову. Он ставил себе в заслугу то, что избежал слишком частых панихид по варшавским жертвам, даже вызвав недоверие паствы, а взамен просил прекратить преследования католиков, перешедших в эту веру из православия, и дозволить возобновление деятельности ранее закрытых приходских школ, упоминая также еще о двух случаях ликвидации школ в Волынской губернии535.
Между тем вся деятельность гражданских властей, в особенности полиции, была направлена на то, чтобы исключить польское влияние на начальное обучение крестьян. 14 апреля 1861 г. начальник волынской полиции откровенно заявил генерал-губернатору, что он придерживается указа от 7 января предыдущего года, объявленного Васильчиковым 16 января 1860 г. Давая ксендзу в Белгороде разрешение учить катехизису и пению, он подчеркивал, что строго будет следить, чтобы «под этим предлогом не была заведена школа и дети не обучались другим предметам». В Киевской губернии полиция следила за действиями ксендза села Макарова в школе, существовавшей на деньги помещиков Росчишевского и Рильского, которые «отличаются [польским] патриотизмом и вольнодумством». В рапорте от 20 июня 1861 г. сообщалось, что занятия проходят в доме приходского священника, поэтому нет возможности проверить, по каким книгам ведется обучение, но известно, что нанятый учитель шляхетского происхождения получает за это 300 рублей от поляков. Дополнительное расследование от 27 февраля 1862 г. показало, что учителю Адольфу Невенгловскому было 24 года, он окончил лицей в Одессе.
Католические приходские школы продолжали действовать, если в них не велось обучение на польском языке. Если же при проверке выявлялись нарушения, их безжалостно закрывали. Подольский гражданский губернатор 3 ноября 1861 г. дал разрешение на деятельность десяти католических приходских школ (среди учеников, количество которых не превышало двадцати, большую половину составляли однодворцы, т.е. деклассированная шляхта), а между тем Васильчиков запретил 26 ноября школу, которую ксендз Хлодковский хотел открыть поблизости Липовца в пометье Колыски, т.к. хотел нанять школьного учителя536.
В декабре 1861 г. министр внутренних дел, похвалив генерал-губернатора за проявленную твердость, в очередной раз подтвердил, что создание новых школ для крестьян следовало ограничить великороссийскими губерниями. Поскольку в Юго-Западном крае православные школы существовали, по его мнению, почти всюду, потребность открывать новые отсутствует, и «во всяком случае вредное влияние на крестьян сельских учителей польского происхождения вполне может быть предотвращено сделанными Вами распоряжениями»537.
Отныне все католические школы и сиротские приюты стали восприниматься властями как центры тайного обучения польскому языку. Над всеми ними нависла угроза закрытия. Цель властей заключалась в том, чтобы не допустить повторной полонизации украинских крестьян, вне зависимости от того, католики они или нет. По сообщению начальника владимирской полиции, одна за другой были закрыты приходские школы в имениях Любомирских, Чацких, Чешковских, Свидерских. Каждое такое закрытие сопровождалось полицейским обыском и арестом учителей538. 6 февраля 1862 г. начальник волынской полиции сообщал самому генерал-губернатору, что посоветовал старшинам и старостам крестьянских общин посылать детей не к панам, а исключительно в православные школы539.
Началась настоящая школьная война – во всех уездах закрывались начальные католические школы. Это была борьба не на жизнь, а на смерть, ведь речь шла не просто о сохранении влияния, а о душах украинских крестьян.
В длинном письме от 8 марта 1862 г. луцко-житомирский епископ внов обращался к Васильчикову, пытаясь доказать, что согласно первому решению Комитета министров вовсе не запрещалось нанимать учителей, т.к. у священников нет времени для преподавания, к тому же это широко распространено в православных школах. «Грустно нам католикам, что наше просвещение подлежит изъятию, как видно из фактов…» – сообщал он, перечисляя все случаи закрытия школ и указывая, в частности, на Бердичев, где «пристав лично приказал детям разойтиться, а стулья и скамьи, на которых сидели, велел сотскому выбросить на двор с тем, что ежели б таковые опять внесены были, дабы он их порубил». Епископ указывал на аресты школьных учителей и органистов и на самоуправство полиции, уничтожавшей найденные польские буквари540.
Двусмысленность ситуации была связана с тем, что католическое духовенство слишком широко интерпретировало текст постановления Комитета министров от 16 января 1860 г., а царские власти, напротив, считали, что детям крестьян-католиков надлежит учиться лишь молитвам и пению на латыни. 10 марта 1862 г. предводитель шляхты Липовецкого уезда выступил с решительным протестом в связи с проведением обучения только в устной форме, но Васильчиков не уступал. 20 марта он даже подтвердил трем гражданским губернаторам незаконность обучения вне стен костела с участием посторонних лиц541. Таким образом, он загодя ответил на высланное через четыре дня письмо Антония Фиалковского, каменецкого епископа, в котором тот, ссылаясь на значительное количество приходов, просил разрешения преподавать катехизис в отдаленных селах. Он доказывал, что ограничение процесса обучения в рамках костела приведет к тому, что большая часть паствы будет оторвана от своего наставника542.
Было бы логичным, если бы украинскому крестьянству дали возможность молиться на родном языке. Скорее всего, царские власти не имели ничего против такой возможности. Это был недолгий период, когда в Петербурге серьезно задумались над возможностью перевода Библии на украинский язык и когда было разрешено издавать в столице русско-украинский журнал «Основа». Правда, одновременно с этим в 1861 г. Главное управление цензуры выступило категорически против уже запрещенных в 1859 г. украинских букварей. В.И. Ламанский и М.Н. Катков, которые сначала поддерживали это движение, затем встали на сторону цензурного ведомства. Они оказали давление на министра внутренних дел П.А. Валуева, который признал, что идея В.И. Назимова о поощрении самобытности литовского и белорусского крестьянства для защиты от полонизации была бы настоящим «манифестом la Garibaldi в честь народностей»543. Обмен аргументами между обеими сторонами, имевшими претензии на гегемонию, показывает, что как большинством поляков, так и большинством русских украинский язык воспринимался лишь как диалект их собственных языков.
Царские власти боялись прежде всего угрозы польского возрождения в этом регионе. Не прошла незамеченной и подготовка к восстанию: в феврале 1862 г. в Киеве была раскрыта подпольная типография Стефана Бобровского. В этой связи понятно раздражение, сквозящее, к примеру, в письме подольского гражданского губернатора из Каменца к Васильчикову от 27 апреля 1862 г., когда он в связи с крестьянским вопросом останавливается также и на языковом: «Хотя эти крестьяне католики по исповеданию, но по происхождению они Русские и как нет ничего общего между национальностью и вероисповеданием, то, по моему мнению, не следовало бы допускать обучение их польской грамоте у ксендзов и было бы справедливо, чтобы ксендзы преподавали им Закон Божий по уставам римско-католической церкви, но на русском языке, который для них более понятен, чем польский».
Этот аргумент пришелся по вкусу генерал-губернатору, который узнал в нем мнение Бибикова, высказанное еще в 1845 г. Уже 11 мая 1862 г. в письме к епископам он отмечает, что священники должны помнить, что имеют дело с крестьянами католического вероисповедания, но русскими по происхождению, которые разговаривают на малороссийском наречии и потому лучше понимают по-русски, чем по-польски. Он также потребовал от епископов предоставить отчеты о том, начато ли обучение на русском языке.
Епископ Фиалковский не поверил своим глазам и 22 мая попытался доказать в ответном письме губернатору, что это невозможно: «Малороссийское наречие, употребляемое в Подольской губернии римско-католическими крестьянами, пропитанное элементом польским вследствие вековых сношений обоих народов, не препятствует к таковому обучению их детей, которые от младенчества крестятся и отправляют молитву Господню языком польским… Следовательно, не можно католиков Малороссов оставить в религиозном невежестве по причине, что они русские по происхождению». К тому же, добавлял епископ, ксендзы не мешают им в изучении русского языка и даже оказывают посильную помощь544.
Однако гражданский губернатор в Каменец-Подольском, который, похоже, пользовался особым расположением у Васильчикова (ему была выслана копия ответа Фиалковского), продолжал доказывать свою правоту. Он заявлял, что вовсе не понимает выводов каменецкого епископа, поскольку все католики России (лицемерно писал он, не вспоминая об имевших место гонениях), как итальянцы, французы, литовцы, армяне, могут молиться на родном языке. «Почему же русский католик в России в такой зависимости от польских ксендзов, в таком угнетении, что не смеет молиться на своем языке? Что его даже не учат другой молитве, как польской… что с малолетства ему стараются внушить убеждения, что он не принадлежит к общей русской семье, хотя бы и не православный, а католик? По моему мнению, это чистый произвол со стороны польских ксендзов, стремящихся к распространению и усилению в этом крае польского элемента, в ущерб коренному русскому». В конце письма губернатор высказывает предложение, за которое его начальство не поспешило ухватиться, – обучать крестьян религии «на их родном языке, то есть русском или малороссийском»545.
Эпистолярная война на высшем уровне длилась с июля по сентябрь 1862 г. В то время как Фиалковский повторял, что «познание и хвала всевышнего не могут ограничиваться одним языком», Васильчиков сухо приказывал ему исполнять полученное распоряжение. В свою очередь, луцко-житомирский епископ Боровский, отсутствовавший на момент принятия решения, полагал, что сможет защитить поляков: «…по всем приходам я удостоверился, что крестьяне Католики находятся по большей части в Волынской губернии в пограничных местах от Галиции и Царства Польского, что они все суть происхождения польского и обыкновенно называются Мазурами [т.е. уроженцами Центральной Польши. – Д.Б.], сколько я в церкви заметил, говорят по-польски очень хорошо и совершенно понимают учение церкви и молитвы… Малороссийскому наречию обучаются и употребляют его только в своих сношениях с Малороссами и не доказывают тем своего происхождения»546.
Похоже было, что католическое духовенство и польские помещики проиграли языковую борьбу, но они еще пытались что-то сделать, чтобы сохранить как можно более тесные контакты с католическим крестьянством, несмотря на его постепенное отдаление. Ф.Ф. Витте, назначенный в сентябре 1862 г. на должность попечителя Киевского учебного округа, отверг предложение киевского предводителя дворянства А. Хорватта547 о назначении католических наставников в начальные православные школы. Он ответил, что это могло бы подорвать доверие родителей: «Эта мера неминуемо возбудит в крестьянах сомнение относительно направления школ в духе православия и русской национальности… Наконец, допущение ксендзов в народные школы будет иметь еще то важное неудобство, что они училища, назначенные Правительством для оживления в сельском населении здешнего края сознания Русской национальности, внесут польский язык, чего более чем в каком-либо другом учебном заведени следует опасаться в народном училище». В конечном итоге Витте желал, чтобы малолетние католики ходили к ксендзам, но не желал допускать ксендзов в русскую школу. Но генерал-губернатор не одобрил никаких конкретных мер548.
Некоторые католические священники, как, например, Остапович, о котором идет речь в рапорте полиции Ольгопольского уезда от 14 ноября 1862 г., пытался оказать давление на старшину волости, чтобы тот отделил от православных католических учеников, воспитанием которых он хотел заняться лично. Однако полиция отказала ему в такой возможности, т.к. это можно было бы приравнять к созданию школы (таких учеников было десять). «А при том, – писал уездный начальник полиции, – что подобного рода школы, как дано мне знать предписанием Г. начальника губернии от 31 минувшего октября, учреждаются по действиям тайного общества с целью развивать польский фанатизм через взаимные отношения воспитанников с крестьянами…» Кроме того, полиция давно замечала за Остаповичем «допущение в духовных речах намеков к возбуждению польской национальности»549.
Исчерпав все аргументы, епископ К. Боровский использует последний шанс, чтобы сохранить тонкую нить, связывающую – обратим внимание – лишь 1/6 часть крестьян с Польшей. Его попытка хорошо иллюстрирует господствовавший консервативный дух и стремление скорее на расстоянии поддерживать национальное и религиозное верховенство, чем сделать возможными перемены в социальном статусе крестьянства. В период нарастания революционной волны польский епископ наивно верил, что царские чиновники захотят прислушаться к нему.
Итак, 10 ноября 1862 г. в письме на имя Васильчикова Боровский писал, что его, как и правительство, беспокоит распространение вредных идей. Поскольку в большинстве случаев русские учителя, подготовленные в царских университетах, оказываются опасными социалистами, то крайне простой и уместной мерой было бы, по его мнению, привлечь в народные училища церковных сторожей, ризничих, органистов, которые бы обеспечивали начальную подготовку и учили катехизису. Вот о чем думает польское духовенство на Правобережной Украине в то время, когда в Варшаве поляки, преисполненные патриотических идей, готовятся к восстанию против царя. Епископ предлагал царским властям сотрудничество в борьбе с «вредными идеями» ради сохранения небольшого и ограниченного влияния на горстку крестьян. Боровский убеждал, что можно доверить католическим деканам выбор учителей, которые, что крайне важно, «люди простодушные, чуждые новым теперешним идеям, избираемые из среды чистосердечного народа…»550.
Письмо не было прочитано адресатом: Васильчиков умер, а генерал-губернатором был назначен генерал Н.Н. Анненков, старик, несколько впавший в детство (интересно, что его дочь была замужем за графом Э. – М. де Вогюэ, в будущем прекрасным популяризатором русской литературы во Франции). Киевский митрополит поспешил сразу же убедить нового генерал-губернатора в том, что поляки и в дальнейшем стремятся в своих интересах использовать просвещение люда. В качестве примера он ссылался на мирового посредника в Бердичеве, Хейне, который, распространяя буквари, «стремится к усилению польского элемента на счет русско-православной народности». Митрополит советовал его «от сей должности устранить»551. Вместе с этим посредником были уволены и поляки – школьные учителя, которые не придерживались инструкции от 11 мая 1862 г.
9 февраля 1863 г. Анненков рекомендовал гражданским губернаторам трех губерний начать безжалостное преследование польских школ, на которые вновь стали смотреть как на признак деятельности тайных обществ552, а 26 февраля он выслал в Министерство внутренних дел отчет гражданского губернатора Киевской губернии П.И. Гессе со списком семнадцати приходских католических школ этой губернии, в которых учился 221 украинский ребенок553. Власти не обратили внимания на жалобу Боровского от 14 марта 1863 г. в связи с отрешением от должности шести католических священников в Волынской губернии. К тому моменту полиции уже было известно, что восстание в Варшаве угрожает перекинуться и на Правобережную Украину. Полиции не было известно, что польские помещики в этих трех губерниях не склонны прислушиваться к призывам из Варшавы, что они препятствуют распространению среди украинского люда написанной в Варшаве «Золотой грамоты», в которой давались абсолютно нереальные обещания – мол, получив волю, поляки дадут крестьянам больше свобод, чем царь554. Несколько вялых и не связанных между собой выступлений повстанцев (к этому вопросу мы еще вернемся) в мае 1863 г., которые могли создать впечатление, что восстание распространилось на Украину, были разгромлены царскими войсками, так что после этих событий уже не могло быть и речи о культурных контактах между помещиками и крестьянами.
1 мая 1863 г. волынский полицмейстер предложил Анненкову «воспретить вовсе обучение мальчиков при приходах или же дозволить таковые только при духовных семинариях для обучения служению при алтаре». В тот же день генерал-губернатор издал это предложение в форме приказа. Отныне по всей Украине было запрещено изучение католического катехизиса. Приказ будет оставаться в силе на протяжении десятков лет555.
Как показал А. Миллер, русско-польский конфликт прямо отразился на решении «украинского вопроса». Царская власть не была в состоянии развить русское образование среди украинского народа. А каким образом в историографии описываются польско-украинские отношения в этот период? Польская историография питает определенные иллюзии насчет существовавшей будто бы возможности объединения шляхты и крестьянства в борьбе с царизмом. Так, Стефан Кеневич, автор основательной работы о восстании 1863 г., пишет, что «одной из основных причин падения Национального правительства [правительство Польского восстания в Варшаве. – Д.Б.] было то, что польское восстание не охватило крестьянские массы Украины и Белоруссии»556.
Спрашивается: каким образом могли украинские крестьяне солидаризироваться со своими помещиками, которые, преследуя свои собственные интересы в 1863 – 1864 гг., только и думали о сохранении неограниченной барщины во всей ее жестокости? С. Кеневич, описывая последнего руководителя восстания Ромуальда Траугутта, пишет, что ему предстояло решить самую «сложную проблему, которую приходилось решать польскому народу», – проблему объединения с украинским крестьянством. На самом же деле к этому моменту проблемы как таковой уже не было. Поражение поляков было предрешено. Парижская эмиграция не хотела этого признавать, а предостережения Северина Гощинского, изложенные в книге «Король старого замка» (1842), и призывы нескольких членов «Общества Умань», созданного в 1835 г., после раскола польского демократического общества, не были услышаны. Т. Бобровский указывает на то, что в 1863 г. крестьяне были на стороне царских властей, мечтая, как правило, лишь о грабеже поместий.
Однако не все из малочисленных польских повстанцев в этих губерниях в 1863 – 1864 гг. были закоренелыми сторонниками барщины. В воспоминаниях анонимного автора читаем: «Крестьяне связали нас и так привели в волость. Может показаться странным, что мы позволили связать себя, как баранов, хотя при нас было оружие. Следует понимать, что мы давали клятву не применять в Руських землях оружие против крестьян, и были готовы погибнуть сами, чем пролить кровь наших заблудших братьев. Мы надеялись, что в будущем сможем доказать, что они ошибались, и объяснить, что Москва, а не мы, их враг». Однако крестьяне так и не увидели разницы, они «все собрались, привезли телеги, посадили нас на них, приставив к каждому часового. Они все ехали верхом, окружив со всех сторон телеги… Волосы встают дыбом от одной мысли, какие кошмары они позволяли себе творить, и кто бы мог подумать, что сельские бабы окажутся хуже и злее мужиков? Они так варварски обходились с мертвыми телами, что ни в одном языке не найдется слов, чтобы описать подобное!»557
Многие из лагеря «красных» изначально понимали, что польское восстание на Украине было обречено на поражение. 19 июля 1862 г. молодой Эммануэль Мошинский, отдыхавший летом в Подольской губернии, писал отцу:
Люд не знаю, потому что познать его не могу, не зная языка. Граждан не знаю, поскольку немногих довелось встретить, кроме как на именинах пана Липковского, но ни к одному из них я не проникся чувством симпатии и не проникнусь впредь. Я нахожу, что из-за излишней заботы о собственном кармане они забыли, что являются единственными представителями Польши в этом крае, что каждый из них должен был в своем имении превратиться в эмиссара, способствующего братанию и просвещению люда, что пошло бы на пользу Польше, а они были тиранами и палачами люда и слугами врагов. Они придерживались патриотизма, пока он не касался их карманов, а любовь к люду прославляли до тех пор, пока она не препятствовала барщине и проявлению их тирании. Теперь же они выступают против той молодежи, которая начала, может быть и поздно, просвещать люд и растолковывать ему права человека. Их зовут хлопоманами, приписывая им жутчайшие преступления; одни пристыжены тем, что вместо них патриотизм проявили более молодые, другие же напуганы грядущим наказанием, во всех отношениях оправданным.
Рассказы о прошлогодних страданиях [речь идет о столкновениях, связанных с провозглашением Манифеста об отмене крепостного права. – Д.Б.], которые пришлось испытать крестьянам за то, что посмели заикнуться о человеческих правах, – и за эти муки они достойны стать рядом с теми мужами, которые посвятили свободе жизни и все, что имели, – вызвали у меня раздражение и возмущение. Согласно воззванию варшавян ко всем полякам, которое теперь должно стать для нас законом, считаю, что всех тех, кто разрешил использовать армию против люда, следует считать изменниками, поскольку, возможно, именно этим они окончательно оттолкнули крестьян от нашего дела558.
В 1864 г. Петербургу удалось ловко воспользоваться ненавистью крестьянства к польской шляхте. На Украине (а также в Северо-Западном крае, но не в Центральной России) выкуп за землю был установлен для крестьян с двадцатипроцентной скидкой по сравнению с суммой, предусмотренной реформой 1861 г.559 Стоит ли этому удивляться?
В исследуемый период более четырех миллионов крестьян были основной рабочей силой и источником обогащения польских помещиков. Крестьяне, совершенно отчужденные от своих господ, были объектом постоянного интереса со стороны царских властей, старавшихся перетянуть их на свою сторону, заменив уже устаревшую гегемонию новой, собственной, более динамичной и мощной. Впрочем, власти так и не решились на глубокие реформы в социальной и культурной сферах, которые могли бы привести к полному нивелированию различий между Правобережной Украиной и Россией.
Мы показали, что польские землевладельцы в течение более полувека после присоединения к Российской империи, вплоть до 1863 г., занимали доминирующее положение в отношении украинского крестьянства. Однако, несмотря на это, в социальном, культурном, религиозном и языковом противостоянии двух стремящихся к гегемонии сил – русской и польской – всегда выигрывала русская сторона, которая постоянно углубляла и так существовавшую уже издавна пропасть между поляками и украинцами.
Глава 2
ЗАПАДНЯ ДЛЯ ШЛЯХТЫ. ДЕКЛАССИРОВАННАЯ ШЛЯХТА
Польская шляхта, о которой шла речь в предыдущей главе, была в основном представлена помещиками и управляющими имениями, отношения которых с людом складывались в рамках крепостной системы «господин – раб». В последующих главах мы вновь обратимся к внутренней организации этого слоя, а также социально-культурным особенностям землевладельческой шляхты на Правобережной Украине, однако в центре нашего внимания будет положение и судьба шляхетского большинства – мелкой шляхты, настолько сблизившейся с крестьянством, что ее сложно было от него отличить. В этой главе роли поменяются – поляки из преследователей превратятся в преследуемых.
Козлы отпущения
Со времени Екатерины II и до 1830 г., как уже было показано в первой части книги, втянутая в Российскую империю бедная шляхта, в большинстве своем безземельная, благодаря имевшимся «привилегиям» вела жизнь достаточно спокойную, несмотря на грозные планы властей относительно ее будущего. Согласно устоявшейся традиции шляхетской солидарности эти бедняки полностью находились в сфере влияния и зависели от милости польских помещиков, платили традиционный чинш, сами обрабатывали земельный надел, жили зачастую в не принадлежащем им доме, исполняли незначительные служебные обязанности, позволявшие им тем не менее сохранять чувство достоинства. Чувство гордости играло в их жизни большую роль. Они принадлежали к вольным людям, о чем свидетельствовал герб на перстне – единственном свидетельстве чести, которой некогда были удостоены их предки польскими королями. Среди них можно было встретить и образованных людей, учившихся в польских гимназиях или уездных школах до 1831 г.
Почему же им была уготована царским режимом роль козлов отпущения? По мнению властей, именно они являлись самыми ожесточенными поборниками восстановления польской независимости, т.к. благосклонно отнеслись к варшавским «мятежникам». Подобное обвинение было справедливо лишь отчасти. В случае восстания на Правобережной Украине не могло быть и речи о такой же массовости, как и в этнически однородном Царстве Польском, российская армия в течение двух месяцев пресекла на корню патриотическое движение: после победы у Боремля 19 апреля 1831 г. генерал Юзеф Дверницкий с 4700 человек и 12 пушками был вынужден отойти в Галицию, затем последовали одиночные стычки, как, например, неудачные битвы около Городка и Дашова вблизи Липовца, а также бои Кароля Ружицкого под Житомиром, не принесшие удачи, но запомнившиеся проявленным героизмом, который в эпической форме представил Юлиуш Словацкий в «Думе о Вацлаве Жевуском». Немногочисленные проявления польских патриотических чувств, как, например, избрание Ксаверия Пражмовского предводителем восстания на Волыни или направление Миколая Деныского в качестве эмиссара в Варшаву, не привели к укреплению боевого духа среди польских помещиков. Представители этого слоя предпочитали слушать воззвания старого луцкого епископа Каспера Чечишовского, дяди Лелевеля, о сохранении верности царю и сидеть по домам, опасаясь крестьянского бунта. От их имени предводитель волынского дворянства передал через военного губернатора приветственный адрес на имя царя, в котором волынская шляхта заверяла монарха в своих искренних чувствах и безграничной любви, присущей всем верным сынам Отечества. Николаю I давались заверения в том, что вместе со всеми сословиями Волынской губернии шляхта готова подчиниться любым приказам правительства, подтверждалось стремление сохранять порядок в губернии, которую пока благодаря Провидению нарушители общественного спокойствия обходили стороной. Однако власти осуждали саму мысль о возможности восстания, а потому никого за подобные намерения не прощали, в том числе и шляхту из западной части подольских земель, где ее было особенно много (20 тыс.).
Поскольку единственным критерием принадлежности к знати в России являлось владение землей, то волей-неволей будут помилованы крупные польские землевладельцы. Основной же удар придется на бедную шляхту. Польские помещики, несмотря на преследования и конфискации (о чем еще пойдет речь), будут признаны истинными дворянами, название же «шляхта» приобретет в России крайне пренебрежительный оттенок и будет использоваться в отношении «париев». Безземельная шляхта будет признана аномальным явлением в структуре империи, в которой, по мысли властей, могло существовать лишь три состояния: дворяне, мещане и крестьяне. Собственно, именно эту шляхту и стремился с упорной ненавистью уничтожить на протяжении нескольких десятков лет Николай I. Однако историку важно не только констатировать этот факт, но и задуматься над реакцией (одобрение? сопротивление?) польской общественности на царскую политику. Необходимо помнить, что данная проблема уходила корнями глубоко в прошлое.
Восстание 1831 г. стало всего лишь предлогом для радикализации царской политики. После знакомства с материалами комиссий по разбору дел об участниках польского восстания, созданных по указу от 10 июля 1831 г. в каждом уезде и подчиненных губернским центрам указом, можно констатировать, что доказательств вины, притом что комиссии действовали продолжительное время, некоторые даже до 1843 г., было собрано не так уж и много. Между тем сам состав комиссий не дает повода подозревать их в малейшем снисхождении: на губернском уровне они возглавлялись генерал-губернатором или высшим офицером, заместителем председателя был гражданский губернатор, а членами – председатели судов вместе с советниками казенных палат. Из числа поляков среди членов комиссий были лишь предводители дворянства. Согласно протоколам заседаний, которые сохранились в киевских архивах по всем трем губерниям Правобережной Украины, количество повстанцев почти никогда не превышало 200 человек на уезд. Алфавитный список повстанцев, дела которых рассматривались комиссией Киевской губернии в 1831 – 1843 гг., состоит из 96 страниц, в среднем по 18 фамилий на страницу, что в сумме дает число меньшее, чем 1800. В Волынской и Подольской губерниях повстанцев, безусловно, было больше, однако общее количество в 10 тыс. человек представляется максимальным числом для всех трех губерний. Действительно, бедная шляхта преобладала: 400 человек в Киевском уезде на 19 помещиков и 55 «крестьян и бродяг», причем в протоколах отмечено, что последних зачастую принуждали к участию силой560. Однако в любом случае такое количество участников не оправдывает размаха репрессий, которые обрушились на польскую шляхту.
Через несколько месяцев после начала восстания ужас сменился в Петербурге возмущением и полонофобией, причем как в правительственных кругах, так и среди общественности и в прессе561. Наряду с конфискацией имений, закрытием польских школ и преследованием католиков было предпринято два масштабных мероприятия против обедневшего польского населения Юго-Западного края. Были приняты решения о переселении 5 тыс. шляхетских семей из Подольской губернии на Кавказ, а также о деклассировании мелкой шляхты с целью ее растворения среди крестьян и однодворцев. Эти замыслы еще не становились предметом исторического анализа. Первый план не удался, хотя в польской историографии утвердилась точка зрения, что он был все-таки осуществлен. Он заслуживает внимания хотя бы уже потому, что показывает степень охватившего царские власти безумия. Второй же план, напротив, осуществлялся с удивительным упорством на протяжении двадцати лет и увенчался успехом, что в корне изменило социальную структуру изучаемого региона.
К осуществлению обоих планов власти приступили одновременно, что привело к панике среди мелкой шляхты. Исключительно из желания внести определенную ясность в изложение событий тех лет вначале обратимся к проекту переселения на Кавказ, который, невзирая на весь трагизм, во многом сродни произведениям Н.В. Гоголя.
Всех на Кавказ!
Большинство польских авторов представляют как достоверную цифру 5 тыс. шляхетских семей, вывезенных на Кавказ. Некоторые из них, например Х. Мосчицкий или Б. Винярский, даже утверждают, что переселение охватило 45 тыс. польских семей из «польских» земель Российской империи. В работах М. Бернацкой о мелкой шляхте Мазовии и Подляшия или В. Вельхорского о «польской» Украине также приводятся эти данные. Последний автор даже называет фантастическую цифру в 300 тыс. человек, подчеркивая, что «методы массовой депортации придуманы не большевиками»562. Даже если учесть отправленных в армию или сосланных в Сибирь повстанцев, то и тогда не удастся получить такой цифры. Утверждение польской историографии о депортации на Кавказ 5 тыс. шляхетских семей основано на указе от 21 ноября 1831 г., но при этом никто не проверил, был ли этот план осуществлен. Именно такую проверку мы провели.
Сама мысль о массовом переселении населения, которое царские власти считали особенно опасным из-за присущего ему духа индивидуализма и статуса личной свободы, не была новой. Как уже было показано в первой части, еще во времена Екатерины II Зубов задался целью использовать свободолюбивый нрав этих людей для укрепления армии и выдвинул идею об ассимиляции поляков с малороссийским казачеством.
С самого начала в этой идее главными были эмоции, а не здравый смысл. 15 ноября 1831 г. делопроизводитель Комитета западных губерний барон М.А. Корф сообщил подольскому губернатору, что его губерния выбрана в качестве примера; для начала эксперимента Комитет установил цифру в 5 тыс. семей. Согласно проекту, выделяемые на Кавказе земли должны были находиться в казенной собственности, а создаваемые там поселения могли быть в будущем военизированы563.
Подольский гражданский губернатор Ф.П. Лубяновский сразу же увидел возможные трудности и высказал замечания. Он не представлял, чтобы 5 тыс. семей добровольно согласились на переезд, и спрашивал, не следует ли их к этому принудить. По его мнению, лучшими поселенцами на Кавказе были бы те, кто знаком с полеводством, тогда как среди повстанцев преобладали молодые неженатые «бездельники». Было бы хорошо очистить от них Подольскую губернию, однако заселять ими Кавказ было, по его мнению, небезопасно, поскольку «водворение их в большом числе на Кавказе обратилось бы не только к общественному их вреду, но по соседству неприязненных горских племен может быть и к вящему вреду общественному».
24 января 1832 г. Корф напомнил о существовании первого указа Николая I, полностью не прояснявшего сути этого вопроса: «…сколько можно удалить из Западных Губерний шляхты совсем не оседлой (бобылей), обращающейся в разврате и всегда готовой на соединение с теми, кто ее купит». По мнению Николая I, этих шляхтичей, поскольку это бродяги, необходимо отправлять в казацкие отряды. Стоит еще раз обратить внимание на открытую неприязнь ко всему, что не укладывалось в желанные строгие рамки трех сословий российского общества. Отсутствие у обедневшего шляхтича собственной земли означало превращение его в «бродягу», что вызывало враждебное и подозрительное отношение властей. Эта типичная реакция царя соответствовала в конечном итоге указу от 12 февраля 1829 г., согласно которому следовало задерживать и отправлять на службу в казацкие полки всех здоровых и не ведших своего хозяйства мужчин в возрасте до 35 лет.
Министерство финансов и Министерство внутренних дел совместно разработали принципы переселения, одобренные Комитетом министров 25 марта 1832 г. Однако затаивший особую злобу на поляков Николай I собственноручно дописал: «Правила сии считать не для одной Подольской, но и для прочих всех западных губерний». Тем не менее в сравнении с атмосферой абсолютной строгости предложения Комитета западных губерний от 5 апреля 1832 г. представляются несколько нерешительными, даже противоречивыми. Сначала было принято решение отправить только добровольцев, которым отводилось больше всего земли; за ними должны были последовать те, кого власти признают «почему-либо подозрительными и неблагонадежными». Учитывая возникшие трудности, власти отказались от предусмотренной цифры в 5 тыс. семей. Было решено, что до тех пор, пока на Кавказ не будут завезены стройматериалы, туда будут направлять лишь работоспособных мужчин. Их семьи должны были прибыть позже. В дальнейшем власти начали различать добропорядочных однодворцев, которые со временем могли бы стать хорошими поселенцами, и пресловутых «бродяг», пользовавшихся дурной славой, которых следовало отправить на Кавказский фронт.
Это обременительное поручение было возложено лишь на одного подольского губернатора. Именно он должен был определять людей для переселения, организовывать их отправление, поддерживать связь с кавказским наместником генералом А.А. Вельяминовым. Министр внутренних дел не без основания опасался огласки предпринимаемых мер, а потому уже на следующий день, 6 апреля, рекомендовал губернатору Ф.П. Лубяновскому позаботиться о том, я »чтобы обстоятельства упомянутого переселения, равно и препровожденные к Вам на сей предмет правила, были известны только в кругу лиц, до коих исполнение оных относится, но ни через газеты, ни иным каким-либо образом обнародованы не были».
Но было уже поздно! В приступе рвения, а, может, для того, чтобы не допустить применения силы, губернатор Лубяновский уже разослал предводителям дворянства большой напечатанный плакат, в котором призывал добровольцев отправляться на Кавказ, представляя изгнание как милость. Данный документ под названием «Льготы и выгоды переселяемой в Кавказскую область шляхте, Всемилостивейше даруемые»564 – образец мелочного бюрократического подхода при решении важного вопроса. Одновременно это и пример неслыханной наивности. Как следует из нижепреденного текста, царский чиновник думал, что предлагаемые «выгоды» могли склонить поляков покинуть свой родной край.
Переселяемым вследствие высочайшего Его Императорского величества соизволения семействам из шляхты, что ныне граждане и однодворцы из Подольской губернии и из других в Кавказскую область, всемилостивейше представляются следующие выгоды и льготы.
I
На месте настоящего жительства
Продажа своих домов и всех хозяйственных обзаведений, равно и земель, в полную личную собственность по законным актам, им принадлежащим.
Комиссия обязана содействовать в выгодной всего имущества продаже, приводя в известность, что и сколько чего какая семья возьмет с собой при переселении: почему продажа сия должно происходить с ведома Комиссии при наблюдении, чтобы продавцу от покупателя сполна были уплачены деньги. Исключается из продажи весь рогатый скот и лошади, как и в пути и по прибытии на место необходимые для каждой семьи, равно телеги и прочие везде нужные для домашнего быта вещи, сколько кто может взять на свою повозку.
Общественные участки земли, переселяемым принадлежащие, предоставляются в пользу Общества: но Громада (общество) по взаимному соглашению с переселяемыми семьями обязывается оказать им соразмерное с получаемыми от того выгодами пособие для перехода. [Пример незнания царскими властями местных обычаев: сама идея общины, укорененная среди русских крестьян и однодворцев, была совершенно чужда шляхте. – Д.Б.]
Долг Комиссии содействовать в сем случае к соглашению обеих сторон по справедливости и местному усмотрению.
Переселяемые обязаны заплатить в настоящих местах жительства все частные свои долги по законным актам и в уплате оных снабдить себя от кого следует квитанциями. Казна однако же ни в каком случае не принимает на себя ответственности за долги переселенцев, и не следует делать при сем никаких особых распоряжений о приведении оных в известность. Заимодавцам предоставляется взыскивать долги узаконным порядком, но отнюдь не останавливать за сим переселенцев.
Сложение недоимок в земских повинностях, лично на переселении состоящих. [Таким образом хотели побудить к переселению тех, кто не мог вернуть долги. – Д.Б.]
Сие сложение распространяется и на недоимки в подымных податях, если по обложению однодворцев Подольской губернии сими податями, таковые впоследствии произойдут.
II
В пути
На каждую переселяемую семью при отправлении с места в пособие на путевые издержки назначается из казны по 50 рублей ассигнациями.
Семьи сии будут отправляемы в приличном числе партиями под надзором и попечением особого чиновника при каждой партии для доставления оной пособия и ограждения от всяких могущих быть в пути притеснений.
Будут отводимы для партий через всю дорогу денные и ночные квартиры безденежно.
Все вообще переселенцы мужеска и женска пола будут в пути довольствоваться от хозяев улучшенной пищею с платежом за то от казны, кроме только грудных младенцев.
Скот, который будут иметь с собой переселенцы, довольствует в пути на общих мирских пастбищах, где партия остановится, тоже бесплатно.
Сухого корма для скота не полагается, ибо переселение будет в летнее время.
Заболевшие в пути переселенцы будут доставляемы по распоряжению партионного чиновника в ближайшие города, где принимаются в больницы и пользуются на счет казны – по выздоровлении же отправляются для соединения с своими семействами.
Если будут такие большие, но беднейшие семьи, кои не в состоянии всего им необходимого имущества, или всех малолетних детей поднять на своих подводах, – таковым даваться будет по одной подводе от ночлега до ночлега безденежно.
III
По прибытии на места переселения
Каждой семье дано будет по 50 десятин удобной для хлебопашества и скотоводства земли.
Немедленно по прибытии на место, выдано будет там, где есть лес на обстройку и сверх полученных на путевые издержки, еще по 50 рублей ассигнациями, а там, где лесу нет, выдано будет по 100 рублей на каждую семью в пособие на обстройку.
Тем семьям, кои получат готовые дома, не будет выдаваемо сих денег.
Дарована будет:
На пять лет льгота от платежа подымных податей и земских повинностей.
На три года льгота от исправления натуральных земских повинностей, кроме частных, относящихся до отведенных во владение земель.
На восемь лет льгота от воинского постоя, и от вноса хлеба в сельские магазины.
По прибытии на место выдано будет на посев и продовольствие по числу семей от четырех до шести четвертей озимого и ярового хлеба, от четырех до шести четвертей круп и по три пуды соли на каждую семью безденежно, с перевозкой соли из магазинов самими переселенцами.
Партии будут селиться селениями в большем или меньшем виде по удобствам местоположения.
Подымная подать против обитающих в возвращенные от Польши губерниях, назначается с переселенцев по истечении упомянутой пятилетней льготы и сверх того по десять копеек серебром с десятины отводимой земли.
Подольский гражданский Губернатор
Неизвестно, надеялся ли подольский губернатор с помощью такого предложения завлечь шляхетскую бедноту на Кавказ (можно представить себе чувства шляхтичей при чтении этого документа). Одновременно с этим он тайно готовил принудительную акцию. Он поручил исправникам «особо взяться со всей точностью» за составление «именного списка по прилагаемой у сего форме тому классу людей, которые не имеют никакой оседлости и постоянных промыслов или занятий, но проходят с одного места на другое, от одного помещика, посессора или иного хозяина к другому, проживая таким образом в праздности или, что все равно, бродяжничая». Это характерное обобщение давало возможность отнести декласcированную шляхту просто к сборищу пьяниц, ворам и драчунам, от которых следует избавиться согласно предложенной схеме. Губернатор советовал своим полицейским – «при сем случае неизлишне будет иметь Вам в виду, что приходские православные священники могут весьма пособлять Вам к доставлению цели переселения шляхты, если обратитесь под рукой к благоразумнейшим из священников, кои, как известно, при добром поведении и на шляхтичей католиков имеют влияние»565.
Однако прошло два месяца, но ни пряник, ни кнут результатов не дали: уездные комиссии, чья задача заключалась в том, чтобы найти виновных во всех грехах деклассированных шляхтичей, так и не нашли желающих переселяться. 9 июля 1832 г. министр внутренних дел Д.Н. Блудов, которому кавказский наместник докладывал о своей постоянной готовности принять переселенцев, спрашивал о числе лиц, готовых выехать. В ответ 27 июля Лубяновский растерянно обратился к министру со следующими вопросами: 1) поскольку уговоры не приносят должного результата, следует ли осуществить принудительное переселение шляхты, несмотря на ее несогласие? 2) стоит ли в эту акцию включать неженатых и тех, кто не принимал участия в восстании? 3) стоит ли принимать во внимание записи в родословных книгах?
Ответ министра от 14 августа 1832 г. свидетельствует о неуверенности в необходимости принудительного переселения, что говорит о начале фазы легализма в решении шляхетского вопроса, сменившей полосу слепой ненависти. Действительно, решение о переселении противоречило провозглашенному закону об амнистии, а потому было неясно, что должно было послужить поводом для переселения 5 тыс. произвольно выбранных семей, тем более что в скором времени выяснится, что категория деклассированной шляхты насчитывает сотни тысяч людей. Теперь уже Блудов не хотел рисковать и силой отправлять «истинных шляхтичей» на Кавказ. Его в большей степени беспокоила начавшаяся проверка дворянского звания, конца которой видно не было. Лично он склонен был брать лишь добровольцев, соглашавшихся ехать с семьями, поскольку их оседлый образ жизни должен был удержать их от побега с Кавказа. Однако Вельяминов усложнил задачу, написав 25 октября, что, со своей стороны, он будет приветствовать лишь отъезд неженатых мужчин на Кавказ, т.к. их устройство стоит дешевле, а к тому же на Кавказе – избыток женщин!
Промедление в решении этого вопроса раздражало Николая I, и он назначил других исполнителей: с этого момента этим вопросом занимался уже не министр внутренних дел Д.Н. Блудов, а военный министр А.И. Чернышев. На губернском уровне также были предусмотрены перестановки: «Величайшее Его Императорского Величества повеление, чтобы все сношения по предмету переселения бывшей Польской шляхты на Кавказ и вообще о новом ее устройстве, равно о лицах, участвовавших в мятеже по губерниям от Польши возращенных, производимы были не прямо с гражданскими губернаторами, но посредством военных или генерал-губернаторов». 5 января 1833 г. все материалы были переданы В.В. Левашову, бывшему подольскому военному губернатору, который с февраля 1832 г. стал киевским генерал-губернатором.
Левашов попытался разобраться в этом вопросе. В корреспонденции Лубяновского он обнаружил сведения о планах по переселению 264 лиц в августе текущего года, 1200 – в декабре. На заданный 15 января гражданскому губернатору вопрос он получил объяснение, что к 264 лицам относятся все, кого можно было найти среди пьяниц, воров, бродяг, на вывоз которых дало согласие дворянское собрание. Он описал и атмосферу, в которой проводилась эта акция: «Между тем шляхта стекалась из всех уездов во множестве в Каменец за документами о дворянстве, и я, весьма часто встречая толпы их и расспрашивая о их положении, сам всячески старался возбудить в них охоту к переселению и тут же слышал от них единственные отзывы, сколь полезно было бы для края и для них, если бы они освободились от тех из среды их, кои дурного поведения». Вторая цифра – 1200 человек появилась в связи с планируемым вывозом по 100 шляхтичей из 12 уездов каждой губернии. Однако осуществить эту акцию не удалось, как объяснял Лубяновский, из-за того, что следовало принять во внимание привилегии истинной шляхты, а следовательно, ждать окончания проверки грамот на дворянство.
Ситуация оказалась тупиковой. 23 марта 1833 г. Лубяновский сообщал Левашову, что уездные комиссии представили списки возможных переселенцев, но не указали причин, поэтому он вернул их для уточнения данных. 3 июля он выслал Левашову совершенно наивное признание в своем полном бессилии. Он с грустью сообщал о том, что ему не удалось сдержать слово, а также указывал на сопротивление, с которым ему довелось столкнуться в конце 1832 г. во время поездки по Подольской губернии. Это сопротивление, по его мнению, было вызвано непоколебимой верой бедной шляхты в то, что ей удастся найти доказательства благородного происхождения. Эти люди знали, что после их отъезда на Кавказ эти доказательства уже никогда не будут найдены, они не боялись быть записанными в категорию однодворцев, т.к., оставаясь на месте, надеялись, что через несколько лет нужные доказательства будут найдены. Он обращал внимание на то, что семьи, а прежде всего жены кандидатов на переселение, крайне отрицательно относились к этой идее. В конце концов, он простодушно заявлял, что из-за крепости семейных уз, привязанности «к маловажным впрочем, но каждому стоившим труда предметам», а также страха перед далеким путешествием (и речи не было о патриотических чувствах) он смог найти лишь 23 семьи добровольцев – 49 мужчин и 46 женщин, а кроме того, 12 семей не получивших помилования участников восстания – 31 мужчина и 25 женщин, а также 312 семей различных «преступников» – 875 мужчин и 742 женщины, данные о которых представили местная полиция и экономы. Обратим внимание на участие экономов-шляхтичей в отлове 1617 так называемых правонарушителей среди соотечественников. С подобного рода поведением нам еще предстоит столкнуться не раз.
Когда же Комитет западных губерний подал этот список царю, тот – верх непоследовательности – принял решение о переселении лишь нескольких желающих, а также просил оказать им большую, чем было предусмотрено ранее, помощь. У этого неожиданного поворота, о котором Лубяновский узнал 21 июля 1833 г., было, возможно, две причины. Первая была связана с серьезными трудностями в обеспечении продовольствием, а также со сложной обстановкой на Кавказе, что в конечном счете привело к тому, что 7 августа было принято решение отложить отъезд. Вторая причина заключалась в том, что власти осознали опасность высылки в нестабильные районы людей, являвшихся подозрительными в политическом и социальном отношении.
23 ноября 1833 г. подольский губернатор вновь спрашивает о возможности отъезда переселенцев. Разрешение было получено лишь 4 июля 1834 г., и, наконец, 12 августа небольшая колонна отправилась в южном направлении – на Ставрополь. В ней насчитывалось лишь 76 человек, поскольку часть переселенцев к тому времени уже умерла (среди желавших переехать было много пожилых людей) или заболела.
Гора родила мышь – депортация шляхты на Кавказ так и не состоялась!
Принимая во внимание провал этого проекта, ход которого стоило реконструировать, чтобы показать, насколько можно исказить историческую правду, возникает искушение согласиться с выводом Александра Солженицына о том, что царские репрессии по сравнению с преследованиями советского времени были в целом детской забавой и что человеческий фактор смягчал всю их строгость. Однако не будем спешить с выводами. Провал акции по переселению 5 тыс. семей – ничто в сравнении с успехом другого предприятия по деклассированию безземельной шляхты – с его неторопливыми, придирчивыми и неумолимыми методами нам предстоит познакомиться.
Как от них избавиться?
Указ об однодворцах и гражданах западных губерний был принят 19 октября 1831 г., за месяц до описанного выше указа. В его основе лежало возмущение самим фактом существования такой социальной группы, которую а priori обвиняли в Польском восстании и воспринимали как аномальное явление в социальной структуре Российской империи. Ее следовало лишить права на дворянское происхождение с помощью проводимой ревизии документов, подтверждающих дворянство.
В России «однодворцами» называли немногочисленную категорию первоначально владевших «двором» и не отрабатывающих барщину «вольных» крестьян. Со времен Петра I эти крестьяне относились к податному сословию, на них распространялась рекрутская повинность, а их немногочисленные привилегии заключались в том, что в отношении их были запрещены телесные наказания, кроме того, вместо подушного они платили подворный налог.
К гражданам относилась преимущественно (см. выше ч. 1, гл. 4) образованная шляхта, занимавшаяся в городах профессиональной деятельностью: врачи, учителя, артисты, адвокаты. Именно существование категории «граждан» являлось важным признанием существования интеллигенции в качестве социальной группы.
Как уже говорилось, сохранение статуса безземельной шляхты в Российской империи представлялось властям аномалией, поскольку эта часть населения не платила налогов. Такое положение дел невозможно было терпеть в стране, в которой такие привилегии распространялись лишь на дворянство (впрочем, польские реформаторы еще во время Великого сейма 1788 г. сами указывали на необходимость ограничения традиционного шляхетского равенства). Именно это и стало причиной для официальных действий по слиянию обнищавшей шляхты с крестьянами-однодворцами. Превращение многочисленной по сравнению с русским дворянством мелкой шляхты в податное сословие могло принести казне существенные денежные поступления. Показательно, что основная инициатива по проведению данного мероприятия исходила из Министерства финансов. Однако в дальнейшем оказалось, что финансовая причина не была ключевой. Прежде всего речь шла о ликвидации шляхты путем искусственного слияния с уже существовавшей категорией населения. Полная свобода шляхты как социальной группы позволяла ей оставаться в рамках польского культурного сообщества. Эти люди подлежали собственному суду, сохраняли собственные культурные традиции и пользовались привилегией получения образования. Заставить большую часть шляхты ассимилироваться с крестьянством означало уничтожить ее культуру и идентичность.
Идея проверки благородного происхождения, как и идея переселения, не была новой.
21 декабря 1831 г. Сенат известил киевского военного губернатора Б.Я. Княжнина о принципах проведения ревизии, которые были предложены министром финансов Е.Ф. Канкриным. И хотя они были далеки от совершенства, как и проект по переселению, со временем они будут улучшены.
Все документы на дворянское звание, отмечалось в документе, должны были рассматриваться уездной комиссией, в состав которой должны были входить государственный чиновник, секретарь и местный предводитель дворянства. Полиция должна была следить за тем, чтобы вся шляхта прошла через комиссию в течение года с момента издания обращения. Комиссия должна была выдавать подтверждения, или т.н. легитимацию. Списки тех, чье происхождение не было подтверждено, должны были передаваться в казенные палаты, т.е. налоговые органы, для записи этих лиц в однодворцы, а лиц без бумаг следовало считать бродягами.
Слабым местом этих распоряжений, а в то же время шансом для тех, против кого они были направлены, была мысль, что вся шляхта добровольно согласится на такую проверку и что достаточно обязать полицию и помещиков сообщать о тех, кто уклоняется от подобной проверки, и все удастся566.
Между тем Герольдия также предложила услуги по проведению проверки: 21 января 1832 г. министр юстиции Д.В. Дашков сообщил генерал-губернатору, что император «для вящего облегчения жителям западных губерний, именовавшимся доныне шляхтой», позволил подавать бумаги о подтверждении благородного происхождения прямо в Герольдию с целью упрощения процедуры. Шляхта была извещена об этом в форме плакатов (так же, как это было сделано в Подольской губернии в случае акции переселения), названия которых – проявление наивности или цинизма? – призывали «так называемую шляхту» к повиновению567.
Новые решения нанесли серьезный вред дворянским собраниям, поскольку до этого времени только они могли удостоверять принадлежность к дворянству. Царская администрация впервые навязала выборным органам польской шляхты своих контролеров, нанеся удар по тому, что еще сохранилось от их прежних «золотых вольностей». Именно поэтому предводители трех губерний осмелились выступить с протестом.
16 мая 1832 г. граф Константин Пшездецкий, предводитель подольского дворянства, первым обратился к В.В. Левашову с просьбой походатайствовать в столице, чтобы к дворянским собраниям, привилегии которых гарантировались еще Жалованной грамотой Екатерины II от 21 апреля 1785 г., было больше доверия и «дабы… все семьи признаны депутатским собранием в дворянстве и внесены в дворянскую родословную Подольской губернии книгу… были оставлены навсегда на правах и преимуществах служащих дворянству, и дозволено было выдавать из оных книг… свидетельства для поступления желающим в военную и гражданскую службу, без отсылки документов в департамент герольдии». Пшездецкий просил также о том, чтобы, как и раньше, лишь дворянское собрание решало вопросы принадлежности к дворянству, поскольку именно оно проводит необходимую проверку, и работа уже доведена до 1826 г. На следующий день, 17 мая, граф Хенрик Тышкевич выступил с такой же просьбой от имени киевской шляхты, напомнив, что, согласно правам, предоставленным Екатериной II, Герольдия имеет право вмешиваться лишь в случае судебного рассмотрения спора между дворянином и дворянским собранием. Соглашаясь с тем, что необходимо проведение более широкой проверки, он добавлял, что она должна осуществляться лишь дворянским собранием, поскольку только ему известны обстоятельства жизни и родословная каждого шляхтича. Одновременно с этим он пытался сократить, насколько возможно, размах деклассирования, утверждая, что в случае 4233 семей из 10 396 семей его губернии можно быть уверенным в их благородном происхождении, 6027 – нуждались в проверке, и только 136 следовало, по его мнению, объединить с податными сословиями. 25 мая 1832 г. волынский предводитель Грациан Ленкевич пошел еще дальше, напомнив с подчеркнутой вежливостью Левашову о священном характере привилегий и неприкосновенности шляхты, умоляя применить к польской шляхте право давности. Он писал: «…добрый и снисходительный наш начальник, не упускайте даже единого случая, дабы подать страждущим руку помощи, и никогда не изволите оставлять без защиты и покровительства прошений, к Вам приносимым…» Ленкевич ссылался на Вислицкий статут Казимира Великого 1347 г. и на все «конституции» (сеймовые решения) за 1505, 1589, 1633, 1658, 1768, 1775 годы, а также на привилегии, подтвержденные 2 апреля 1801 г. Александром I. Он указывал, что никто не должен нарушать столь древних прав. «Затем надежда моя и целого дворянского сословия, мной предводимого, положена в начальничьем сердце Вашего превосходительства и в милости Всеавгустейшего Монарха нашего»568.
С виду шляхетская честь была спасена. Стоит отметить, что подобная позиция была в духе тарговицкой идеологии и совершенно не вписывалась в идею закона о сеймиках, вошедшего в Конституцию 3 мая. Как ни парадоксально, но теперь российские власти выступали с этой точки зрения в роли «патриотов» времен Великого сейма и отказывались от обещаний Екатерины II сохранить кардинальные права. Протесты ни к чему не привели. Достаточно взглянуть на документы уездных предводителей дворянства, чтобы представить себе степень растерянности, которая охватила мелкую шляхту. Начиная с марта 1831 г. царские власти терроризировали самую бедную шляхту, грозя Сибирью в том случае, если принадлежность к дворянству не будет подтверждена. Согласно давнему обычаю, предводители дворянства под давлением обстоятельств выдавали нужные свидетельства в качестве услуги, однако царских чиновников им провести не удалось. В течение 1832 г. дворянское собрание Винницкого уезда выдавало даже коллективные подтверждения представителям чиншевой шляхты. Контрольная комиссия, в свою очередь, заносила владельцев подобных «доказательств» в список однодворцев569.
Противостоять деклассированию было крайне сложно. Лучше было вообще не являться на комиссию, что и сделала большая часть шляхты. Однако многие наивно полагали, что слова помещика, на которого они трудились, – неподкупного слова польского шляхтича – будет достаточно, чтобы уберечь их от перехода в податное сословие.