Мания встречи (сборник) Чайковская Вера
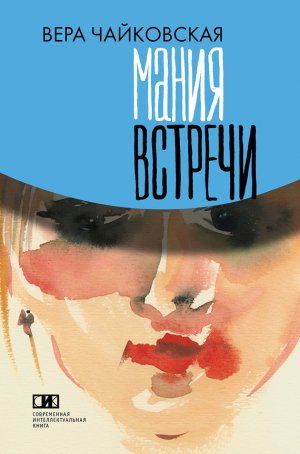
Он строго взглянул на Одю и произнес:
– Рукопись лучше все-таки сжечь. Она из разряда «горящих» – никому не нужна, включая автора.
Либман его не проводил до дверей, а молча стоял у стеллажей с книгами в позе Чаадаева…
…Одя мчался по Чистопрудному бульвару вслед за девушкой, напомнившей ему Белую Шапочку. Эта плакавшая у разрушаемого института девушка ему так хорошо запомнилась, что несколько раз приснилась. И даже совсем недавно, когда он вернулся от Учителя расстроенный и ошарашенный, но и необыкновенно ободренный – ведь Ксан Ксаныч Либман назвал его своим верным учеником. Одя и во сне был робок. Его зажатость распространилась и на подсознание – вопреки мнению дядюшки Фрейда. Девушка просто гладила его по голове, и во сне он испытывал блаженство от этой невинной ласки.
Зимний день, как и в первую встречу, клонился к вечеру. Все предметы потеряли четкость очертаний, расплывались в морозном воздухе, в испарениях снега и льда, в отблесках желтых фонарей вдоль замерзших и ставших катком прудов, в холодном отрешенном сиянии сумрачного неба.
На Белой Шапочке в этот раз не было белой шапочки, а была и вовсе черная, правда, с серебристым отворотом. Одя, вырвавшись вперед, забежал спереди, отчаянно боясь ее потерять. Он тяжело дышал от бега и волнения.
– Это ведь вы? Я вас видел… – Он не договорил, пытаясь понять, она это или не она. Эта была вовсе не девушкой, а взрослой женщиной с нервным худым лицом. Но какие-то токи, которые улавливал Одя, напоминали ту первую Белую Шапочку. Она казалась столь же таинственной, благодаря сумраку и отраженному свету фонарей.
– Вы-то кто? – рассмеялась Черная Шапочка, разглядывая растерянное и смешное Одино лицо в малюсеньких очках и с пушистой енотовой шапкой на голове. Он казался подростком, «ботаником», как называют таких в школе – хилых и неприспособленных к жизни. – А, вы, наверное, мой ученик? – неуверенно спросила она. – Мой бывший ученик?
– Да, да, я ученик! – радостно подтвердил Одя. Он ведь и впрямь был вечным учеником – и по натуре, и в реальности. – Но я и сам преподаю. Рисование.
– Неужели? – теперь обрадовалась Черная Шапочка. – Значит, не зря я вас обучала? Пошли по моим стопам?
– Так вы художница? – догадался Одя.
Черная Шапочка взглянула с недоумением.
– А вы разве не знали? Вы учились в нашей студии или нет?
Одя предпочел не отвечать на этот прямой вопрос, а спросил, существует ли студия сейчас.
– Увы, ее закрыли! – ответила Черная Шапочка и вздохнула. – Живопись никому не нужна. Меня вот выселяют из мастерской… В течение месяца… Ума не приложу, куда деть картины…
Одя почувствовал, что встретил такую же одинокую душу, как и он сам, готовую поделиться горестями с первым встречным – реальным или выдуманным учеником.
– Давайте их продадим! – предложил он.
– Продадим? Кому? – рассмеялась Черная Шапочка, и даже довольно весело. – Это же не попса. Не мусор. Не инсталляции. Традиционные жанры – портретики, пейзажики. Разная мелочишка. Для плебеев – слишком замысловато, для галеристов – слишком просто.
– А посмотреть? – закинул удочку Одя.
– Хотите? И покажу! А что? Давно никому не показывала, а скоро отнимут мастерскую.
Она опять хрипловато рассмеялась. Смех был нервический. Видно, Черная Шапочка была в том состоянии, когда любое сочувствие принимается с благодарностью. А Одя искренне сочувствовал.
– Едем! – обрадовался он.
Но ехать не пришлось – мастерская располагалась недалеко от Чистопрудного бульвара – в одном из переулков Мясницкой. Пошли пешком. По дороге Одя спросил, как ее зовут.
– Фира. Для вас – Фира Семеновна. Так я и знала, что вы лжеученик. Хотя похожи на одного. Я даже начала вас вспоминать.
– Но вы тоже не та… но похожи, – оправдывался Одя. – А имя… Это от Глафиры?
– Нет. Я – Эсфирь.
Одя смутился, точно выведал какую-то страшную тайну. Его собственное имя было нейтральным и не выдавало национальной принадлежности. И отчество было нейтральным – Анатольевич.
– Я думал, таких имен больше нет.
– Каких?
– Таких красивых. Таких древних. Таких ветхозаветных. Я, как вы, должно быть, поняли, тоже еврей. Но у меня имя самое обыкновенное – Владимир. (Нет, нет, пел в его душе тайный голос, ты ведь не Володя, не Вова, не Вовка, ты Одя, а таких имен больше нет!)
– Тоже красивое имя, – утешила Фира. – Княжеское.
Они вышли на Мясницкую и свернули в Банковский.
– Не пугайтесь моей берлоги. Она в подвале.
Фира завела Одю в какой-то пустынный и по виду совсем нежилой подъезд. По шаткой лестнице они спустились вниз, в подвал. Фира открыла растрескавшуюся скрипучую дверь и включила свет, очень тусклый, какой-то зеленоватый.
– И эту развалюху у вас отнимают? – возмутился Одя, оглядывая обшарпанные стены с маленьким окошком наверху, которое, должно быть, днем почти не пропускало солнечного света. Холсты в беспорядке жались по стенам.
Черная Шапочка вертела в руках роковую бумагу.
– Вот, на днях получила. Извольте, мол, выселиться в течение месяца.
– Покажите!
Одя с чувством какого-то тайного узнавания почти выхватил из ее рук начальственную грамоту и, взглянув, присвистнул.
– Что вы? – изумилась Фира.
– Я точно чувствовал… Опять этот Акинфеев Р. И. Видите, кто подписался под распоряжением?
Фира, склонившись к бумаге, стала разглядывать крючок подписи.
– А-кин-фе-ев. Прочли? – торопил Одя.
– Вы его знаете?
В голосе Фиры звучала растерянность.
– Еще как! Это он подписал приказ об уничтожении Института старой и новой философии. А меня туда взяли аспирантом. Такое разочарование, Фира!
– Я понимаю, Володя. И институт этот знаю. – Она помедлила. – Там работали… некоторые мои друзья.
– Правда? – Одя обрадовался сквозь накатившуюся печаль. – Я, значит, не случайно спутал вас с Белой Шапочкой. Она плакала, когда сносили. Она, должно быть, была вашим прообразом. Намеком на то, что я вас встречу. Так бывает. Вот ведь и Ромео… – Он умолк, понимая, что его занесло. И продолжил тему Акинфеева: – Этот же Акинфеев значится в ведомости по зарплате в нашем Доме художественного творчества. Но его там в глаза не видели! Недаром Ксан Ксаныч просил запомнить его гнусную фамилию.
– Ксан Ксаныч? – насторожилась Фира. – Кто это?
В ходе разговора она повернула одну из своих работ лицом к Оде, и он увидел…
Должно быть, это был ее автопортрет, но в образе библейской царицы – с мерцающей драгоценностями диадемой на голове, в браслетах на руках и длинных серьгах в ушах. Но вокруг нее было что-то из другой реальности – облупленные стены, обтрепанные стулья, старый чайник на газовой плите… И все это сияло и переливалось в таинственной и значительной красно-коричневой «рембрандтовской» гамме. Это была библейская царица, оказавшаяся на каких-то жизненных задворках, угнетенная и замученная, но все равно излучающая свет и женственную прелесть…
– Я вас спросила о Ксан Ксаныче, Володя! Кто это?
Почему-то она зацепилась за это имя.
– Простите, Фира. Я засмотрелся. Не думал, что вы так талантливы. И еще вы… вы… прекрасны.
– Я вам гожусь в мамы, мальчик, – смеясь, сказала Фира.
– И в тетушки, и в сестры, и в племянницы. У меня никого нет. То есть есть, но так далеко, что словно бы и нет. Возьмете меня в родственники, Фира?
– Возьму! – снова рассмеялась она. – У меня тоже с родственниками напряженка. Вроде и есть, и нет. Чужие. А этот Ксан Ксаныч – ваш родственник?
– Это мой учитель, – серьезно сказал Одя и почувствовал тепло в груди. – Вот же он!
Он вытащил из кармана фотографию Либмана, подаренную придурком, которую всегда с тех пор носил с собой. Она его грела.
– Видите как… – Фира глубоко вздохнула. – Я ведь его знала… Давно. У вас, Володя, действительно интуиция… У него был друг… Но это совершенно не важно. Лучше я поимпровизирую на его тему.
Одя даже не успел выразить свое изумление, как Фира начала свое колдовское действо – работу над портретом Либмана. Она рисовала его, как в трансе, приплясывая и что-то напевая, но не веселое, а заунывное, протяжное. Учитель предстал на акварели сумрачным Богом, изведавшим все яды людских отношений, все хитросплетения лжи, все бедствия несправедливости, весь абсурд измен и ухода любимых. Он был мрачен, и вид его говорил, что больше всего ему хочется «закрыть лавочку». Да он и в самом деле уже начал свертывать небеса, как свиток, коснувшись рукой черно-белых грозовых облаков. И сами черно-бело-синие краски акварели разили, как молния, насквозь просвеченные скрытым таинственным электричеством.
– Я и не думал! – Одя опять запищал, потеряв равновесие. – Отдайте, отдайте мне, Фира! Я покажу Ксан Ксанычу, а потом вам верну!
– Можете не возвращать! – Фира сделала такой жест рукой, как улетающая птица крылом. И птице, и Фире ничего не было жаль.
– Да, я теперь понимаю, что вы его знали. И как знали! Но, Фира, он у вас похож скорее на другого человека…
– Игоря? – устало спросила Фира.
– Вы и Сиринова знали?
– В доисторические времена.
– Он сейчас в Москве… недавно приехал, – проговорил Одя, стараясь не смотреть, как меняется лицо у Фиры – вспыхивает, бледнеет, как она в волнении кусает губы…
И тут раздался звонок.
– Это он! – в ужасе проговорила Фира. – Я чувствую! Знаю! Я не возьму трубку!
– Возьмите же, Фира!
Одя подбежал к телефону, снял трубку и подал ее застывшей Фире. Она приложила ухо к трубке и с минуту молча слушала. Потом сказала звенящим голосом, зло и надменно:
– Я не хочу тебя видеть. Никогда. Ты слишком поздно обо мне вспомнил.
И повесила трубку.
– Это Сиринов? – спросил Одя, прекрасно понимая, что о таких вещах не спрашивают.
Фира не ответила, села на продавленный диван, стоящий в углу, и разрыдалась. Одя стоял рядом, не понимая, что делать. И сделал самое бестактное – задал вопрос, который его мучил:
– Фира, простите, но неужели вы от него ушли… из-за этой диссертации, которая… ну, которую ему не дали защитить?
– Кто вам сказал?
Теперь она и с Одей разговаривала зло и надменно.
– Ушла, потому что ушла. Потому что захотелось, поняли, глупый мальчишка? Кто в силах удержать любовь? Надеюсь, читали Пушкина? Надоел этот бесконечный сумрак. Надоело, что небо вот-вот упадет на землю.
– Да, мой Учитель – совсем другой, – вклинился Одя. – Он веселый, жадный до жизни, он эпикуреец по привычкам, хотя и живет очень скромно. Странно, что он одинок.
– До сих пор? – тихо спросила Фира, выглядывая из своего угла.
Одя встрепенулся.
– А вы… Вы, случайно, не та?..
Он смутился и замолчал.
– Я совершенно не та! – сердито отрезала Фира. – И вообще, глупый мальчишка, вы мне надоели. Я от вас устала.
– Ухожу, – смиренно проговорил Одя и исчез, прижимая к груди завернутую в газету акварель…
Одя долго звонил в дверь, но Учитель и не думал открывать. Неужели ушел? Внезапно дверь распахнулась. Одя подумал, что это Либман его впускает, но не тут-то было! Из квартиры Учителя резво выбежал Сиринов. Он был в таком состоянии, что, столкнувшись лицом к лицу с Одей, его не узнал и быстрыми шагами гулко побежал вниз по лестнице, пренебрегая лифтом. На одной из ступенек он приостановился, повернулся лицом к Оде и громко выкрикнул:
– А, это вы опять? Не к добру встречаемся!
И побежал дальше. Одя, до того все еще окрыленный встречей с Фирой, теперь совсем сник, растерялся… Но дверь была распахнута, и он вошел.
Учитель стоял у ночного окна, отвернувшись от двери и повернувшись к окну лицом, в излюбленной «чаадаевской» позе.
– Это я! – смешно пискнул Одя. Он уже ничего не мог поделать ни со своими нервами, ни со своими голосовыми связками.
Ксан Ксаныч не откликнулся, не повернул головы.
– Знаете, Володя, зачем он приходил? – спросил он, все так же не поворачиваясь.
– Неужели за рукописью? – пискнул Одя.
– Вы поразительно догадливы, – донесся до него голос Ксан Ксаныча.
– И вы отдали?
– Я сказал, что выбросил ее в мусорный бак у нас во дворе. Ему была не нужна и мне – тем более.
– Скорее скажите, в какой бак! Я вытащу, пока мусор не увезли. Отмою, очищу. Только скажите где!
Оде до слез было жаль этой рукописи, бесхозной, скитающейся, никому не нужной.
– Глупый вы, Володя! Хотя и умный вроде бы, – рассмеялся Учитель. – Вовсе я ее не выбрасывал! Просто хотел его проучить. С такой легкостью бросаемся всем, чем одарила судьба, – талантом, дружбой, замечательной женщиной…
– Я только что был у нее.
Одя хотел бы произнести эти слова солидно и важно, но пискнул выше и пронзительнее прежнего – и все от волнения!
– У кого вы были? И почему вы все время такой взъерошенный?
Учитель не смотрел на Одю, но как-то чувствовал, что тот «взъерошенный».
– У Фиры был.
Ему наконец удалось произнести фразу почти нормально.
Учитель рывком повернулся к Оде.
– Как? Где вы ее нашли? Я все время ощущал, что она где-то рядом… Сиринов мне, до того как попросил отдать рукопись, все заливал про свою Кларочку. Они даже ребенка запланировали: при нынешних технологиях можно в любом возрасте – имей только деньги. А эта Кларочка, кажется, из богатеньких. И все так важно, с такой значительностью. Это ты, мол, тут сидишь кулек кульком и думаешь, что все с тобой кончено. А у нас если и не начинается, то движется в правильном направлении – бизнес, карьера, детишки. Дети, думаю, нужны Кларочке для укрепления брака. Без них он подвержен катаклизмам. А, Володя, как считаете? Вот у Сиринова и Фиры детей не было – может, она из-за этого ушла? Я никогда ничего не понимал в жизни женщин, в их мышлении… Нет, это все же непостижимо – как вы ее нашли? Видите, Володя, я все откладываю ваш рассказ, а сам в нетерпении. Мороженое откладывал в детстве на потом – очень его любил, а покупали редко. Жили плоховато. Мне очень, очень любопытно. Вы даже не представляете как.
Одя не заставил себя просить дважды. Ему самому не терпелось все рассказать Учителю.
– Увидел совершенно случайно. На Чистых. То есть на Чистых прудах – на бульваре. Напросился к таинственной незнакомке в гости. Посмотреть картины в мастерской.
По лицу Либмана скользнула тень не то недовольства, не то недоумения. Но тут же он вновь улыбнулся.
– Она… Она выглядит такой юной, что к ней можно запросто подойти на бульваре?
– Не знаю, – честно признался Одя. – Не знаю, юная она или нет. Но на нее хочется смотреть. С ней интересно разговаривать и хорошо молчать. И еще она ужасно талантлива!
Тут Одя жестом фокусника (или волшебника?) развернул газету и выложил на стол акварель.
– Ваш портрет работы Фиры.
Либман стремительно схватил акварель обеими руками, секунду вглядывался и произнес сокрушенно:
– Это не я. Это Игорь.
– Она делала по вашей фотографии!
– И все равно получился он! Вот, сравните!
Учитель приложил акварель к стене у камина, где висела Леночкина акварелька. И впрямь на ней Либман был сама природа, веселость, естественность. А тут торжествовал холод и мрак завершения исторического процесса, конца времен.
Одя и сам понимал, что Учитель прав (и ведь даже говорил об этом Фире), но все же возразил с отчаянной интонацией:
– Фира рисовала вас! А с Сириновым она не захотела разговаривать.
– Как это? – заинтересовался Либман.
– Сиринов позвонил ей по телефону, а она сказала, что не желает с ним встречаться.
– Дается же вам все увидеть и услышать, – устало проговорил Либман. И пробормотал себе под нос: – Там получил отлуп, и у меня отлуп. Можно посочувствовать.
Открыл какой-то ящичек в столе, достал гвоздик и молоток и повесил Фирину акварель рядом с Леночкиной – над горящим камином.
– Может, и это у меня есть, – бормотал он, – и даже наверняка есть! Вся палитра человеческих эмоций – от приятия до отказа!
– Есть, и это есть! – радостно повторял Одя, подпрыгивая вокруг Либмана. – А знаете, кто ее выселяет из мастерской?
Одя был буквально напичкан интересными для Учителя подробностями и очень радовался этому обстоятельству.
– Ее выселяют из мастерской?
– Ну да! И я знаю кто. Догадайтесь с трех раз!
Либман хлопнул себя по лбу и расхохотался.
– С одного раза догадаюсь! Кто все вокруг уничтожает, причем исключительно ценное, нужное, уникальное? Господин Акинфеев, кто же еще?!
– Акинфеев Р. И., – радостно подтвердил Одя. Его голос был теперь немного хрипловат, но благородного баритонального тембра.
Либман застыл на миг с молотком в руке, словно бог Гефест у наковальни, только Учитель был мощнее сложением и открытее нравом.
– Володя, я считаю, что нам следует взглянуть на эту фантастическую личность. А, как вы считаете?
– Непременно!
– Адрес знаете?
– Заучил наизусть, как стихи!
– Тогда назначаю нашу встречу на десять часов в воскресенье. В сквере возле моего дома… А (тут Либман немного смутился) вы не могли бы, Володя, пригласить Фиру? Что, если и ей захочется присединиться к нашей компании? В воскресенье, правда, чиновники не работают. Но вы ведь поведете нас к нему домой?
– Я по… попробую позвать Фиру, – с запинкой произнес Одя. Он был убежден, что она откажется. Но интуиция на сей раз его обманула.
Фира согласилась.
Одя пришел к ней в мастерскую с букетиком тех желтых цветов, которые так не любил один крупный российский писатель, предпочитая им классические розы. Но розы Одя преподнести постеснялся, да и денег на них не хватало. Фира обрадовалась цветам.
– Ах, мимоза, да какая пушистая! Скоро весна?
Последнюю фразу она произнесла вопросительно, словно о скором пришествии весны не догадывалась или подзабыла.
– Ну да! – обрадовался Одя. – Пойдемте, Фира, с нами на поиски Акинфеева, а? Я имею в виду себя и Ксан Ксаныча Либмана. Мы с ним уже договорились.
– Непременно пойду! – Фира обрадовалась не меньше Оди. – Надоело сидеть в мастерской, в четырех стенах. А квартиру свою я и вовсе не люблю. Там совсем пустыня, тут хоть картины. Нужно же и на людей поглядеть, и себя показать!
Фира кокетливо покружилась перед зеркалом. Она была в простой одежде – темной блузке и синих брюках, но Одя все время мысленно примерял к ней корону – принцесса, царица! Она успела поставить веточки мимозы в банку с водой и принялась их рисовать. В ее голосе и поведении ощущалась какая-то лихорадочная возбужденность.
– Не уверен, что Акинфеев – человек, – проговорил Одя. – А вот Ксан Ксаныча увидеть всегда приятно. Мне, во всяком случае.
И взглянул, замирая, на Фиру.
– И мне очень приятно, – просто отозвалась она.
Одя обрадовался и загрустил. Его мучили противоречивые чувства – радость за Учителя и что-то похожее на ревность. Ему не хотелось делиться Черной Шапочкой даже с Учителем…
…Фира с Либманом шли впереди, Одя едва поспевал за ними – так они разогнались. Оба были высокие и длинноногие. Одя – тоже высокий и длинноногий, но худющий и неловкий. А они – почти летели! Как он им завидовал, как он хотел, чтобы они его подозвали, заговорили с ним, ободрили… Он казался себе третьим лишним…
Легковая машина, остановленная возле либмановского сквера, домчала их до Чертановской. Расплачивался Либман, который властно пресек все попытки Фиры и Оди расплатиться с шофером вместе с ним. Все трое были из породы малоимущих, но шикануть любили.
На Чертановской снег никто не убирал, и он, подтаяв, застыл скользкой коркой. Дворники-тюрки, собравшись в кружок, только еще готовились расчищать снежные завалы, провожая необычную троицу безразличными печальными глазами. Одя подумал, что мысленно они у себя на родине и тут им ничто не интересно. Он на всякий случай вынул из кармана бумажку с адресом, хотя помнил его и так. Снял очки, протер варежкой, потом снова надел.
– Куда вы? – отчаянно крикнул вслед все дальше уходящим (улетавшим!) Либману и Фире. – Дом номер двадцать один должен быть по левой стороне!
Но те или не слыхали его крика, или же им было абсолютно все равно, где находится этот злополучный дом. Они все так же шли по правой стороне улицы, держась за руки, как подростки. И при этом они молчали. Одя видел – они молчали и при встрече, и по дороге сюда. Иногда Фира, повернув в сторону Оди разгоряченное лицо, спрашивала у него какую-нибудь ерунду. А он ревновал, радовался, злился. Это их молчание было красноречивее и страстнее любых слов!
– Дошли? – радостно крикнула Фира, помахивая Оде свободной рукой в кожаной перчатке.
– Не уверен, – буркнул Одя.
Он окончательно расстроился. Он любил Учителя и любил Фиру. Они стали для него близкими людьми. Но теперь они удалялись от него, он стал им не нужен. А с кем же остается он? Неужели только с сердобольной соседкой тетей Катей? И ведь это он, он их свел – какой же осел!
Дом номер двадцать один должен был находиться на Чертановской улице непременно. Ведь Одя самолично видел таблички соседних с ним домов – девятнадцатого и двадцать третьего. Однако этот злокозненный дом отсутствовал. Раздосадованный и обескураженный Одя стал спрашивать о пропавшем доме у всех подряд – дворников, прохожих, мамаш с колясками, старушек на скамейках. Он, кажется, готов был спросить о нем и у бредущих за ним трех худых бездомных собак, которые, умей они говорить, наверняка бы ответили – так заинтересованно и преданно они за ним шли. Три громадные желто-серые дворняги с доверчивыми и немного испуганными мордами.
Дома номер двадцать один, вопреки всем правилам логики и градостроительства, на улице не обнаруживалось. Исчез.
Фира и Либман были полностью погружены в свое странное страстное молчание, и их это отсутствие, казалось, совершенно не занимало.
– Его нет! – сказал сам себе Одя и нахлобучил поглубже енотовую шапку.
Собаки остановились и с интересом за ним наблюдали.
– Мифическая личность! Фикция! – выкрикнул с другой стороны улицы Либман, повернувшись к Оде. – Я так и предполагал!
И громко отрывисто расхохотался, нарушив окружавшую их с Фирой тишину, – так что Фира вздрогнула, словно очнувшись от сна, и взглянула на него с недоумением. В ту же секунду она выдернула руку из его руки и стала ею поправлять черную шапочку с серебристым ободком. Рука Либмана тревожно искала ее руку, но Фира все поправляла и поправляла шапочку…
– Нет дома? Или нет господина Акинфеева? – выкрикнула Фира, тоже повернувшись лицом к Оде. В голосе и в лице читалось раздражение.
– Ничего нет! – глупейшим образом ответил Одя.
– Вот как? Нас выселило из домов, из мастерских, из нашего мира какое-то мифическое лицо, подпоручик Киже, – заключил Либман и хотел было снова расхохотаться, но оглянулся на раздраженную Фиру и сдержался.
– Сиринов никогда не смеялся, – сказала она едко.
– А что мне ваш Сиринов? – в голосе Либмана тоже прорезалось раздражение. – Что он, Господь Бог, чтобы не смеяться? А вот я, Александр Либман, люблю посмеяться, даже похохотать. Знаете, такой безудержный «чревный» смех?!
– Сиринов не смеялся, – не слушая, продолжала Фира, – он только издевался и иронизировал. Над всем. Я устала от этой иронии. Мне хотелось чего-то более простого, человеческого…
– Но и мой смех вам не понравился, – тихо проговорил Либман. – Не возражайте. Я понял.
Но Фира и не думала возражать. Молчала, опустив голову и разглядывая под ногами грязноватую льдистую корку. А руки держала в карманах пальто. Той же дорогой пошли назад. Впереди теперь брел Одя, Фира за ним, а Либман за ней, сердито размахивая руками при ходьбе. Одя на них оглядывался и невесело усмехался. Глупые люди! (А ведь умнейшие и талантливейшие!) Наконец-то нашли друг друга, но готовы снова разбежаться из-за какой-то чепухи, из-за смеха!
В начале улицы располагался мясной ларек. Одя попросил продавщицу взвесить три говяжьи сосиски – только побыстрее! (А то еще убегут!) Продавщица глядела на него с ужасом.
– Сырыми будете есть? – спросила брезгливо, видя, как он снимает с них оболочку.
– А как же!
Одя нашел место почище, положил сосиски в снег и свистнул трем дворнягам. Они на секунду застыли и вдруг быстро-быстро подбежали к сосискам, и каждая схватила в зубы по одной, не посягая на долю другой. Если бы и люди были столь благородны! Собаки убежали, унося в зубах свою мелкую добычу, которая, как с грустью думал Одя, едва ли утолит их голод. Но что он мог для них сделать? И что он мог сделать для двух этих безумных людей, встретившихся, казалось, для вечного счастья и вот уже расстающихся – расстающихся, кажется, навсегда?!
К Оде подбежал хулиганистого вида подросток.
– Вам какой дом нужен? Двадцать первый? А его слили с двадцать третьим! Слева до арки один, а после – другой.
– А где же табличка с номером?
– А мы все и так знаем, – ответил подросток обезоруживающе просто.
– Вернемся? – повернулся к спутникам Одя.
– Нет, нет, – нервно поеживаясь, проговорила Фира.
– Не стоит, – подхватил Либман. – Мы все и так поняли.
Он остановил такси и сел с шофером. Сзади разместились Фира с Одей. Сначала довезли до дома Фиру. Потом доехали до дома Учителя. Одя вышел с ним вместе и добрался до своего дома частично пешком, частично на троллейбусе…
На следующий день (был понедельник) Одя сам поехал на Чертановскую улицу. Всю ночь она ему снилась. Ему снилось, что он, уже достигнув акинфеевского логова-жилища, все же поворачивает назад, а Акинфеев в облике не то Змея Горыныча, не то древнерусского Скомороха, делает ему, высунувшись из окна, страшные и дурацкие рожи.
Было ясно, что в понедельник с утра Акинфеева Р. И. дома не застать. Но ведь и поездки в любые другие дни недели могли быть неудачными (что доказала их прошлая поездка). Заложенный в генах Оди инстинкт завершенности властно требовал, чтобы он исчерпал этот сюжет и хотя бы попытался к Акинфееву прорваться.
Дом номер двадцать один (после арки) был совсем ветхий, запущенный. Вход в подъезд – свободный, хотя уже везде в Москве либо сидели злющие консьержки, либо были домофоны. Все это приводило к мысли, что адрес фиктивный. Одя поднялся на третий этаж пешком (он боялся незнакомых лифтов, его нетерпеливая нервная натура не вынесла бы сидения в застрявшей «одиночке» лифта, а этот был допотопной конструкции, с громоздким и гулким ажурным металлическим каркасом).
«Не может, не может быть!» – настраивал он себя на очередную неудачу. Приблизившись к необитой двери (не может быть!), он позвонил. Ему открыли, даже не спросив, кто он и что ему нужно, – что было неправдоподобно, как в сказке. Открыл какой-то высокий всклокоченный черноволосый до синевы молодой человек с покрасневшей правой щекой. Одя мгновенно представил, как он только что читал книгу, опираясь о щеку рукой. У него самого была такая же привычка.
– Вы кто? – с выражением надменного недоумения спросил открывший. (Надменность была несколько наигранной.)
– А вы, случайно, не Акинфеев? – спросил Одя, тоже с недоумением на лице, но не надменно, а несколько глуповато – от растерянности.
– Я Акинфеев! – еще важнее произнес юноша.
– Не может быть! – выпалил Одя фразу, которая крутилась у него в голове.
– Почему не может быть? – Юноша выпятил губу. – Я Акинфеев Петя. (Сама детски-простодушная форма имени мгновенно подсказала Оде, что важность у его владельца напускная.) А вы, должно быть, к дядюшке? Но он тут не живет. Да и не жил никогда.
– Так вы… Простите, что вы читали перед тем, как открыли дверь?
Вопрос был совершенно дурацким. Но ведь дурацким было все, что предпринимал Одя. И Учитель поощрял его на этом пути «детской» спонтанности, следования интуиции…
– А откуда вы узнали, что я что-то читал? – с подозрением спросил юноша, приглаживая свои жесткие волосы, из-за чего они и вовсе встали дыбом.






