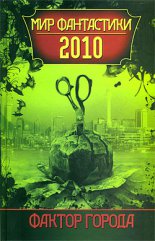Вкратце жизнь Бунимович Евгений

То, что Ерема был выбран королем поэтов, знают все, а то, что я занял второе место, наверное, только я один и помню. Это справедливо, в турнире важен чемпион, победитель, даже когда это турнир поэтов и игра имеет ореол андеграундного инакописания. Я бы и сейчас не напоминал, но это знаковая ситуация, для меня естественно быть вторым. Я просто в какой-то момент ее осознал. От рождения – ведь я второй ребенок, младший брат. Это повторялось не раз в жизни. В самых разных ситуациях, в самых разных областях – не буду утомлять перечислением. Правда, первые часто меняются. Это так, это реальность, в которой немало и достоинств.
В. Это позиция, позволяющая чуть больше наблюдать.
О. Это позиция, позволяющая чуть больше оставаться собой.
В. А сын? Каким он был? Как реагировал на мир поэтов?
О. С сыном все было ясно и просто. Это был математик от рождения, и тут все мои литературные потуги не имели никакого смысла. Когда во мне просыпалось острое родительское чувство, я вечером подходил к кроватке и предлагал:
– Давай я тебе почитаю перед сном сказку какую-нибудь – Мальчика с пальчика там, Золушку.
Данила отвечал:
– Папа, лучше прочитай мне, пожалуйста, схему метро от станции Беляево до станции ВДНХ.
У нас был аттракцион, от которого все наши друзья-поэты балдели, и не только поэты. Назывались наобум любые две станции метро, и этот карапуз без схемы, по памяти сообщал, как проехать, включая все пересадки.
Еще помню, мы спускались в лифте, он смотрел на кнопки с цифрами от шести до единицы и спросил:
– Папа, а что дальше?
Я вынужден был объяснить, что такое ноль, отрицательные числа. Его математичность, любовь к знаковым системам была очевидна, сопротивляться не имело смысла.
При этом, естественно, все окрестные поэты тусовались у нас дома, мы брали его с собой на встречи и выступления, Данила знал и слышал всех. У Наташи, когда она укладывала ребенка, была своя фишка, она говорила:
– Если ты будешь себя хорошо вести, я тебе почитаю перед сном стихи дяди Димы Пригова, дяди Игоря Иртеньева или дяди Еремы. А если ты будешь себя плохо вести, не будешь засыпать, то я тебе почитаю стихи дяди Вани Жданова или дяди Леши Парщикова.
Данила легко и отлично учился в первых классах, и все вроде были им довольны, но он приходил домой и говорил:
– Я больше в школу не пойду, не хочу.
Ему было скучно, на уроках нечего было делать. Еще в детском саду на открытом уроке для родителей он сначала бойко отвечал, но потом от скуки и безделья с грохотом свалился на пол, в проход.
Мы забрали его на домашнее обучение. Наташа бросила все свои дела и учила его дома, хотя все полагают, что этим я занимался. В итоге он и перепрыгнул два раза через класс и рано закончил школу. Это было не специально, просто они все сдали к январю, и мы поняли, что если Данила теперь почти год ничего не будет делать, то он окончательно забудет, что такое учиться. Поэтому надо было поставить новую цель, пришлось прыгать.
В. Вернемся к тому моменту, когда все те, кого Наташа перед сном читала и не читала сыну, стали клубом “Поэзия”.
О. Мне кажется, клуб “Поэзия” – это история про время, когда не только все сошлись, но и всё сошлось. Редко, но так бывает. Все светила выстраиваются в нужной конфигурации, все карты ложатся как надо, и уже не просто может что-то произойти, а не может не произойти. Странноватый молодой человек по имени Леня Жуков, которого никто до того не видел и не слышал, зарегистрировал невесть где, в Бабушкинском районе, в подвале за ВДНХ, некое объединение, клуб – в самые первые месяцы перестройки, когда это только стало возможно. И не вспомнить уже, как и почему вдруг все решили, что это будет клуб “Поэзия”. Помню только, как название на ходу выбирали, и в голову ничего лучшего не пришло.
Костяк клуба “Поэзия” в начале его недолгой жизни был из студии Ковальджи, не буду снова перечислять славные имена, но практически сразу пришли и все остальные. Это было время взаимопритяжения – мы и до того все были так или иначе знакомы, было много пересечений, но тут как-то все сразу объявились, много кто там появлялся, мелькал, примыкал, вступал и выступал.
Надо понимать, что, в отличие от весьма условных, но все-таки имеющих некие эстетические очертания поэтических групп из тех, что сформировали клуб “Поэзия”, – метаметафористов, “Московского времени”, московских концептуалистов и даже трудно определяемых полистилистов или “Эпсилон-салона”, – сам клуб “Поэзия” не имел явной и даже неявной эстетической платформы. Кроме разве что весьма условного и весьма значимого критерия качества текста, качества высказывания. Клуб был недолговечной и непрочной, но естественной и активной формой кристаллизации параллельной культуры, выходом уже не за, а к. В том числе – к читателю, хотя тогда еще – к слушателю. Публиковать нас еще не решались, а чтения-выступления более широкие и открытые казались возможными.
Аудитории были разные – маленькие, большие, но никогда – ни до, ни после – не ощущал я такой живой и в то же время адекватной реакции на каждое слово. А ведь звучала не только и не столько стихотворная публицистика, а непривычный, зачастую и просто сложный, текст. Тем более для восприятия на слух. Недолгое необыкновенное время, когда люди были готовы на усилие ради постижения.
В. Можем зафиксировать момент публичного появления клуба “Поэзия”?
О. Есть даже точная дата, можно найти. Начало осени 1986-го. Выступление в ДК “Дукат”. Несмотря на всю нашу безбашенность и организационную бестолковость, тут возникло ощущение, что это не просто так. Обычно наши выступления формировались на ходу, были чистой импровизацией. А тут мы собирались, обсуждали, и даже не раз – у нас, в моем пенале, кабинете на Патриарших, который размером два на четыре метра. Все-таки как туда все влезали?
ДК “Дукат” – банальный зал Дома культуры табачной фабрики, человек на пятьсот, неподалеку от все той же Маяковки. На входе была такая давка, что не протолкнуться – ни по билетам, ни без, ни даже участникам… Легенды бродят про конную милицию перед входом. Не видел. Хотя ментов для поэтического вечера было изрядно – все же не футбол в Лужниках.
Есть еще легенда, что кому-то из известных, кажется, Битову, разбили очки на входе. Все забываю его спросить. Вот дверные стекла выдавливали, они сыпались, бились – это видел. Фойе было все в бельевых веревках, где группа “Мухоморы” и примкнувшие к ним художники развесили свои творения, хотя в давке разглядеть что-либо было затруднительно.
На самом вечере я не только стихи читал, но и, как обычно на наших выступлениях тогдашних, вел этот вечер, представлял других. Когда в самом начале вышел на сцену, зал показался не привычным кубом, а переполненным раздувшимся шаром – повсюду сидели, стояли, забили все проходы, подпирали все стены, свешивались откуда можно и нельзя.
Между сценой и залом шла цепочка софитов, они снизу нас подсвечивали. После выступлений всех поэтов запустили финальный перформанс в исполнении нескольких ошалелых ребят, которых притащил, кажется, Пригов. По известной футуристической традиции они плеснули в зал водой, попали на эти лампы, которые задымили и начали взрываться. Сквозь дым мы увидели, как в двери зала ломится милиция, пожарные, они не без труда, через забитые людьми проходы, но все же неумолимо пробивались к сцене. Тут я вышел к микрофону и объявил: “На этой оптимистической ноте мы и заканчиваем наш вечер”. Публика пошла навстречу ментам и вынесла их из зала.
Потом Кирилл Ковальджи, который и за это безобразие отвечал как официальное литературное лицо, ходил объясняться по поводу этого вечера. Но это уже были судороги – в перестроечной суматохе они уже и сами не знали, как себя с нами вести.
“Немота одолела…”
В. Легендарный “Испытательный стенд” – это тогда же?
О. Годом позже. Наконец рискнули нас напечатать, да еще в журнале “Юность” с его тиражом тогдашним в несколько миллионов экземпляров. Но не в разделе “Стихи”, а под специально для этого придуманной рубрикой “Испытательный стенд”.
Я думаю, это последняя в русской поэзии (по крайней мере, по сей день) публикация, которая вызвала такую активную и массовую реакцию. Я зашел за авторскими экземплярами в редакцию, там стояли на полу в коридоре три больших холщовых мешка с письмами. И у меня спросили: “Может, заберете?” Я взял наугад несколько писем, которые сверху лежали. Там было и про гениально, и про чудовищно, и про наконец свежий воздух, и про похороны русской поэзии. Может, и надо было взять, сохранить хоть что-то.
Сразу же появились статьи в “Комсомольской правде” и еще в каком-то официозе, где было написано, что все мы – опавшие листья русской поэзии. Впрочем, номером раньше в той же “КП” про Бродского, получившего тогда Нобеля, тот же автор написал примерно то же самое. Но атмосфера все равно была уже иная. И уже достаточно было человека, который осмелился. Нас вдруг стали печатать из номера в номер в газете “Советский цирк” – была и такая отраслевая газета.
В. Представляю себе, как вы отшутились по этому поводу. Но я хочу сделать паузу, потому что у меня есть вопрос. Из всех тех, кто говорил про этот период и про эту когорту, никто не говорит о моменте, когда все начало остывать. И мне кажется почему-то, что у вас я могу про это спросить, потому что вы умеете смотреть со стороны на ситуацию. Про это никто не рассказывает: когда появилось ощущение, что все это остывает, исчерпывает себя.
О. Еще только начало разогреваться, как начало сразу и остывать. Нас не зря называли еще и “задержанным поколением”, причем называли не те менты, которые задерживали – физически (как Ерему на нашем выступлении в театре “Сфера”), а их литературные соратники.
Клуб “Поэзия” – это, конечно, момент выхода “задержанного поколения”. Но именно – момент.
Многие пришли в клуб “Поэзия” с самыми, может быть, знаменитыми впоследствии своими текстами. Ситуативные центростремительные силы вскоре сменились более естественными для поэтов центробежными. Внутренне состоявшимся и состоятельным литераторам оказалось достаточно одномоментного общего импульса, и вскоре литературная судьба стала у каждого своей. Индивидуальной. Штучной.
Кстати, первыми отвалили примкнувшие было художники. Но тут другое. В полуподвальные полуподпольные мастерские (там и мы некогда стихи читали, и тогда были все вместе – нищие поэты и нищие художники) валом повалили коллекционеры, меценаты, кураторы, галерейщики, они скупали все на корню, мастерские опустели, художники как-то резко разбогатели и одновременно по миру пошли – в смысле, разъехались по столицам мировым. С поэтами такого не случилось – стихи всегда мимо денег.
В. Вот когда я говорю с вашими друзьями и коллегами в том же формате, там ощущение, что сама логика структурирования – что в ней неправильный пафос. Не могу объяснить.
О. Даже не пафос, хотя и это. В самом структурировании пространства поэзии есть отчетливое ощущение потери подлинности. Выстраивание, структурирование, иерархия – что-то в этом заведомо ложное, чего, видимо, инстинктивно сторонились.
Вот смотрите: фактически каждый из тех “опавших листьев” не сгнил, состоялся, был услышан – ну да, плеяда, когорта, поколение, как хотите назовите. Но никак не структура. Нет никаких вторичных признаков. Не было у нас никогда, нет и, наверное, уже не будет ни своих журналов, ни своих издательств. И не только в ту давнюю пору, когда все было закатано в асфальт.
И никто ведь громогласно не декларировал отказ – в этом свой ложный пафос. Напротив, изредка говорилось “а может…”, “хорошо бы…”, “давайте…” – и на этом все заканчивалось.
Единственное наше печатное издание, которое помню – газета “Благонамеренный кентавр”, в начале девяностых вышел один, нет, два номера. Несколько раз возникали идеи издать хотя бы сборники или антологию клуба “Поэзия”, однажды даже собрали, макет был, но как-то все ушло, рассыпалось, растворилось. Я не думаю, что это случайно.
В. А сам клуб?
О. Дружеский круг еще некоторое время удерживал нас при всей центробежности. Ядро клуба сохранялось в основном благодаря Нине Искренко, длившей своей энергией общее существование “в режиме бродячей собаки” (так это тогда именовалось). Каждый год происходили непременные открытия и закрытия сезона, обычно на сцене студенческого театра МГУ. Иногда акции литературные были невесть где – в метро, в палеонтологическом музее среди птеродактилей, в очереди в первый свежеоткрытый “Макдональдс”. В этих акциях главным было уже не качество текста. Нина была мотором, но и она чувствовала исчерпанность, называла наши встречи периодом “коллективных бездействий”. Это было уже не всегда так ярко и празднично, как хотелось. Праздник казался уже не таким праздничным, и веселье не таким веселым. Мы созванивались с Юрой Арабовым, Марком Шатуновским, в очередной раз не знали, идти – не идти.
В. Старше становились.
О. И это. Ведь “молодыми” в советское время называли поэтов любого возраста, которым был перекрыт выход в печать. Появились публикации, первые тоненькие книжки, но сразу – избранное, ведь накопилось много. К первым публикациям полагались небольшие напутствия, предисловия, врезки. Это был театр абсурда, все перепутались – где мэтры, где дебютанты. Пригов написал большой текст перед моими стихами для журнала “Театр”, а я ему – почти тогда же, по-моему, – для его публикации в “Новой газете”…
А еще в это время бренды “андеграунд”, “неофициальное искусство”, “параллельная культура” стремительно теряли знак качества. Собственно, ведь в самиздате, как и в Госиздате, появлялись книжки очень разного уровня. А когда еще все это стало на какое-то время модным, и все стали рассказывать, как их обижали, не печатали, не показывали, и в каждом захолустном выставочном зале развесили что-то как бы прежде запретное… Было ощущение кризиса.
Но гораздо более глубокий и серьезный кризис был в другом. Немота одолела. Замолчал Ерема, Ваня Жданов. Парщиков уехал. Гандлевский всегда был малословен. Рубинштейн читал старые вещи. У каждого, наверное, может, в разной степени, но было это ощущение стремительно меняющейся реальности, смазанности и даже обрушения привычной системы координат, необходимости смыслового, ритмического, языкового расширения. Просто люди были с абсолютным поэтическим слухом, и поэтому написать просто, чтоб написать, – такое было невозможно. Но немота – это мучительно.
В. В том числе у поэта Евгения Бунимовича?
О. Ну да. Не то, что не можешь написать, не в этом дело. А ощущение необходимости чего-то иного. Если посмотреть по датам, по текстам, я думаю, это заметно. В этой ситуации еще хуже, это если продолжаешь писать – по инерции. Так тоже делали. Но немота – была. Дыра. Кризис. Не писалось. Понятно, во что уходили. Запои, буйство, наркота – не мое. Может, и последовавшее депутатство мое – чтоб внешней, общественно-вроде-бы-полезной деятельностью заткнуть эту дыру.
Однажды ночью в дверь позвонил Саша Еременко:
– Пошли, будем жечь мою книгу.
Непохоже было, что он пьян.
– Хорошо, погоди минуту, сейчас приду.
Я взял пару бутылок водки, пачку только что вышедшей моей книжки, вышел.
Про бутылки Ерема ничего не сказал, а про пачку мрачно спросил:
– А это что такое? – Похоже было, что от самого вида книг его мутило.
– Это моя, – говорю, – на растопку пойдет.
И мы к нему пошли, благо жил он неподалеку. Во дворе показал место для костра.
В комнате у него лежал весь, наверное, тираж его только что вышедшей книги, которую я еще не видел. Я почувствовал свою высокую миссию, что надо Ерему отвлечь. Пили мы всю ночь. Почти не говорили. Лопались мозги, но голова в таких случаях у меня не отключается. Могут ноги не идти, я могу вообще быть еле живой, но голова не отключается. Напиваться бессмысленно, к сожалению. И во мне сидела эта задняя мысль, что надо его отвлечь. К утру вырубились. Тираж так и не сожгли.
Все вроде получилось, книга была спасена. Теперь думаю – зря. Это я был дурак с высокой гуманно-гуманитарной миссией, а Ерема, как всегда, был прав. Потому что первая книжка Александра Еременко должна была стать бомбой. А это было время, когда все уходило в вату, в труху.
Это было время внешних вроде бы достижений – книги выходили, переводы, антологии, приглашали на международные фестивали, премии вручали – и внутреннего дискомфорта.
Нина Искренко была уже мучительно и смертельно больна. С Нининой смертью в 1995 году закончился и клуб “Поэзия”, и наша затянувшаяся поэтическая молодость. Постепенно начала выстраиваться какая-то иная жизнь.
Сын закончил университет, женился. Я стал колумнистом только появившейся тогда “Новой газеты”, написал и выпустил десяток школьных учебников и задачников по математике, неожиданно для всех и для самого себя пошел на выборы в Московскую думу. Выиграл, депутатом стал. Отца похоронил. Три срока в Думе отмотал. К стихам в какой-то момент вернулся. Это все еще не кажется мне вчерашним днем. Это еще не моя биография. Это я такой, каким стал.
Три рассказа про поэтов
Чувство прекрасного
1
Я ушел из дома неизвестно куда. То есть самому мне тоже было неизвестно – куда. Где ночевать? Где жить?
Город большой, друзей много. Очень большой. Очень много. Устроится. Найдется.
Безличная форма глаголов успокаивала.
Саднило другое. Тяжелая, безысходная ссора с родителями.
Мы жили все вместе – родители, семья старшего брата с двумя маленькими детьми, еще и мы с Наташей и Данилой трех лет от роду. И не было никакой возможности жить самим, отдельно.
Почему нам нельзя было жить отдельно – долго объяснять.
(Конспективно: брат с семьей был прописан у бабушки в комнате на Патриарших – они стояли оттуда в очереди на получение квартиры. Соответственно, в нашей чертановской на всех числившихся получалось площади достаточно (по тогдашним меркам), больше не положено. Я не имел права даже “вступить в кооператив”, то есть купить квартиру за свои деньги – брать которые тоже было неизвестно где, но это уже было и не важно, раз все равно нельзя. Не поняли? Не пытайтесь. Советские законы. Театр абсурда.)
У Наташи с ее мамой была схожая ситуация. Тупик. Единственный был выход – размен квартиры, чтоб у нас была хотя бы одна комната, но своя.
Родители не хотели разменивать квартиру, они хотели жить с нами. А мы хотели жить сами.
В общем, ушел. Наташу с Данилой оставил в заложниках. Брать их с собой в никуда не решился – пока не нашел, где нам жить. Да и сын там ходил в детский сад, а в другом месте устроить его в сад было нереально.
Поехал на Патриаршие. Не знаю толком зачем. Просто любил эти места с детства. Вышел на Пушкинской. В одном из двориков на углу Бронных (Большой, которая поменьше, и Малой, которая побольше) увидел за деревьями странных зеленых человечков. В колпаках с бубенчиками.
Доигрался. Средь бела дня такое мерещится.
Шел куда глаза глядят, а глаза в итоге глядят на зеленых человечков с бубенчиками! Бежать от наваждения не оборачиваясь…
Но левое полушарие мозга (которое абстрактно-логическое и рационально-математическое) не позволило правому капитулировать перед необъяснимым. Надо разобраться, понять, что со мной. Если что, поликлиника – вот она, рядом, да и аптека недалеко. Бегал бабушке за лекарствами, знаю.
Если что?
Осторожно приблизился. Один из торопливо и нервно куривших зеленых человечков показался знакомым.
Виталик? Того хуже.
Бред наяву, да еще визуально-конкретный. Измененное сознание. К черту оба полушария. Отмахнуться, бежать, капитулировать.
Зеленый человечек, который Виталик, приветственно замахал мне обеими руками.
Ну да, конечно, это был он – даже руками махал не как все, а крупно, нарочито, по-актерски.
И на том спасибо. Хотя бы не визуальный бред, не белая горячка. Детский спектакль с утра пораньше. “Волшебник Изумрудного города”. Массовка, выскочившая в антракте во внутренний дворик – покурить.
2
С Виталиком мы познакомились за пару лет до того на организованной властями “встрече творческой молодежи”, для которой нас специально отвезли в подмосковный Дом творчества.
Предложение поехать исходило от того самого комсомола, из которого меня прямо перед тем активно выгоняли. Причем не за что-нибудь пристойное, за пьянку там или аморалку, а за политику.
Наташа сказала: “Зря отказываешься. Поехал бы на пару дней – хоть отоспишься”.
Даниле было месяца три, не больше, орал он ночами нещадно, а поутру надо было ехать в школу – учительствовать.
На первых уроках глаза слипались, язык с трудом поворачивался. Спасал себя тем, чем мучил окружающих: давал детям бесконечные самостоятельные и контрольные.
Для мыслей о высоком предназначении, о незапятнанной репутации андеграундного поэта, представителя параллельной культуры, места в бессонной голове оставалось все меньше. Я малодушно согласился.
В школе меня отпустили, поскольку бумага была из ЦК комсомола. (“Так вы комсомолец?” – удивленно спросил директор школы. Я неопределенно пожал плечами.)
На рассвете прибыл на побывку к воротам комсомольского дома в Колпачном переулке, где незадолго до того меня и выгоняли. Явился вроде на рассвете, но все равно опоздал.
Декабрь. Снег. Темно. Холодно. “Зайдите в здание, там уже выступает секретарь ЦК, потом вы все садитесь в автобусы и едете”.
Вдоль переулка в ожидании творческой молодежи томились пустые автобусы с опознавательными надписями на ветровых стеклах: “композиторы”, “художники”, “артисты”.
Обнаружил автобус с биркой “писатели”, залез, добрался до заднего сиденья, отключился.
Проснулся от натужного чихания нашего с трудом заводившегося автобуса. На моем плече спал некий субъект, которого тоже вскоре разбудил внезапно оживший автобус.
Познакомились: Климонтович, Коля, прозаик. Позже узнал, что он закончил ту же, что и я, Вторую математическую школу – на пару лет раньше. Разминулись.
Автобус постепенно заполнялся прослушавшими напутственную речь. Заглянувший к нам сопровождающий, раздавая листочки с программой, торопливо сообщил, что место, куда поедем, хорошее, номера на двоих, кормить будут, развлекать тоже. Строго напомнил про сухой закон. Никто не засмеялся.
К сожалению, я знал практически всех входивших в автобус писателей, поэтов и драматургов. Селиться в номер было не с кем. Эта пьянь выспаться не даст. Новый знакомый, Климонтович, тоже доверия не вызывал, сам был с очевидного похмелья. Планы рушились. Незапятнанная андеграундная репутация сливалась псу под хвост.
И тут в автобус вошел незнакомец из какого-то иного мира: свежий воротничок из-под свитерка, курточка аккуратная, спортивная сумка в одной руке, ракетки для бадминтона в другой.
Посреди хмурого декабрьского утра ракетки показались не совсем чтобы уместными, но как утверждал популярный тогда шестидесятнический слоган, “Имеющий в руках цветы другого оскорбить не может”. А имеющий в руках ракетки для бадминтона не должен был квасить по ночам и, обливаясь кровавыми слезами, бить себя в грудь, что неизбежно будут проделывать остальные мои попутчики. Вот с кем надо селиться! Этот будет спать здоровым спортивным сном!
Бадминтонист вежливо поздоровался со всеми сразу. Из чего следовало, что он никого здесь не знал. Я высвободил плечо из-под головы вновь задремавшего Климонтовича, установил его голову по возможности вертикально и пошел знакомиться с неведомым бадминтонистом, служившим, как выяснилось, артистом у опального Эфроса, но сочинившим пьесу – после чего его и отправили на встречу молодых творческих работников уже не как артиста, а как писателя.
Кортеж наконец тронулся в путь.
Спереди милицейская машина с мигалкой и крякалкой, за ней цепочка автобусов с торопливыми табличками на ветровых стеклах: “писатели”, “художники”, “композиторы”, “артисты”… Замыкала скорбную процессию еще одна милицейская машина с такой же дискотекой на крыше.
На трамвайных остановках хмурые в преддверии неизбежного рабочего дня москвичи столбенели, глядя на нашу мрачную колонну. Что они должны были думать?
Кто они, эти писатели, композиторы, художники, артисты, печально глядевшие в заиндевелые окна? За что их всех повязали и куда повезли?
3
В Доме творчества хотел сразу начать программу отсыпания, но неугомонный артист-бадминтонист Виталик предложил помахать во дворе ракетками. Я малодушно согласился, поплелся за ним.
Собратья по перу, уже выяснившие, где тут ближайшая торговая точка, и возвращавшиеся в корпус затаренные, смотрели на меня, дергающегося в спортивных конвульсиях на скрипучем снегу, с тяжелым недоумением.
Зачем нас всех туда привезли – не помню. Встречи какие-то были, семинары. В безнадежной надежде избежать неизбежного (тотального пьянства и разврата) комсомольские работники придумали ночами в местном клубе показывать культовые западные фильмы, которые не выпускали в обычный прокат.
Прослышав про эти закрытые сеансы, из Москвы слетался ночной десант знакомых знакомых и приятелей приятелей, посильно способствуя расширению формата пьянства и разврата.
“Осенняя соната”, которую я там увидел, пару лет спустя все-таки вышла в московский прокат. Я честно предупредил Наташу, что там очень все смутно, запутанно, понять ничего нельзя, не надо и пытаться. Когда все же пошли (Бергман!), я с изумлением смотрел на экран, а Наташа с изумлением поглядывала на меня, постепенно осознавая, в каком состоянии я должен был находиться, чтоб ничего не понять в самом, пожалуй, прозрачном фильме скандинавского классика.
Одна из идей была, видимо, – приобщить нас к большому миру советской литературы. Каждое утро нам привозили очередного секретаря Союза писателей, намеревавшегося пообщаться по душам с не очень чтобы молодой молодой литературой.
Ходили по номерам, стучали в двери, настойчиво созывали. Конечно, самое простое было – запереться изнутри, залечь на дно. На нет и суда нет. Однако встречи с секретарями проходили в холле посреди нашего этажа, как раз на полпути в мужской сортир, находившийся в другом конце коридора. И не обойти никак.
Настойчивый стук в дверь будил, суровая неизбежность вынуждала (уместное слово).
Ладно (решил), хрен с ними, пойду. Заодно посмотрю, кто там. В этот день там была дама, тогда поэтесса, теперь автор душераздирающих кремлевских любовных историй.
Решительно проследовав мимо, я все же на обратном пути присел в холле на край дивана. Неловко. Дама как-никак.
Она только вернулась из Лондона в качестве жены не то нашего дипломата, не то нашего журналиста, не то нашего шпиона, да и не суть, поскольку все это было одно и то же. Наверное, и сейчас.
Платье по ней струилось – неописуемое. Лучше опишу очки. Они висели на тонкой цепочке. Типа бусы или кулон. Я даже не сразу смог понять, что это такое. Пожалел, что сам очков не носил, а потом в школе всех учительниц посадил на такие цепочки.
Я б и дальше неопределенно долго изучал тонкости хитросплетения звеньев этой цепочки, когда б не открылась дверь ближайшего к холлу номера и не возник на пороге Салимон.
Салимон и тогда был куда объемней меня и выпить мог больше, но утром выглядел хуже.
Сероватый недопеченный блин его лица, весь в рытвинах и колдобинах от только что с трудом покинутой подушки, не выражал решительно ничего. В больших черных трусах и веселой чебурашечной маечке, с полотенцем на шее и зубной щеткой в кулаке, он проследовал на автопилоте по обязательному мужскому маршруту.
По возвращении наконец заметил поэтессу, посмотрел затравленно, присел рядом со мной на подлокотник.
Она рассказывала нам, как жила в Лондоне (кратко) и как тосковала по далекой родине (подробно). И как ей было тяжело без России, и как притягательна Россия, и как это невыносимо – тоска по России.
Мы сидели и слушали, которые вообще никогда в жизни нигде не были и (полагали) никогда в жизни нигде и не будем. “Железный занавес” (казалось) навсегда.
Всю заграницу нам изображала наша тогда Прибалтика. “Но-чью в узких улочках Ри-ги слы-шу поступь гулких столе-тий, столе-е-етий…” Или: “Влюбиться – пара пустяков, а за углом – кофейня…” В Москве были блинные с пельменными, в Питере – рюмочные, в самом слове “кофейня” уже чудилась Европа.
И вот мы сидим и слушаем, как тяжело… как притягательна… как невыносимо… Вдруг Салимон не выдержал, встал, сказал прочувственно: “Как мы вас понимаем, Лариса Николаевна!” – и решительно направился к себе в комнату.
И меня такой идиотский хохот разобрал, что я понял: лучше и мне уйти.
4
…Ты никогда не найдешь его… но я его уже нашла… тогда недолго ждать он захочет чтоб ты построила крепость для него из своих сисек своего влагалища своих волос улыбки из своего запаха… он сможет почувствовать себя в безопасности и возносить молитвы перед алтарем своего члена… но я нашла его… нет ты одинока ты совсем одинока…
Мы внимали очередному Трюффо-Феллини-Пазолини, когда по рядам пошел шорох. Во тьме кинозала, пронизанного нездешней силы похотью и страстью, искали меня. Еле нашли.
Не довелось мне в ту ночь узнать, до чего там у них дошло, у Пфайфер с Брандо, ибо сосед мой (свежий воротничок из-под свитерка, утренний бадминтон на снежной поляне) в местном баре-буфете спьяну вмазал первому (второму?) секретарю комсомола, который назавтра с утра должен был перед нами выступать.
Тот специально приехал накануне, чтобы поближе познакомиться и пообщаться с творческой молодежью в неформальной обстановке. Пообщался. Так с фингалом под глазом секретаря и увезли.
Назавтра привезли другого. Но уже в светлое время суток и сразу в президиум.
Надо сказать, среди всей тогдашней “творческой молодежи” писатели-поэты были самые отвязанные. В прямом смысле слова – поскольку не были приписаны-привязаны ни к какому госучреждению. Ни к оркестру, ни к театру, ни к цирку, ни к филармонии.
Писателю не нужна мастерская, галерея, оркестровая яма. Ну, дал в морду и дал в морду, что с него возьмешь? Он же лифтером работает, ночным сторожем, бойлерщиком, дворником… Запретить печатать? Так и без того не печатают.
Однако сосед мой на театре служил. Наверняка выгонят с волчьим билетом!
Виталика сразу – пока оторопь, немая сцена, пока не схватили, не скрутили – увели из злосчастного бара в ночь. Оставалась надежда, что в толпе, в сигаретном дыму, в алкогольных парах не очень его и разглядели.
Надо было немедленно отправлять его с глаз долой, в Москву. Но где мы находимся? Где ж/д станция? Автобусная остановка? Как вообще отсюда выбираются? Да еще и ночью?
У местного персонала не спросишь – заподозрят, сдадут.
…я не знаю, кто он… он преследовал меня… он пытался меня изнасиловать… он сумасшедший… я даже не знаю, как его зовут…
Все в той же тьме кинозала нашлись знакомые знакомых, которые согласились героя сопротивления эвакуировать, но чтобы быстро – халявный Годар-Висконти-Бертолуччи закончился, под саксофон и финальные титры зрители-нелегалы торопливо линяли.
Я вернулся в комнату. Виталик бездыханно свисал с кровати. Спал – его состояние можно было и так назвать.
Старательно запаковал начинающего драматурга: куртка, шарф, шапка, сумка, ракетки, воланы. Все собрал, все оглядел, ничего не осталось.
Предстояло еще как-то доставить безжизненное тело ближе к милому приделу. Виновника ЧП уже повсюду искала комсомольская челядь.
Дом творчества представлял собой типичную барскую усадьбу, испохабленную годами коллективного пользования. От входа к воротам вела длинная аллея. Некстати хорошо освещенная.
Опасность обостряет все чувства, включая чувство прекрасного. Стоя на ступеньках перед входом в корпус в размышлении, как бы дотащить Виталика до машины, которая была далеко, за парадными воротами (на территорию усадьбы пришлый транспорт не пускали), я вдруг некстати ощутил всю красоту зимней морозной ночи: ясное небо с неяркими звездами, расчищенная от снега пустынная широкая аллея старого усадебного парка, некогда французского, регулярного, но заросшего, одичавшего, высоченные столетние ели в снегу, сугробы на скамейках, сутулые фонари, длинные тени…
– Пожалуй, я б в Лондоне тоже тосковал по родине, – сказал я Салимону, помогавшему волочь Виталика.
– По центральной дороге не пройти – засекут, – цитатой сразу из всех партизанских фильмов ответил Салимон, который, похоже, понял, о чем это я.
Утопая в снегу, поволокли мы драматурга-бадминтониста боковыми тропами, едва подсвеченными бледным лунным медяком, и аккуратно засунули в нетерпеливо бурчавшую за воротами машину. И тогда только заметили, что одеть-то я его одел, но не обул.
Так и уехал Виталик в одном мокром носке. Второй утонул в подмосковных сугробах.
Ботинки обнаружились сутки спустя и почему-то этажом выше, у композиторов.
5
Боже, какая это была бесстыжая халтура. Бедные дети смотрели на сцену во все глаза и доверчиво кричали “Не скажем!” злой волшебнице Бастинде, еле передвигавшейся по сцене и лениво цедившей в притихший зал: “Ну, где там ваша Эли?”
После спектакля мы зашли с Виталиком в гримерку, где уныло разгримировывались соучастники коллективного издевательства над детьми.
– Каникулы… Три спектакля в день гоним, – начал было оправдывался только что изображавший великого и ужасного Гудвина, хотя я ничего такого не сказал, ни о чем таком не спрашивал. Не до того было.
Не прерывая оправданий, Гудвин разделся догола, обтерся полотенцем, оделся в уличное – джинсы, свитер, куртка – и уже в дверях, уходя, представился:
– Саша меня зовут.
Краем уха уловив что-то про мои бездомные мытарства, он добавил, обращаясь к Виталику:
– Солнышко наше встает теперь далеко. И похоже, на сей раз надолго. А комната его пустует…
Так я попал в театральное общежитие у Рогожской заставы. Жили там артисты с Малой Бронной и Таганки.
Солнышко наше оказалось племянником Олега Янковского, тщательно упакованный мебельный гарнитур которого занимал всю площадь комнаты и весь ее объем. Знаменитый дядя находился в ожидании новой квартиры, однако очередь на дефицитный гарнитур подошла, а квартиру еще не дали. Вот и завез пока.
Разложив на единственном свободном клочке пола диванные подушки, из уважения к великому артисту я оставил их в целлофановой упаковке. Так и спал.
Как мне там жилось (хорошо жилось) желающие могут узнать из стихотворного цикла “Общежитие театра”, тогда же впервые читанного друзьям-поэтам на литературной студии Кирилла Ковальджи.
Парщиков, смешно тараща глаза и топорща губы, еще (помню) сказал, как роскошно я выдумал этот мир, какая тема бездонная: потроха театра, тени Гоголя, Шекспира…
Он принял меня за себя, а общежитие театра – за плод моего воображения.
– Я не выдумал, Леша. Я там жил. Я вообще ничего не выдумываю. Пишу только то, что правда со мной было.
– А зачем? – искренне удивился Леша.
Действительно, зачем?
Кинжал Заремы
1
Данила выучил английский самым педагогически эффективным способом: влюбился в свою учительницу, очаровательную американку Деби, студентку, приехавшую в Москву преподавать на курсах языка, открывшихся в Староконюшенном на гребне “нового мышления”.
– Ты понимаешь, мама, – говорил он, – у нее волосы совсем не такие прямые, как у тебя, они у нее как пружинки!
Дело принимало серьезный оборот. Сын настоятельно требовал, чтоб мы пригласили Деби к нам по случаю его десятилетия. Мы готовили детский праздник: игры, фанты, шарады, призы и прочие мыльные пузыри, а тут иностранная подданная…
Да и как с ней общаться? По-русски Деби не знала ни слова. У Наташи английский на уровне советской школы, то есть никакой, я вообще законченный франкофон. И (главное) чем ее кормить?
В магазинах только крепостные стены маргариновой кладки. На рынке кое-что возникало, но на это не было денег. Грели душу разве что замороженные датские котлеты (гуманитарная помощь), пойманные однажды утром в нашем Угловом и припрятанные в морозильнике для детского праздника. А что, если покрыть их сыром из моего заказа, полученного ко Дню учителя? Даже изысканно. Прокормим. Приглашаем.
– А она-то согласится? – засомневалась Наташа, боявшаяся нанести сыну душевную рану отказом любимой женщины.
– Придет! – уверенно сказал я. – Ей же интересно, как аборигены живут.
Деби действительно охотно согласилась. Помочь мне доставить ее к праздничному столу взялся верный друг Марк, дочь которого Роксана тоже была гостьей на нашем празднике. Прослышав о влюбленности Данилы, она нетерпеливо ждала появления заокеанской королевны.
Пока мы везли Деби в троллейбусе по Бульварному кольцу, Марк развлекал гостью светской (как он полагал) беседой. Периодически воспарявшего к горним вершинам духа, его и по-русски-то не всегда было с ходу понять. В троллейбусной давке, с трудом подбирая английские слова, Марк проповедовал нечто сложносочиненное про мифологию Москвы.
Деби с глуповатой улыбкой кивала, изредка улавливая смысл. Я с глуповатой улыбкой кивал, изредка улавливая имена. Бердяев, Лао-цзы, апостол Павел, Селин, Бергсон, Мандельштам…
Дети заждались и проголодались. Перезнакомив всех наспех, сразу усадили гостей за стол. Наташа торжественно вынесла на фамильном кузнецовском блюде плюющиеся сыром шипящие котлеты.
– Porc? – вежливо спросила Деби, выставив указательный пальчик, когда Наташа попыталась положить гуманитарную помощь ей на тарелку.
– Да, да, и свинина там есть, и говядина. Хорошие котлеты, датские. – От напряжения и неловкости Наташа тараторила по-русски. Пытаясь при этом быть понятой, она растерянно добавила: – Дания, Копенгаген…
– Викинги, Гамлет, Эльсинор, Кьеркегор, Андерсен, Амундсен, Туборг, – охотно продолжил я ассоциативный ряд, все дальше уводя его от гуманитарных котлет. Наташе, застывшей с тяжелым Кузнецовым в руках, моя ирония показалась неуместной.
– Она вас совсем не копенгаген, – меланхолично напомнил Марк.
– Porc? – удерживая улыбку своими нездешней белизны зубами, чуть настойчивее повторила Деби.
– Ё-мое, не будет она свинину, она еврейка, – наконец сообразил я и пошел за остатками мацы, которую прислали отцу из синагоги тоже в качестве гуманитарной помощи. Почему-то не весной, на Пасху, а осенью.
2
Прямо со дня рождения я летел в Новосибирск на Фестиваль поэзии новой волны. Буревестники новой волны Пригов и Друк были уже там. Быть новой волной нравилось, лететь не хотелось. Устал, умотался, бронхит замучил. По ночам свистел, хрипел и рычал как медведь. Никогда не слышал, как рычит медведь, но, думаю, примерно так.
Рейс был ночной. Хоть там (думал) отосплюсь. Но на взлете разболелся зуб.
– Такое бывает от перепада давления, – сочувственно сказала стюардесса, у которой я попросил что-нибудь обезболивающее.