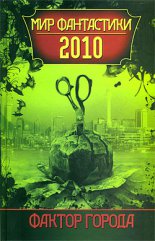Вкратце жизнь Бунимович Евгений

Солженицын в “Архипелаге” вынес Макееву свой не менее линейный и однозначный приговор, вынес – на весь мир.
Для одного человека, одной судьбы более чем достаточно. Пожалуй, перебор.
В год нашего выпуска Фантомас поставил свою подпись под доносом на Вторую школу – рядом с подписью Бегемота.
Вскоре после разгрома школы и выхода на Западе “Архипелага” Алексей Филиппович Макеев покончил с собой. Бог ему судья.
Лишние хромосомы
Биологию у нас вела Ирина Абрамовна Чебоксарова.
Неуклюжая, незлобивая, не от мира сего, она походила на пожилую профессорскую жену из кинокомедии. Каковой, собственно, и была.
Своего ученого супруга она умудрялась приплести к любой учебной теме.
“Мой муж, замечательный профессор Чебоксаров… – без этого запева не обходился ни один наш урок биологии. Потом она держала мечтательную мхатовскую паузу и с отрешенной значительностью уточняла: – Николай Николаевич…”
Изредка она вспоминала, что кроме рассказа учитель должен вести опрос. Что именно с нас можно спросить, баба Ира (как ее называли) не представляла, ее вопросы заставали врасплох как содержанием, так и формой.
– Лишние хромосомы – это вам не что? – с таким вопросом однажды на уроке она обратилась ко мне.
Я не слышал, что она говорила до того, но едва ли это помогло бы. Несмотря на большой школьный опыт ответов на любые вопросы, я решительно не знал, что ответить на вопрос “Это вам не что?”.
– Садись, Бунимович, медленно соображаешь, – с искренним сочувствием сказала баба Ира и уже совсем другим голосом, нежно обратилась к моей соседке по парте Марине Мдивани, любимице всей школы: – Мариночка, лишние хромосомы – это вам не что?
Озадаченная Мариночка тоже растерялась:
– Я что-то сегодня тоже медленно соображаю, Ирина Абрамовна.
– Садись, – укоризненно сказала баба Ира и с пафосом изрекла: – Лишние хромосомы – это вам не шуточки!
И ведь действительно – не шуточки.
Весной мы регулярно уговаривали Ирину Абрамовну проводить уроки биологии ближе к природе – в скверике возле школы.
Там при всем желании невозможно было услышать, о чем она нам увлеченно рассказывала, да никто особенно и не пытался.
Зато можно было сбегать за фирменным мороженым в стаканчиках, которое во всем городе продавалось только в двух местах – в ГУМе и у нас в универмаге “Москва”.
В конце такого урока на природе Ирина Абрамовна выставляла отметки.
– Соловейчик, близко сидел – “пять”.
– Ярин, далеко сидел – “четыре”.
– Кадырбаева, на качелях качалась. Ну, – она задумывалась, – тоже “четыре”.
– Соколов и Попов, за мороженым бегали – “три”.
“Неудов” баба Ира не ставила никогда.
Постоянно видели мы и замечательного профессора Чебоксарова (Николая Николаича).
Каждый день он встречал бабу Иру после уроков у дверей школы.
Юность безжалостна, и мы вовсю потешались над этой забавной немолодой парой.
Однажды я увидел из окна нашего кабинета физики, как они вдвоем, осторожно ступая, поддерживая друг друга под руку, медленно шли домой по заметенному снегом школьному двору. И сердце сжалось (именно так) от странной нежности.
Что, впрочем, никак не помешало продолжать потешаться над безобидной бабой Ирой на ее уроках.
Уже поступив в МГУ, обнаружил в университетской лавке книжку “Народы, расы, культуры” знакомых авторов – Чебоксарова Н.Н., Чебоксаровой И.А.
Так я узнал наконец, чем же занимался замечательный профессор (этнограф!) Николай Николаевич Чебоксаров.
Полвека спустя этнокультурная идентичность стала ключевым русским вопросом.
На недавней неполиткорректной дискуссии в модном клубе один мерзавец громил авторов той самой книжки – чету Чебоксаровых, акцентируя внимание не столько на замечательном профессоре, сколько на отчестве нашей Ирины Абрамовны.
Он брызгал слюной во все стороны все обильней, поскольку никак не мог взять в толк, почему я с моим идентичным бабе-Ириному отчеством в ответ только блаженно улыбаюсь.
А я и не слушал, что еще он там несет.
Я вспоминал бабу Иру, наш класс, уроки в весеннем скверике, божественный вкус пломбира из универмага “Москва”.
Благодаря ему, козлу драному, я получил неожиданный привет из прекрасной моей школьной юности.
Непомнящий
После уроков в школе всегда что-нибудь происходило.
В школьном кинотеатре крутили опальные фильмы, которые Мишка Райгородский пусть сам расскажет, где добывал.
Наведывались гости – Гелескул читал свои переводы из Лорки, Митта показывал только что снятый лучший свой фильм “Комедия об Искремасе”, а до того еще и Окуджава приезжал.
На репетиции школьного театра, где ставили нечто из поэтов Серебряного века, можно было послушать, как Юля Розенфельд резким, противным голосом блестяще читает блоковские “Двенадцать”, Зацман старательно изображает Маяковского, а Джамиля с Мариной Мдивани без устали горланят “Конфетки-бараночки”, которые тоже почему-то находились под запретом.
В спортзале играли в волейбол – команда учеников против команды учителей, у Фантомаса готовились к соревнованиям по спортивному ориентированию, ну и, конечно, повсюду шли семинары и факультативы по математике-физике.
А еще можно было в соседней “Снежинке” поговорить за жизнь.
Когда объявили, что в школе будет еще один факультатив – по Пушкину – и вести его будет литературовед со смешной фамилией Непомнящий, это не произвело на нас особого впечатления.
Правда, Пушкин тогда был не просто поэтом, пусть и великим.
Бога в стране отменили, советский иконостас вызывал неизбежный рвотный рефлекс, и Пушкин в атеистическом отечестве стал воистину альтернативным божеством (нашим всем).
Книги о нем сметали с прилавков, в Михайловское стекались толпы паломников, самодеятельные пушкинисты составляли житие поэта в поминутном режиме, а все нюансы поведения Натальи Николаевны обсуждались шире, чем сегодня скандальные браки-разводы телепопсы.
До нас донеслось, что Непомнящий вроде как тоже в опале, что его не печатают, даже из партии выгнали. Все это, конечно, создавало вокруг нового учителя некий романтический флер. Однако в сравнении с другими нашими учителями подробности биографии Валентина Семеновича казались достаточно вегетарианскими.
Мы собрались в видавшем виды и многих знаменитостей потрепанном актовом зале. Ждали всего и готовы были на все – от лихого панибратства в духе ну-что-брат-пушкин до мемориальной почтительности гражданской панихиды, о которых впоследствии с равной брезгливостью говорил нам на лекциях Непомнящий. Но даже всегда принимаемых на ура, а тогда практически обязательных политических намеков (“Зависеть от царя, зависеть от народа…”) в его завораживавшей речи не было.
Больше пристального чтения “Онегина” запомнился неожиданно взрослый парадоксальный анализ пушкинских сказок, знакомых наизусть с дошкольных времен.
Половина наших девочек и учительниц в той или иной степени была в Непомнящего влюблена. Тут посещаемость была стопроцентной.
Наташа им всем искренне сопереживала и старательно сканировала во время лекций, на кого, сколько раз и как он посмотрел.
Мужская часть аудитории обращаться в пушкинианство оказалась не готова, но ходили мы тоже исправно.
После одной из лекций я подошел к Валентину Семеновичу и ехидно спросил, почему он постоянно говорит “в этой гениальной строке Пушкина”. Разве у поэта не было слабых, проходных строк? И привел, на мой взгляд, вполне убедительные примеры.
Мы охотно общались после окончания занятий, и общение было легким и взаимоироничным, но тут Непомнящий ответил неожиданно серьезно и даже торжественно:
– В этой гениальной строке – потому что это строка гения.
Тут важно не то, согласен ли я с его формулой. Важней, что я запомнил ее дословно, как и религиозную убежденность ответа.
В интернете обнаружился текст недавнего выступления В.С. Непомнящего в Кремле при вручении ему Госпремии.
Начал читать с некоторой опаской.
Столько лет прошло, а вдруг и он туда же, вдруг увижу нечто в духе “Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю…”. Вроде как и к месту.
Но нет. Я читал строгие его слова о бедственном положении русской культуры. Непомнящий остался верен себе. А значит – и нам.
Северный поход
Едва ли бы мы все ломанулись еще и на факультатив по древнерусской архитектуре, который вел учитель истории параллельного класса Густав Александрович Богуславский, если бы не намечавшийся чуть не на все летние каникулы грандиозный поход по русскому Северу.
Это было время, когда после долгого забвения заново открывали мир икон и фресок, церквей и монастырей.
В этом повальном увлечении интеллигенции взрывоопасно смешались мучительные духовные поиски и гитарно-палаточная романтика турпоходов, диссидентство и мода.
Всю весну мы осваивали специальный вокабуляр (“поребрики”, “кокошники”, “закомары”, “восьмерики на четвериках”) и готовились к походу.
Высокий, жилистый Богуславский (прозвище Гусь) не владел искусством завораживать слушателей, зато он обладал невероятной памятью и уникальной эрудицией. В детстве Густав явно был вундеркиндом, таковым и оставался.
К тому времени уже вышли его знаменитая книга очерков “Острова Соловецкие” (первая пост-гулаговская) и роскошный альбом “Память Севера” с множеством фотографий, которые почему-то убедили родителей в реальности наших планов.
Грандиозный поход требовал грандиозных приготовлений.
С преисполненным ответственности Яном (командиром похода) стало невозможно о чем-либо говорить, кроме маршрута, снаряжения и эффективных способов борьбы с комарами.
Помимо ночлегов, переходов, переездов, переплывов (предстоял и аварийный перелет, но об этом мы не подозревали), вставал ключевой в условиях советского тотального дефицита вопрос: а что мы будем есть?
Через отдельных допущенных к кормушке родителей добывались не появлявшиеся на прилавках продукты: тушенка, финская копченая колбаса… Часть мы тащили с собой, часть высылали в посылках самим себе в пункты намеченного маршрута.
В ходе подготовки мы перезнакомились и передружились с многоумными бэшниками, которые тоже собирались в этот поход вместе со своим учителем истории Густавом.
У них был и свой интересный словесник Збарский. На его уроке мне понравилось. Он увлеченно и увлекательно рассказывал и вообще их не спрашивал.
В начале урока бэшники тоже читали стихи, такова была общешкольная традиция. Там я впервые услышал жесткие строки Ходасевича – спасибо Лене Васильевой (ныне профессор-кардиолог).
На полусотню школьников-походников по правилам положено три учителя. Помимо Густава и классного руководителя 9 “Б” Альбины Юрьевны никто гробить с нами пол-лета не соглашался. В конце концов удалось уговорить Людмилу Яковлевну, Наташину маму.
В походе мы с Людмилой Яковлевной много говорили, спорили, можно сказать, жили душа в душу. И куда все делось потом, когда она стала моей тещей?
Трудно принять, что и твоя уникальная жизнь в общих чертах сводится к банальным формулам житейских анекдотов.
Собирали нас как в космос – понимали, что нигде ничего нет. Надежные ботинки, непромокаемые куртки.
У Наташи не оказалось подходящих штанов. Тут вновь нарисовались вышеупомянутые польские техасы, из которых я вырос (“хорошие вещи” тогда не выбрасывались). Но отдать их просто так было как-то не по-нашему, как нынче говорят, не прикольно.
Как всегда и во всех школах, в июне в кабинетах шел ремонт, стены красили в тот грязный околосалатовый цвет, в который в СССР было выкрашено все – от Зимнего дворца до общественных сортиров.
Толстой малярной кистью несмываемой масляной краской я крупно вывел вдоль одной штанины “Наташе”, вдоль другой – “от Жени”.
Когда Наташа получила техасы с граффити, ее смутила вовсе не надпись, а то, что они чуть мешковаты, не по фигуре. Зато они подошли Белке Кафенгауз, которая и прошагала в них весь поход, одной штаниной путая местных аборигенов (они обращались к ней: Наташа), а другой – пугая их (неким грозным Женей).
Ровно сорок дней мы брели по русскому Северу, и очевидной библейской ассоциации с Моисеем, евреями и Египтом не возникало лишь потому, что даже в нашей антисоветской школе мы во многом оставались советскими комсомольцами, не особенно углублявшимися в сюжет и смысл тех фресок, перед которыми стояли в полуразрушенных сельских церквях.
Столичные школьники-физматы открывали для себя не только таинственный и полузапретный мир заброшенных монастырей, часовен и погостов – мы открывали для себя свою страну, добредали до таких глухих деревень в пять дворов, до такой России, которую никто из нас ни до того, в городском советском детстве, ни после, в постсоветской зрелости, уже не встречал. А может, ее уже и нет.
Для местных мы были пришельцами, инопланетянами, жителями далекой планеты Москва.
Валютой здесь служили не рубли-копейки – на них в сельпо можно было купить разве что соль, водку и спички.
Если повезет – еще и хлеб. И больше ничего.
Настоящей твердой валютой оказались дальновидно высланные продукты, особенно копченая колбаса, которую, как и москвичей, никто здесь никогда не видел. За полбатона колбасы могли и баню растопить, и картошку на всех сварить, и ночлег найти для оравы столичных балбесов.
Вначале было интересно все, но где-то на пятом десятке обозреваемых достопримечательностей мы сломались, заскучали.
Густав обижался. Он все с тем же блеском сыпал датами, именами, цифрами (расстояние от пола до купола, площадь алтарной части, диаметр подкупольного барабана), а ребята слушали вполуха, разбредались кто куда.
В оправдание напомню, что лет нам было пятнадцать – шестнадцать, а в это время больше смотрят не на достопримечательности вокруг, а друг на друга на фоне этих достопримечательностей. И это естественно.
Кризис разразился у величавых стен Кирилло-Белозерского монастыря.
По плану мы должны были наутро топать километров двадцать в Ферапонтово, но ни сил, ни воли на очередной марш-бросок не нашлось.
Жилистый Гусь настоял на своем и с групкой добровольцев все же отправился пешком, остальные тоже настояли на своем и загрузились в попутные грузовики.
Двое умников-бэшников в последний момент все-таки присоединились к группе пеших энтузиастов, поскольку недоиграли накануне партию в шахматы вслепую, на ходу.
Когда мы проезжали мимо бредущей вдоль дороги цепочки, слышалось: “Ферзь b3 – f7” – “Король e7 – d8…”
В то лето мы видели немало церквей и монастырей, икон и фресок. Но увидел я Николая Святителя под сводами церкви в Ферапонтовом монастыре.
А может, это он меня увидел.
Дионисий с сыновьями собирали цветные камни тут же рядом, на берегу Бородаева озера, и на их основе делали краски для монастырских фресок.
Я пошел на озеро, нашел похожие камни, как будто все это было вчера (летом 1502 года).
Камешки были шелковистые, мягкие, они крошились и оставляли отчетливый цветной след на белых прибрежных булыжниках.
Дионисиевы камни до сих пор лежат где-то на антресолях, целая гамма охры – от самой светлой до темной, почти шоколадной.
Еще в Москве мы обнаружили на карте еле заметный разрыв тонкой ниточки дороги у деревни со сказочным названием Чарозеро. Решили – как-нибудь прорвемся.
Сейчас все просто – пара кликов в интернете и читаешь чей-то вопрос: “Привет! Не подскажете, дорога Чарозеро – Каргополь в каком состоянии будет? Там вообще можно проехать?”
И тут же ответ: “Если у вас не танк, то не советую перемещаться по участку Чарозеро – Каргополь. В советские времена там вроде еще был зимник, ну а летом – вообще болота непролазные…”
На все наши расспросы немногочисленные жители глухоманной деревни отвечали уклончиво: там вроде как болота, никто у нас в ту сторону не ходит… И почему-то отводили глаза.
Идти на свой страх и риск мы не решились. Подходящего танка под рукой не нашлось.
Зато в поле обнаружился ржавый кукурузник, брюхо которого было крайне подозрительно стянуто канатом. Договорились, заплатили, разбились на группы, полетели.
Девчонки заблевали весь салон кукурузного чартера. Запах в салоне при этом не изменился.
В такой обстановке лучше смотреть в мутный иллюминатор.
Все мои познания о болотах сводились к собаке Баскервилей, которая на фоне простиравшегося под нами казалась дрессированным пуделем.
Мелькнули караульные вышки, бараки. Лагеря? Померещилось?
Хотя Густав все часовни и монастыри показывал под углом исключительно искусствоведческим, нечто богоугодное в нашей авантюре, видимо, все же было.
Бог нас хранил, иначе никак не объяснить тот невероятный факт, что ничего уж совсем серьезного в пути с нами не стряслось. Хотя есть что вспомнить.
Когда уплыли в Кострому, на пристани забыли Яшу Барского – никто и не заметил пропажу. Он нас чудом догнал на левых перекладных катерах.
Когда мы спали в спортзале, не помню уже где, мрачная местная шпана влезла в разбитое окно.
Была и драка в кровь с допризывной пьянью на перроне, хорошо поезд подошел.
В каждом городке голодные походники первым делом искали почту. Помимо спасительных продуктовых посылок мы получали письма от родителей и писали короткие ответы в мужественном стиле первопроходцев.
Шла активная переписка и с ЭлПэ.
Ее незабываемый дачный адрес: тупик Энгельса, 6.
ЭлПэ
Густав учил истории бэшников, а нас учила Людмила Петровна Вахурина, сокращенная нами до аббревиатуры ЭлПэ, симпатичная женщина с простым открытым лицом.
На фоне Гуся – ходячей энциклопедии, на фоне Якобсона, который, слушая ответ ученика, путающегося в рассказе про Степана Разина, мог стукнуть кулаком по столу: “Да что ж у тебя Стенька болтается как дерьмо в проруби?!” – наша ЭлПэ выглядела непритязательно, но и не опасно.
Ко времени нашего появления Якобсона в школе уже не было.
Я видел его лишь однажды – он пришел на премьеру школьного театра. Магнетизм его личности был таков, что на сцену уже мало кто смотрел.
Я читал статьи Якобсона, но не в этом была его сила. Учителя Второй школы вообще на бумаге выглядят бледнее, чем на уроке. Они были прежде всего учителя, а на отроков и отроковиц воздействует главным образом не текст, не только текст, не столько текст, сколько энергетика личности, особая аура, которая возникает (или не возникает) на уроке.
Легендарный Якобсон любил рассказывать историю, в которой он выглядит не так уж легендарно.
Однажды, когда он только начинал работу в школе, вместе с листком контрольной работы Якобсон получил от ученицы записку с объяснением в любви.
Он не стал исправлять грамматические ошибки (хотя хотелось).
Попросив ученицу остаться после уроков, молодой учитель начал приготовленную заранее деликатную воспитательную беседу словами:
– Понимаешь, это не так просто, как тебе кажется…
– Но и не так сложно, как вам кажется, – не дав ему продолжить нравоучение, отрезала школьница.
Пока Якобсон вновь обретал дар речи, она спокойно взяла свой портфель и вышла из кабинета.
Вернемся к ЭлПэ.
В первый же месяц учебы в новой школе я заболел, провалялся дома с температурой, а вернувшись в класс, сразу попал на контрольную… по истории.
Вокруг строчат, я сибаритствую. Отсутствовал. Болел. Имею право.
Проходя мимо, ЭлПэ предложила: напиши, что знаешь…
Знать надо было про разные партии перед революцией 1905 года.
Хотя и месяца не прошло, но я уже чувствовал себя закоренелым второшкольником и с ходу сотворил, как сказали бы сегодня, постмодернистский коллаж. Помню, эпиграфом к фрагменту про эсеров стояло “На небе светит лампа в сорок тысяч вольт, я милой подарю шестизарядный кольт”. Ну и остальное в том же духе.
Когда на следующем уроке ЭлПэ прочитала классу выдержки из моего творения и даже поставила пять баллов, я окончательно убедился, что попал в очень необычную школу.
В предыдущей за похожий фортель на истории я получил даже не двойку, а единицу.
Историю мы вообще на уроке у ЭлПэ учили своеобразно.
В какой-то момент объяснения она говорила: “Теперь закройте тетради, положите ручки, я расскажу вам, как это было на самом деле”.
Так, как она рассказывала до этого момента, надо было отвечать на экзамене.
ЭлПэ, конечно, рисковала. Не все пришедшие в школу были готовы услышать такую двустороннюю историю страны. Я был готов.
Еще до Второй школы я прочитал заданную по внеклассному чтению книжку Э. Казакевича “Синяя тетрадь” (про Ленина в Разливе). Интереса к жизни вождя у меня к тому времени не было уже никакого, но эта книжка была самой тонкой из обязательного списка.
Про шалаш, где вождь готовил революцию, нам все уши прожужжали с раннего детства, это был один из базовых советских мифов.
А тут, к моему изумлению, из шалаша, где по всем совковым житиям вождь пребывал в одиночестве, вылез еще и Зиновьев (тот самый, враг народа и троцкистско-зиновьевский блок).
Такой поворот у нынешних школьников вызвал бы естественный вопрос: они что, гомики? Но у нас были другие вопросы.
Почему-то именно тогда я не то чтобы осознал, но всеми потрохами почуял, что вранье было не только про шалаш, а вообще все и про все было вранье. Так что двуцветные зерна преподавания ЭлПэ в данном случае попали на подготовленную почву.
С нашим классом у ЭлПэ сложились особые отношения. Она нас очень любила, да и мы ее.
О том, как в ночь после выпуска она убежала от своего класса, где была классным руководителем, к нам, на квартиру к Риммочке, она сама покаянно написала в воспоминаниях о школе.
Рискну рассказать другой, тоже не самый педагогически выверенный эпизод.
Именно с ЭлПэ связан тот первый раз в жизни, когда я всерьез напился. Инициация, блин.
Это было в тот памятный день, когда после подавления Пражской весны на вынужденный поклон в Москву прилетел чехословацкий генсек Дубчек.
Трагические события той поры переживали и дома родители, и в школе учителя. Я не все, может, и понимал в происходящем, но в нашем школьном кинотеатре “Эллипс”, которым заведовал мой приятель Мишка Райгородский, незадолго до этих событий он показал новые чешские фильмы, какие-то очень человеческие, разительно не похожие на официальное советское кино.
Все высокие делегации, кажется, и по сей день везут из аэропорта в Кремль по Ленинскому проспекту, мимо нашей школы.
Вдоль всего пути сгоняли и выстраивали (может, и сейчас?) счастливых москвичей с флажками и плакатами про нерушимую дружбу.
Для нас это была лучшая отмазка при опозданиях и прогулах, поскольку проспект был полностью перекрыт.
С приездом Дубчека все выглядело иначе.
После уроков мы с ЭлПэ вышли из школы и увидели, как по безлюдному проспекту катит мрачный членовоз с мотоциклистами по бокам, больше напоминавшими тюремный конвой, чем почетный караул.
Тоска стояла невыносимая. Мы решили выпить. По чуть-чуть. С горя.
Зашли в соседнюю “Снежинку”. Ничего спиртного. Пошли вдоль по проспекту дальше. Пивная. Облом. Магазин. Облом. Еще кафе. Опять облом.
Надо сказать, что точек общественного питания в те времена было куда меньше, чем теперь, так что шли мы очень долго. И нигде ничего.
Наконец одна сжалившаяся над страждущими официантка пояснила шепотом, что ничего и не будет, поскольку велено по всей трассе спиртное в этот день убрать.
Вымотанные, голодные, мы свернули вглубь квартала и нашли забегаловку с не очень уместным в этом случае сладким советским шампанским.
Я с утра ничего не ел. Настроение было никакое. Мы быстро оприходовали на двоих бутылку теплого липкого пойла и собрались по домам.
И тут оказалось, что встать я не могу. Вообще не могу. Пробую – не получается. Голова ясная, ноги ватные.
ЭлПэ с трудом дотащила меня до такси, довезла до дому.
Жил я далеко, шампанское выветривается быстро, так что в подъезд я уже смог кое-как войти самостоятельно.
Больше никогда в жизни я так не напивался. Смысл? Голова моя все равно не вырубается. Даже если ноги не идут.
А ЭлПэ еще долго была в курсе всех наших дел, включая сердечные.
Когда мы с Наташкой позвонили ей и сообщили, что женимся, она не сразу поверила. Думала – розыгрыш.
Собственно, и мы так думали.
Возвращение
На Соловецкие острова нас доставил пароходик-развалюха “Михаил Лермонтов” – единственное средство связи с Большой землей.
Монастырь – еще не такой, как на нынешней пятисотрублевке, не отреставрированный, без соборных куполов – больше походил на мощную крепость.
На Соловках вообще все было мощным. Дамба через Белое море, сооруженная монахами. Вырытая ими же сложная система каналов. Даже комары, жалившие по ночам сквозь толстый брезент палаток.
Под стенами монастыря на берегу были развешаны болотного цвета лохмотья, как будто оперный юродивый выстирал свое сценическое одеяние. Оказалось – морская капуста. Из нее делали леденцы-петушки столь же аппетитного болотного цвета. Странное производство. Но покупали – все равно ничего другого не было.
Повсюду мы натыкались на следы СЛОНа (так не без черного юмора именовался Соловецкий лагерь особого назначения). Бараки стояли открытые, пустые, но еще стояли. Надписи на стенах камер не стерлись.
Однажды я добрел до дальнего скита.
Внутри сиротливой белой часовни без окон, без дверей, без креста не было никакой росписи, только грязные беленые стены.
Почувствовав тяжелый взгляд, я посмотрел наверх.
Из-под купола на меня строго смотрел Сталин – грубо, но точно намазанный черным углем…
К Питеру все разладилось окончательно.
Обиженный на всех Густав обосновался где-то в городе отдельно от нас. За всю ленинградскую неделю я видел его лишь однажды в окне проезжавшего мимо трамвая. Он приветливо помахал мне рукой.
Жили мы в школе в самом центре города, на набережной Мойки, неподалеку от пушкинской квартиры.
После Соловков Людмила Яковлевна уехала (как и было обговорено с самого начала), Густав исчез в неизвестном направлении, Альбина особо не возникала, и мы были предоставлены сами себе. Днем спали, ночи напролет гуляли.
Ночи белые, лет шестнадцать, ключ под ковриком.
Был я тогда влюбленный в Катю Франк. Однажды белой ночью захотелось ее увидеть немедленно, а ее не было.
Вышел на набережную Мойки и направился неизвестно куда – уверенно, не раздумывая, не сворачивая, почти побежал. Не я шел, меня вело. Через путаные проходные дворы выскочил к Неве где-то уже далеко за Медным всадником. Там (естественно) стояла Катя.
Она не удивилась. Это еще ладно. Но и я не удивился. Ни в какую мистику никогда не верил и сейчас не верю, но…
Одна была досада – ходил я по Питеру, путаясь в соплях. Собственно, так в первой половине лета было у меня всегда. Мама сетовала: да что ж такое, у всех дети как дети, простужаются, когда холодно, ветрено, сыро, а мой – наоборот, когда жара.
Я и в Северный поход отправился, зная, что обречен на неизбежные сопли. Но до Питера все почему-то было в порядке.
Однажды в наше стойло на Мойке ребята вернулись с парнем явно не нашего вида. Оказался из Штатов, наш ровесник по имени Майк.
По тем временам такой гость был даже не инопланетянином, а пришельцем с того света.