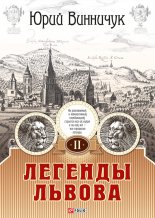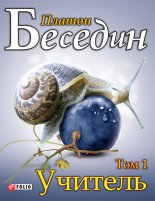Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
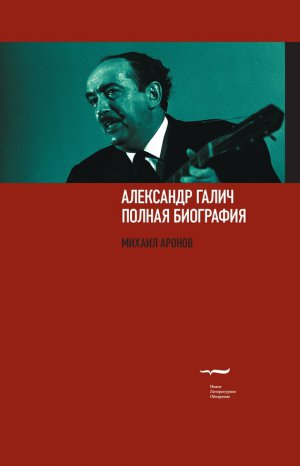
От автора
Актуальность поэтического творчества Александра Галича вряд ли у кого вызывает сомнения — слишком уж точно (даже, можно сказать, пугающе точно) ложатся его песни на современную российскую действительность. Но это не единственная причина, которая говорит в пользу необходимости написания биографии Галича. Сам его жизненный путь совершенно необычен. Человек, который долгое время был одним из самых богатых писателей Советского Союза, вдруг начинает сочинять и исполнять под гитару острейшие политические песни, создавшие ему всемирную славу и приведшие к конфликту с властями.
Собственно говоря, биография Галича более-менее четко распадается на два периода: до начала 60-х годов и после, то есть на допесенный период, когда Галич был известен как драматург, и песенный, когда он начал работать в жанре авторской песни. Вместе с тем попытки рассмотреть второй (главный) период в отрыве от первого не проходят, поскольку Галич образца 60-х годов возник отнюдь не на пустом месте и не «перечеркнул» себя прежнего (как думают некоторые). Просто если до этого времени Галич писал «разрешенные» вещи, то теперь он стал писать «запрещенные», без оглядки на цензуру. Причем интересно, что целый ряд его «разрешенных» пьес и сценариев был запрещен! Вообще же допесенный период жизни и творчества Галича оставался до последнего времени своеобразной «терра инкогнита». Теперь пришло время восполнить этот пробел.
Мне удалось ознакомиться практически со всеми пьесами и сценариями Галича, а также литературными заявками и протоколами обсуждений его произведений, хранящимися в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), но самое главное — получить доступ к четырем папкам, представляющим собой «личные дела» Галича и хранящимся в фонде Союза писателей СССР. Многие документы из этих папок представляют большой интерес и теперь станут доступны для широкого читателя.
Вообще же исследователь биографии Галича неизбежно сталкивается с крайне неравномерным распределением информации. По одним событиям (таким, как Новосибирский фестиваль 1968 года) материалов имеется более чем достаточно, а по другим (например, родословная Галича) сохранились лишь жалкие крохи.
По-прежнему закрыт доступ к «делу Галича», хранящемуся в архивах ФСБ, поэтому приходится довольствоваться открытыми публикациями. Хотя зачастую они и разбросаны по малодоступным изданиям, однако, будучи собранными воедино, позволяют выстроить подробную картину взаимоотношений Александра Галича с органами советской власти, и в частности — показать логику развития этих взаимоотношений.
Многочисленные воспоминания и документы, приведенные в этой книге, дают возможность в полной мере оценить многогранную личность Александра Галича и тот непростой жизненный выбор, за который ему пришлось столь сурово расплатиться.
Вместе с тем, несмотря на свой трагизм, судьба Галича являет собой яркий пример «оптимистической трагедии» и свидетельствует о том, что путь восхождения не закрыт ни для одного человека — даже самого благополучного и обласканного властями. Были бы только силы и желание подняться.
Предисловие ко второму изданию
Первое издание этой книги вышло в феврале 2010 года тиражом 50 экземпляров[1]. Однако для второго издания объем пришлось значительно сократить. Тем не менее, я постарался сохранить всё самое важное и по возможности дополнить книгу новыми воспоминаниями, документами и фрагментами малоизвестных пьес Галича, что позволяет наглядно проследить истоки появления его авторских песен. Кроме того, исключен библиографический раздел, зато цитаты внутри текста снабжены ссылками на источники.
Если говорить об открытых архивах, то наибольший корпус материалов по интересующей нас теме хранится, конечно же, в РГАЛИ. В фондах Союза писателей СССР, Министерства культуры, ВТО, Главреперткома, Госкино, киностудии им. М. Горького, «Мосфильма», «Союзмультфильма» и редакции журнала «Искусство кино» удалось обнаружить не только многочисленные литературные заявки, пьесы и сценарии Галича, но и дела практически всех фильмов, снятых по его сценариям[2] («Верные друзья», «Гость с Кубани», «Сердце бьется вновь», «Трижды воскресший», «На семи ветрах», «Государственный преступник», «Дайте жалобную книгу», «Третья молодость», «Бегущая по волнам», «Русалочка», «Под палящим солнцем»), и даже дела тех фильмов, которые так и не увидели свет («Чайковский», «Федор Шаляпин»),
Напоследок хочу выразить глубокую признательность всем, кто помогал мне во время работы над книгой:
— дочери Александра Галича, Алене Архангельской, любезно позволившей мне переписать имеющиеся у нее редкие видеозаписи и ксерокопировать письма Галича, адресованные его первой жене Валентине Архангельской, а также сообщившей в частных беседах со мной множество важных деталей биографии своего отца;
— архивисту Московского центра авторской песни Нине Игнатовой, оперативно предоставившей мне необходимые материалы;
— редактору фильма «Без “Верных друзей”. Двойная жизнь Александра Галича» (телеканал «Россия», 2008) Елене Залогиной, приславшей мне полные расшифровки интервью, взятых для этого фильма;
— известному московскому коллекционеру авторской песни Петру Трубецкому, щедро делившемуся со мной материалами из своего уникального архива;
— своему давнему другу, библиофилу Ивану Некрасову (Москва) — за разнообразную помощь;
— родным и близким, всячески помогавшим мне в работе;
— кинорежиссеру Евгению Цымбалу, благодаря содействию которого стало возможным второе издание этой книги.
Часть первая
Драматург
Детство и юность
О родословной Галича сохранились довольно скудные сведения.
Известно, что его мать, Фейга Борисовна Векслер, родилась 16 октября[3] 1896 года[4] в Екатеринославе (с 1926 года переименован в Днепропетровск) в среднезажиточной семье, которая владела собственной фабрикой в городе. Их предки Векслеры были польскими евреями и до конца XVIII века жили в городке Лодзь. В Россию же они перебрались, когда был построен Екатеринослав и императрица Екатерина разрешила въезд евреям — главным образом для развития в стране торговли, культуры и врачебного дела.
В 1910 году Фейга, будучи студенткой гимназии, влюбилась в другого студента — Арона Гинзбурга. Арон был старше Фейги на два года и происходил из бедной семьи, занимавшейся врачебной практикой. Его отца, детского врача Самуила Гинзбурга, долгое время помнили старожилы Днепропетровска, так как он до конца своих дней лечил весь город, за что был избран почетным гражданином Екатеринослава и даже получил дворянский титул. Однако Арон не пошел по стопам отца, а стал учиться на экономиста.
В 1913 году Фейга закончила гимназию, и, казалось бы, ничего не предвещало неожиданностей, но вскоре началась Первая мировая война, и Арон Гинзбург ушел солдатом на Западный фронт. Домой вернулся лишь в конце 1916 года, и тогда же они с Фейгой решили пожениться. Однако ввиду резкого социального контраста и финансового неравенства родители с обеих сторон категорически возражали против такого союза, и поэтому влюбленные сбежали из города, тайно поженились, но вскоре вернулись в Екатеринослав за родительским прощением. Прощение было получено, и жизнь вскоре наладилась.
Молодожены поселились в доме местного домостроительного общества, которое было первым жилищным кооперативом в городе. По словам архитектора Валентина Старостина, история этого дома такова: в 1911 году собрались его будущие жильцы и на свои деньги построили четырехблочный деревянный дом в стиле модерн по улице Казачьей (ныне — Комсомольской), 74[5].
А 20 октября 1918 года у Арона и Фейги родился мальчик Саша, будущий поэт и бард Александр Галич. В справке о его рождении, оригинал которой написан на иврите, значится: «У Арона Гинзбурга и жены его Фейги 20/7 октября 1918 года родился сын, которому дано имя Александр. Екатеринославский Раввин»[6]. Главным раввином города в ту пору был Леви Ицхак Шнеерсон. В 1925 году ему предложили стать главным раввином Иерусалима, но он предпочел остаться в Екатеринославе, а в 1939-м был сослан в Казахстан, где и скончался через пять лет.
Фейга Векслер, будучи артистически очень одаренной, увлекалась театром и музыкой. Мечтала даже стать певицей, но через год после рождения сына устроилась администратором музыкального училища, которое тогда же получило статус консерватории и в таком качестве просуществовало до 1923 года.
Арон Гинзбург не разрешал жене работать (не хотел, чтобы она была актрисой), и Фейга сидела дома — нянчила ребенка.
Через три недели после Сашиного рождения семья переехала из Днепропетровска в Севастополь. Об этом факте упомянул сам Галич во время публичной беседы 3 июля 1958 года по поводу премьеры спектакля по его пьесе «Пароход зовут “Орленок”»[7].
А в своей передаче на радио «Свобода» от 5 октября 1975 года Галич рассказал об одном из самых первых детских воспоминаний, связанных с Севастополем. В то время из страны уезжали многие их родственники, и его отец предложил жене тоже уехать, но она ответила: «Нет, это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам ни будет трудно».
В итоге Гинзбурги прожили в Севастополе до 1923 года, когда перебрались в Москву по приглашению старшего брата Арона Самойловича — известного литературоведа-пушкиниста, профессора кафедры российской словесности МГУ Льва Самойловича Гинзбурга (1879–1934). Поскольку сам он весьма трепетно относился к дате «19 октября», так как это был день открытия Царскосельского лицея, где учился Пушкин, то отныне днем рождения маленького Саши стало считаться 19-е число.
Знаменитый хирург Эдуард Кандель вспоминает, что 19 октября в течение многих лет подряд бывал дома у Галича, который отмечал эту дату не только как день своего рождения, но и как день основания пушкинского лицея: «Обычно гостей было относительно немного, и, как правило, одни и те же близкие люди. Было шумно, интересно и весело. И Саша пел свои песни. Он всегда вспоминал, что этот день — особый. <…> Как известно, Пушкин посвятил дню лицейской годовщины несколько своих стихотворений. И в этот день Саша читал одно из них. Он знал и любил Пушкина, как мало кто из профессиональных литераторов»[8].
Семья Гинзбургов поселилась в коммунальной квартире дома, некогда принадлежавшего поэту Дмитрию Веневитинову, в Кривоколенном переулке, дом 4, квартира 1 (именно здесь осенью 1826 года Пушкин впервые читал своим друзьям только что законченную пьесу «Борис Годунов»). Драматург и острослов Иосиф Прут рассказывал, что когда впервые увидел маленького Сашу, спросил его: «Ты знаешь, в каком доме живешь?» И получил ответ: «Да, я знаю, здесь жил поэт Веня Витинов»[9].
Вскоре после переезда Сашины родители изменили свои имена на более привычные для окружающих: Арон Самойлович стал Аркадием Самойловичем, а Фейга Борисовна — Фанни Борисовной. И вскоре устроились на работу: Аркадий Самойлович — инженером-экономистом на заводе, а Фанни Борисовна — в Московскую государственную академическую филармонию (со второй половины 1940-х годов она будет работать там администратором концертного зала имени Чайковского). Здесь же работали мамы Анатолия Эфроса и Александра Ширвиндта — все они были, естественно, знакомы друг с другом. Кроме того, Фанни Борисовна была знакома с мамой Евгения Евтушенко, и они часто перезванивались.
Сын Льва Самойловича Гинзбурга, Виктор, был студентом того же университета, где преподавал его отец. Только учился он на физическом факультете у профессора Сергея Ивановича Вавилова[10], а сам этот факультет был основан в 1933 году. Так что Виктор попал сразу же в первый набор.
Под влиянием общения с дядей Саша не только приобщился к поэзии, но и увлекся театром; двоюродный брат Виктор приучил его читать книги; а мама, Фанни Борисовна, сразу же после переезда семьи в Москву, когда Саше исполнилось пять лет, начала обучать его игре на рояле. Кроме того, помимо обычной школы Саша окончил еще и музыкальную школу по классу скрипки[11].
Дома у них часто проходили разного рода творческие вечера.
В воскресенье 24 октября 1926 года, в восемь часов вечера, отмечалось столетие со дня прочтения Пушкиным пьесы «Борис Годунов», и по инициативе Льва Гинзбурга в квартире его брата Аркадия состоялся грандиозный пушкинский вечер. В трех маленьких комнатах каким-то чудом разместилось шестьдесят гостей, среди которых были такие легенды театра, как Василий Качалов, Елена Гоголева и Виктор Станицын (последний, кстати, был тоже родом из Екатеринослава).
Мероприятие состояло из двух частей: документальной и художественной.
Вечер открыл председатель Общества любителей российской словесности Павел Сакулин. Затем один из крупнейших пушкинистов Мстислав Цявловский рассказал о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» в Москве в сентябре — октябре 1826 года. После этого актер, режиссер и педагог Леонид Леонидов зачитал воспоминания М. П. Погодина о чтении Пушкиным поэмы у Веневитинова. И закончилась первая часть вечера рассказом самого Льва Гинзбурга о судьбе дома Веневитиновых за последние 25 лет.
Вторая часть представляла собой уже собственно сценическое действо — артисты МХАТа читали отрывки из «Бориса Годунова». На восьмилетнего Сашу это зрелище произвело настолько сильное впечатление, что он немедленно захотел стать актером, однако осуществить свою мечту смог лишь десять лет спустя…
16 февраля 1925 года в семье Гинзбургов родился сын Валерий, будущий известный кинооператор. В начале 1930-х он занимался с репетитором французского языка. Однако через некоторое время репетитор обратился к Фанни Борисовне и Аркадию Самойловичу с вопросом: «А можно я лучше со старшим буду заниматься?»[12]
В конце 1932 года москвичам урезали нормы белого хлеба. Это произошло вскоре после смерти второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой. По Москве ходили упорные слухи, что ее убил сам Сталин. Тогда же появилась народная частушка: «Аллилуева умерла, / Белый хлеб с собой взяла. / Если Сталин женится, / Черный хлеб отменится». Эту песню тогда пели все мальчишки, включая Сашу и Валеру. Большой популярностью пользовалась и хулиганская песня «про финский нож»: «Когда я жил в Одессе, носил я брюки клеш, / Соломенную шляпу, в кармане финский нож. / Одесса ты, Одесса, родная сторона! / Сгубила ты мальчишку, сгубила навсегда!»
Первые поэтические опыты
В автобиографии Галича, написанной им в мае 1974 года для ОВИРа, сказано: «В 1926 г. я поступил в среднюю школу БОНО-24»[13] (БОНО — это Бауманский отдел народного образования). Однако брат Галича Валерий в интервью журналу «Горизонт» сказал: «Учились мы в здании бывшей гимназии в Колпачном переулке…»[14] (кстати, Колпачный переулок находится рядом с Кривоколенным, а значит, недалеко от их дома). Позднее Валерий Аркадьевич уточнил: «…мы сначала учились с ним вместе — такая была 25-я школа в Колпачном переулке, потом его исключили и перевели в другую, в Вузовском»[15].
Вот ведь как интересно: один брат называет 24-ю школу[16], а другой — 25-ю. Кому верить? Скорее всего, Галич проучился какое-то время в 24-й школе, а потом перешел в 25-ю, куда в 1932 году поступил и Валерий.
Учился Галич на отлично. С 1930 года стал посещать занятия детской литературной бригады при редакции газеты «Пионерская правда» (Новая площадь, дом 10), где ребята два раза в неделю читали друг другу свои стихи и, по воспоминаниям Галича, «как щенята, с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение»[17]. А в 1931 году вместе с Евгением Долматовским, Владимиром Дудинцевым, Даниилом Даниным, Яковом Хелемским и Иваном Меньшиковым (погибшим в войну) и другими ребятами он вошел в деткоровский актив «Пионерской правды»[18].
23 мая 1932 года «Пионерская правда» поместила такую заметку: «Саша Гинзбург. Пионер с 1927 г. Работал редактором отрядной стенгазеты. В 1930 году вступил в литбригаду “Пионерской правды”. Сейчас Саше 14 лет». После этого шел текст стихотворения «Мир в рупоре», которое можно считать первой Сашиной публикацией. В нем невооруженным глазом заметно влияние поэзии Маяковского, которое сказывалось и на ритме, и на рифмах, и на тематике. Тематика же была вполне типичной для того времени: юный мастер делает ламповый радиоприемник, который должен внести свой вклад в процветание Страны Советов: «Они ложились в упругие шайбы, / Скованы твердой, настойчивой волей, / Чтоб завтра туркменка школьница Зайбет / Могла услыхать ленинградца Колю, / Чтоб завтра по волнам эфира ринуться, / Чтоб завтра греметь им в ответном марше, / Чтоб завтра ударно в год одиннадцатый / Вступила вся пионерия наша. <…> По серой доске егозил рубанок, / Вгрызаясь в дерева плотную толщу, / Чтоб завтра здесь пионер Туркестана / Услышал далекий голос из Польши. / И если тот же горячий рупор / Крикнет, волны эфира меряя: / “А ну! Скажи-ка, Реймиз Арупов, / Что ты сделал для пионерии?”»
Ничего общего с песнями Галича 1960-х годов это стихотворение, конечно, еще не имело, кроме, пожалуй, искренности и самоотверженности автора. Но уже здесь начинающий поэт продемонстрировал определенные навыки стихосложения.
В начале 30-х руководитель литбригады писатель Исай Рахтанов познакомил ребят с Эдуардом Багрицким, который попросил привести их к нему домой. Юные стихотворцы пришли в гости к именитому поэту и стали читать свои стихи — каждый по два. Что-то Багрицкому нравилось, что-то вызывало недовольство — все это ясно выражалось в его мимике. Наконец он хлопнул ладонью по дивану и сказал: «Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали!..», а потом, хитро подмигнув, добавил: «Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..» Так начинающие поэты стали учениками Багрицкого. Но было им нелегко, так как он не делал никаких скидок на возраст и общался с ними на равных. Одну из личных встреч с мастером Галич описал в своих воспоминаниях «Генеральная репетиция».
25 июня 1933 года на первой полосе «Пионерской правды» было опубликовано еще одно Сашино стихотворение — «Скрипка». В нем описывалась подготовка юного музыканта к его первому концерту, к которому он подходил очень ответственно: «Я знаю, я верю в себя горячо, / Недаром бегал поющий смычок, / Покорный приказу строчек, / Недаром, гоня назойливый сон, / Я перебрал созвучья басов, / Недосыпая ночи. / И если сыграю, и если сдам, / То самой высокой наградой / Жюри направит меня тогда / Работать с агитбригадой… /…И в ночь, и в мерцанье веселых огней / Через поля и пашни / Мы пронесем по просторной стране / Наши песни и марши!»
16 августа этого же года Сашу похвалил Эдуард Багрицкий в «Комсомольской правде»: «Работать редактору с поэтом — значит находить поэта. Я систематически работаю с литературной группой пионеров и нахожу здесь таких самородков, как Гинзбург, книжку стихов которого я смогу печатать через пару лет»[19]. Но эта мечта не осуществится, поскольку 16 февраля 1934 года Багрицкого не станет.
Через много лет Алена Галич спросила отца: «Во сколько же лет ты стал писать?» Тот в ответ смеялся. А когда Алена спросила об этом бабушку, Фанни Борисовну, та задумалась, а потом сказала: «По-моему, он начал сочинять стихи, когда еще не начал говорить…»[20]
После смерти Багрицкого руководимый им литературный кружок распался. Саша пытался устроиться в другие кружки, которых тогда было множество: побывал у Ильи Сельвинского, Владимира Луговского, Михаила Светлова, Льва Кассиля, но нигде не нашел себя.
В июне 1934-го семья Гинзбургов переезжает на улицу Малая Бронная — в пятикомнатную квартиру на третьем этаже дома 19а. После переезда Саша поступил в среднюю школу № 327 в Большом Вузовском переулке (ныне — Большой Трехсвятительский, дом 4). Актер Михаил Козаков, также учившийся в этой школе, вспоминал, как в марте 1974-го опальный Галич «даже пришел с гитарой на встречу выпускников, но директриса его не пустила»[21].
За одной партой с Сашей Гинзбургом сидел упоминавшийся выше Израиль Брин — они проучились вместе два года, с восьмого по девятый класс: «Мы как-то не понимали, что Саша такой талантливый… Он водил нас в мюзик-холл, у него были такие возможности. Отец Сани, между прочим, работал в КГБ — тогда НКВД. <…> В общем-то, мы с Сашей дружили. И жили в одном доме, и в теннис играли. Это продолжалось еще долго после школы»[22].
Насчет НКВД, конечно, Брин хватил через край, однако отец Галича с начала 1930-х действительно был весьма влиятельной фигурой — он сумел попасть в только что построенное дачно-кооперативное общество старых большевиков в подмосковном Черкизове и вскоре начал работать в сфере снабжения Москвы продуктами[23].
Здесь необходимо хотя бы вкратце рассказать о семье Гинзбургов, которая была богата на таланты. Наибольшую известность получили, конечно, сам Александр Галич и его брат, кинооператор Валерий Гинзбург, снявший многие популярные картины («Комиссар», «Когда деревья были большими», «Живет такой парень», «Странные люди» и т. д.). Но были в их семье и другие одаренные родственники, хотя, может быть, и не столь известные. В первую очередь, это Марк Векслер — брат Фанни Борисовны и, соответственно, дядя Александра Галича, — который, начиная с 1932 года и в течение почти полувека, занимал должность директора Большого зала Московской консерватории. Среди его друзей, даривших ему книги со своими автографами, были Свиридов, Ойстрах, Гилельс и Ростропович.
Сын Марка Векслера Игорь Векслер, работавший журналистом и долгие годы возглавлявший редакцию культуры ИТАР-ТАСС, говорил о влиянии своего отца на формирование музыкального вкуса Галича: «Думаю, Саша приобщился к музыке в немалой степени благодаря отцу. Ведь он жил на Малой Бронной, вблизи от Консерватории, и там дневал и ночевал… Когда Саша приходил к нам домой, он брался за гитару. Не помню, чтобы он был особенно счастлив. Какое уж там счастье? А когда исполнился четвертьвековой юбилей работы моего отца в Консерватории, Саша написал ему стихи. Цитирую по памяти: “Да, четверть века, словно четверть часа, / Промчались, их в помине нет. / Но в вашем храме Феба и Пегаса, / Где властвует искусство, а не касса, / Тех лет неизгладимый свет…”»[24]
Евгений Гинзбург — племянник Галича — стал известным телережиссером. Впоследствии даже «пострадал» за свое родство с опальным бардом: «…я был невыездной, до 87-го меня не пускали даже в Болгарию. Не то что отдыхать — даже работать»[25]. Его родители — Софья Михайловна Гутманович и Александр Иосифович Гинзбург — преподавали театральное мастерство в Гнесинском музыкальном училище на отделении «актер музыкальной комедии». А Александр Иосифович (1916–1973) во время Второй мировой войны руководил попеременно Академическим театром драмы имени Хамзы в Ташкенте, и там же — Русским театром имени Горького.
Валерий Гинзбург вспоминал, что в узком семейном кругу Александр Иосифович как-то произнес такую фразу: «“Господи, в одной семье есть режиссер, автор, оператор — давайте сделаем картину!” Вот так шутили-шутили, да так ничего и не сделали»[26]. Причем, по признанию Александра Иосифовича, сделанному им в декабре 1962 года, Галич «разнообразно одарен, хотя все родственники считают его “невезучим”»[27].
Это было время, когда Саша еще точно не определился в роде своих занятий. Раиса Орлова вспоминала 1935 год и квартиру своего детства на улице Горького, «где красивый Саша Гинзбург, еще не знающий, что он будет делать — писать стихи или картины, сочинять музыку или играть на сцене, — Саша, охваченный предчувствием славы, сидел за нашим разбитым пианино, пел, а мы подпевали: “У самовара я и моя Маша”, “На столе бутылки-рюмочки…”, “Вино любви недаром нам судьбой дано…”»[28].
Если исходить из воспоминаний современников, то создается впечатление, что Саша пел практически беспрерывно. Но, в общем, так оно и было — уже тогда он был большим ценителем и знатоком песен. Большую роль тут, конечно, сыграло влияние матери, сумевшей с раннего детства привить сыну любовь к музыке. Но в еще большей степени повлиял на него дядя Марк Векслер — брат Фанни Борисовны, — директор Большого зала Московской консерватории.
Школа-студия Станиславского
Окончив девятый класс, Саша бросает школу, которая ему «обрыдла до ломоты в скулах», и «нахально» подает документы на поэтическое отделение Литературного института имени Горького[29]. Поступает он туда достаточно легко, поскольку приемной комиссии был известен хвалебный отзыв о нем Багрицкого. Но нормальной студенческой жизни не получилось. Летом 1935 года, уже поступив в Литинститут, Саша узнает, что на улице Тверской, 22 (ныне — улица Горького) открывается театральная Школа-студия под руководством самого Станиславского, который проводит набор на драматическое отделение, и подает заявление уже туда.
Конкурс был огромный — сто человек на место. Каждому претенденту предстояло пройти четыре тура. На втором туре, сдавая экзамен по художественному слову, Саша читал рассказ Куприна «Гамбринус». Экзамен проходил в личном особняке Станиславского, который располагался в Леонтьевском переулке (дом 6).
Поэт Михаил Львовский, в ту пору 19-летний студент Литинститута имени Горького, рассказывал, как его пригласили на этот экзамен: «Интересный парень будет читать. Пойдем, не пожалеешь». Львовский пошел и действительно не пожалел: «Когда герой Саши, скрипач, которого тоже звали Сашкой, изувеченный погромщиками, приложил к губам свистульку-окарину и заиграл плясовую — всё в том же “Гамбринусе”, где его так любили, — у меня в глазах стояли слезы. В гостиной зааплодировали. Кто-то из педагогов сказал: на экзаменах аплодировать нельзя. Аплодисменты стихли. Но они возникли чуть позже, когда выступление закончилось»[30].
На третьем туре председательствовал знаменитый актер и педагог Леонид Леонидов. Саша на пару со своей партнершей Верой Поповой показывал сценку из комедии Эдмонда Ростана «Романтики»: «Мы поставили — один на другой — два шатких стола, что должно было означать стену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актеров, “рвать страсть в клочки”, изображая несчастных влюбленных. Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия, во главе с Леонидовым, смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхотуры им на голову», — напишет он в «Генеральной репетиции».
На следующий день после показа Саша с удивлением узнал, что допущен до четвертого тура, а это фактически означало, что он уже принят в студию, так как претендентов, дошедших до этой стадии, прослушивал сам Станиславский.
Саша жутко волновался, как, впрочем, и все остальные ребята. Прочел поэму Пушкина «Граф Нулин» и стихотворение «Погасло дневное светило…». Здесь Станиславский спросил, приготовил ли он какой-нибудь монолог. Саша мгновенно выпалил: «Монолог “Скупого рыцаря”!» Со всех сторон раздались смешки, а Станиславский интеллигентно поинтересовался: «Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?» Саша гордо ответил: «Семнадцать!» «Семнадцать?» — переспросил Станиславский и громко засмеялся. Но тем не менее Саша был принят в студию и, таким образом, стал дважды студентом.
Целый год он бегал из Литинститута в студию Станиславского и обратно, но однажды, перед весенней сессией, его остановил театральный критик Павел Новицкий, читавший в обоих заведениях историю русского театра, и сказал: «На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кости! Так нельзя… Ты уж выбери что-нибудь одно…» После чего, помолчав, добавил: «Если будешь писать — будешь писать… А тут, все-таки, Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!»
И Саша бросил Литинститут. Но вскоре пожалел об этом… Между тем Новицкий, предсказав ему: «Если будешь писать — будешь писать», оказался прав. Учась в студии Станиславского, Саша продолжал писать стихи. В 1936 году драматург Иосиф Прут написал пьесу «Год девятнадцатый», которую в Театре Красной армии поставил Алексей Попов. По словам самого Прута, «действие двух картин разворачивалось в открытом море. Пять человек — Нестор, Ивин, Багиров, Акопян и Василий — “рыбаки” — экипаж баркаса. Они должны быть постоянно заняты ведением своего маленького корабля. Во время работы что-нибудь напевают. Я предложил для написания рыбацкой песни кандидатуру совсем тогда молодого Саши Галича. Попов согласился. Не помню точно, кто сочинил музыку: быть может, это было творение самого автора стихов… И вот наступил момент прослушивания. Рыбаки запели. Я запомнил один из трех куплетов: “Нашу сеть не утаскивай, / Зла на нас не таи! / Ох ты, Каспий неласковый! / Ведь мы — дети твои…”
Когда вся песня была пропета, Галич ждал решения Алексея Дмитриевича. Тот ответил не сразу. Попросил повторить песню, что было тут же сделано. Попов задумался, а затем сказал Галичу:
— Прекрасная песня! Слова просто берут за душу. И мотив… Говорю честно и поздравляю. Но, к сожалению, мне она не годится.
И на недоуменные взгляды-вопросы присутствующих, мой в том числе, ответил:
— Представьте себе, дорогие товарищи: она… слишком хороша! И я боюсь, что зритель будет слушать только эту песню, а не следить за действием, в которое он… не поверит! Почему? Да потому, что такую песню простые рыбаки не могли петь в то безумное время! И словосложение ее абсолютно чуждо для обычного разговора тех действующих лиц. В общем, лексика не та! Очень сожалею… Обойдемся без специальной песни. Мои рыбаки станут мурлыкать что-то знакомое, то самое, что впоследствии и послужит сигналом к взрыву баркаса. А Ваш труд, Саша, уверен — не пропадет!
Действительно, труд Галича не пропал: два года спустя режиссер “Ленфильма” Илья Тауберг поставил по моему сценарию кинокартину “Год девятнадцатый” (я переработал для экранизации свою пьесу). И в ней — полностью — прозвучала эта прекрасная песня Александра Галича»[31].
Когда Саша заканчивал первый курс студии Станиславского, к нему подошел Леонидов и сказал: «Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил, — свое заявление о приеме и мою на нем резолюцию! Почитай!..» Когда Саше дали это заявление, он прочитал там следующее: «ЭТОГО принять обязательно! Актера не выйдет, но что-нибудь получится!»[32] Саша был сильно расстроен — как же это не выйдет актера?! Неправда это! И вот, чтобы доказать Леонидову и себе, что актер из него все-таки выйдет, Саша продолжил учебу в Оперно-драматической студии, но через несколько лет и сам признал правоту Леонидова насчет своего актерского будущего. В 1940-е годы, работая над пьесой о встречах в аэропорту, он сообщил своему приятелю, будущему режиссеру Борису Голубовскому: «Я перепишу ее стихами». А тот возьми и предложи: «Саша, сыграй сам главного летчика!» Галич посмотрел на него с иронией и сказал: «Ну уж ты-то молчи, не хуже меня знаешь, что сыграть по-настоящему ничего не могу»[33]. И так же иронически он говорил Голубовскому: «Неохота перевоплощаться — зачем?»[34]
7 августа 1938 года умирает Станиславский, и вскоре тяжело заболевает Леонидов. После этого занятия в студии потеряли для Саши всякий интерес, хотя он репетировал «брюнета еврейского типа» Гросмана (с одним «эс») в «Плодах просвещения» по комедии Л. Толстого и был назначен (хотя и во втором составе) на роль барона Тузенбаха в чеховских «Трех сестрах»[35]. Но тем не менее промаялся там еще целый год и осенью 1939-го совершил очередной отчаянный поступок — ушел из студии Станиславского, не закончив ее.
Студия Арбузова
В 1938 году начинающий драматург Алексей Арбузов на самодеятельных началах организовал свою собственную театральную студию. У нее было два руководителя: сам Арбузов — как драматург, и Валентин Плучек — как режиссер.
19 мая на квартире у Плучека в Мерзляковском переулке собрались десять человек, которые и решили создать свой театр. Самого Арбузова не было (он ушел на футбольный матч, пропустить который мог только в том случае, если лежал в больнице без сознания), но зато присутствовали: Плучек, драматург Александр Гладков, четыре актера из бывшего Театра рабочей молодежи (среди них — Исай Кузнецов, Людмила Нимвицкая и Зиновий Гердт), два студента из училища при театре Мейерхольда и еще два профессиональных актера.
Обсуждалось поручение Арбузова написать пьесу-импровизацию; каждому актеру нужно было придумать роль для самого себя. Гладков предложил сделать пьесу о строительстве Комсомольска-на-Амуре, после чего студийцы начали сочинять заявки на роли, которые они хотели бы сыграть. Всего было написано семь или восемь заявок.
В отличие от студии Станиславского, где играли исключительно классический репертуар, в студии Арбузова жили только современностью и импровизациями. У студийцев даже был лозунг: «Жить делами и мыслями сегодняшнего дня!»
А между тем время на дворе стояло страшное — как-никак 1938 год: массовые репрессии, аресты, всеобщий страх. Но студийцы этого как бы не замечали — они жили в своем мире, созданном коммунистической пропагандой. Как напишет потом в своих воспоминаниях Галич: «Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живем современностью, а мы ею вовсе не жили, мы ее конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из “Комсомольской правды”».
Когда Арбузов и Плучек задумали создать свою студию, закрывался театр Мейерхольда, театр Охлопкова соединяли с Камерным, Театр Ленинского комсомола (бывший Театр рабочей молодежи) — со студией Рубена Симонова, доживали последние дни студии А. Дикого и Н. Хмелева. Молодые студийцы этого не понимали, но это было и к лучшему, иначе у них самих бы ничего не получилось. Когда стало известно, что они решили сами написать и поставить пьесу, люди, умудренные жизнью, начали над ними смеяться: «Этого не может быть потому, что не может быть никогда»[36]. Но наивность и неопытность иногда приносят пользу, и так произошло на этот раз.
Слухами об открытии студии Арбузова полнилась вся Москва. Дошли они и до Саши Гинзбурга, давно мечтавшего стать актером. Он пришел в студию осенью 1939 года вечером, перед началом очередной репетиции. Исай Кузнецов описывал свое первое впечатление от встречи с ним: «Галич беседовал с Арбузовым и Плучеком. Больше никого не было. Когда мы с Гердтом вошли, Плучек познакомил нас с Сашей.
Признаться, он нам не очень понравился. Может быть, потому, что держался — думаю, от смущения — подчеркнуто независимо и гордо»[37].
Участниками арбузовской студии стала молодежь, пришедшая из самодеятельных коллективов, театральных училищ, из школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), с заводов и из институтов. Назовем некоторых из них: Н. Антокольская, К. Арбузов, В. Багрицкий, А. Богачева, З. Гердт, А. Гинзбург, М. Селескериди, Е. Долгополов, П. Дроздов, А. Егоров, И. Кузнецов, М. Малинина, Г. Михайлов, Л. Нимвицкая, М. Новикова, Н. Подымов, Н. Потемкин, А. Соболев, Л. Тоом, А. Тормозова, А. Фрейдлин и другие.
Название пьесы основывалось на строках стихотворения Маяковского «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929), где речь также шла о строительстве города: «Я знаю — город будет, / я знаю — саду цвесть, / когда такие люди / в стране советской есть!» Вот этот город «на заре коммунизма» как символ нового Советского государства и собирались воспеть актеры арбузовской студии.
По сюжету в начале пьесы строители-добровольцы летом 1932 года со всех уголков страны — из Москвы, Иркутска, Ленинграда, Тулы, Саратова, Саранска, Одессы — на пароходах «Колумб» и «Коминтерн» прибывают на Амурскую землю и останавливаются в районе небольшой деревни Пермское. Все это соответствовало духу советской пропаганды: страна охвачена энтузиазмом социалистического строительства и верой в светлое будущее, которое вот-вот настанет…
В действительности же главной рабочей силой на этой стройке были заключенные Дальневосточного исправительно-трудового лагеря — Дальлага, — в котором, кстати говоря, в 1938 году погиб Осип Мандельштам.
Сам же Комсомольск-на-Амуре был центром лагерной системы Хабаровского края. Вот что сообщает об этом официальный сайт города: «Первые заключенные Дальлага стали прибывать в край в марте 1933 года. Через пересыльный пункт в Комсомольске прошло не менее 900 тысяч подневольных строителей. В городе нет ни одного предприятия из числа заложенных в 30—40-е годы, в строительстве которого не принял бы участие Дальлаг. <…> Среди строителей были и вольнонаемные, вербованные, переселенцы». А в «Справочнике по ГУЛАГу» Жака Росси, который сам отбыл 23 года в советских лагерях, прямо сказано: «Комсомольск-на-Амуре — воздвигнутый заключенными город, о котором официальная пропаганда твердит, будто он был “основан в 1932 г. комсомольцами, прибывшими на строительство со всего Сов. Союза” (БСЭ[38])»[39].
Любопытно, что следующим в этом словаре стоит слово «комсомольцы». Кроме общепринятого значения, Росси указывает и второе — лагерный термин: «Заключенные, особенно политические, которые сами себя так называли, поскольку за воздвигнутые их трудом стройки печать восхваляла одних комсомольцев. На этих стройках комсомольцы действительно присутствовали, но лишь в рядах охраны. Термин появился в начале 30-х годов».
О том же, сколько зэков полегло во время строительства Комсомольска, можно только догадываться. Некоторое представление об этом можно составить исходя из данных, которые Жак Росси приводит о Магнитогорске: «Считают, что на строительстве погибло около 22 тысяч заключенных»[40].
Такова была реальная история возникновения Комсомольска-на-Амуре и многих других городов — таких, как Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск (Северодвинск), Дубна, Находка.
Через тридцать лет Галич создаст обобщенный образ этого строительства в своей лагерной поэме «Королева материка»: «Говорят, что когда-то, в тридцать седьмом, / В том самом лихом году, / Когда покойников в штабеля / Укладывали на льду, / Когда покрякивала тайга / От доблестного труда, / В тот год к Королеве пришла любовь, / Однажды и навсегда. / Он сам напросился служить в конвой, / Он сам пожелал в Дальлаг, / И ему с беспартийной крутить любовь / Ну, просто нельзя никак… <…> Но мыто знаем, какая власть / Дала нам в руки кайло, / И все мы — подданные ее / И носим ее клеймо».
Но это произойдет еще не скоро, а пока Саша Гинзбург совместно с другими студийцами готовится воспеть «доблестный труд» строителей коммунизма. Правда, позднее Арбузов даже говорил, что создатели «Города на заре», сочиняя пьесу, рассказывали не столько о строителях Комсомольска, сколько о самих себе, то есть о молодых интеллигентах 30-х годов[41]. Однако эту точку зрения не разделяет Исай Кузнецов: «…ни З. Гердт, ни Л. Нимвицкая, ни Е. Долгополов, ни М. Селескериди вовсе не играли себя. Характеры их героев не были кальками их индивидуальностей»[42].
Свои заявки студийцы читали руководству студии на даче родителей Милы Нимвицкой в подмосковных Раздорах. Арбузов корректировал эти тексты и сводил их в единое целое. Вообще же Арбузову все настолько нравилось, что он даже говорил, что каждая из заявок тянет на отдельную пьесу.
Поскольку у студийцев не было собственной сцены, первое время они собирались на квартирах и в случайных помещениях. Однако в конце 1939 года им удалось снять гимнастический зал в школе № 133[43] на улице Герцена (ныне — Никитской), напротив Московской консерватории. Это было то самое здание, где Вахтангов впервые встретился со своими учениками. Зал на свои деньги арендовали Арбузов и Плучек, по возможности помогали и сами актеры. Здесь по вечерам стали проходить репетиции спектакля.
Условия, в которых работали студийцы, были близки к экстремальным. Особенно тяжело им приходилось зимой 1939/40 года из-за того, что какой-то двоечник, уходя на летние каникулы, выбил несколько стекол. На улице морозы доходили до пятидесяти градусов, а в школе температура была чуть выше нуля, поэтому студийцы репетировали не раздеваясь.
Роли актеры писали себе сами. Исай Кузнецов начал репетировать роль начальника стройки, секретаря комсомольской организации Льва Борщаговского, оказавшегося «вредителем» и троцкистом (недаром его звали тоже Лев!). Однако после нескольких неудачных репетиций эту роль передали Саше Гинзбургу.
Поразительный факт: в 1934 году забрали Сашиного двоюродного брата Виктора, который был студентом МГУ (через полтора месяца после этого от сыпного тифа скончался его отец, пушкинист Лев Гинзбург)[44], а в 1938-м был арестован отец Исая Кузнецова. Однако оба они — и Исай, и Саша, — как и многие их современники, продолжали верить в справедливость существующего строя… Позднее Кузнецов рассказал о том, как он воспринял арест отца: «Я считал, что это просто ошибка и что отца скоро освободят. Я был комсомольцем, других мыслей у меня возникнуть не могло»[45]. Вероятно, нечто подобное приходило в голову и Саше Гинзбургу, хотя в комсомоле он не состоял и был младше Кузнецова на два года.
Когда Саше передали роль Борщаговского, он фактически переписал ее заново, и хотя идея этой роли, как и всего спектакля, была насквозь лживой, сыграл он своего персонажа великолепно, причем раскрыл его именно как человека. Это отметила и театральная критика: «Образ Борщаговского — один из самых сложных образов пьесы. Большое достоинство исполнения А. Гинзбурга в том, что его Борщаговский не традиционный злодей, не штампованный вредитель, а прежде всего человеческий характер. По этой части, впрочем, и все остальные исполнители этой пьесы почти безупречны»[46].
Однако были и куда более сдержанные оценки — например, Борис Голубовский ничего сверхвыдающегося в игре Галича не увидел: «Самого плохого человека в “Городе на заре” — начальника строительства Борщаговского — играл Александр Гинзбург. Играл правильно, умно, хоть и без открытий, без тех хватающих за душу подробностей, поворотов характера, которыми поражали Нимвицкая, Гердт, Селескериди, Тормозова. Придраться не к чему, и радоваться нет повода»[47].
Вот уж действительно: сколько людей, столько мнений.
Лет через двадцать Алена Архангельская спросила отца: «Ну почему ты не взял себе какой-нибудь другой, более обаятельный образ?», на что он ответил: «Ты ничего не понимаешь, отрицательные роли — самые интересные»[48]. А в «Генеральной репетиции» он уже беспощадно разделается с этой своей ролью и будет вспоминать о ней со стыдом: «В спектакле “Город на заре” я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие “хорошие” комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован», и охарактеризует весь спектакль как «ходульную романтику и чудовищную ложь».
Но это понимание придет к Галичу позднее, а пока юный Саша Гинзбург с увлечением участвует в создании спектакля. Заметим также, что участие в нем принимала и 16-летняя Люся Боннэр (будущая жена академика Сахарова Елена Боннэр) — она шила специальный занавес для спектакля.
Зимой 1940 года, во время советско-финской войны, выпускник Литинститута Михаил Львовский привел на репетицию группу молодых поэтов: Павла Когана, Бориса Слуцкого, Михаила Кульчицкого, Бориса Смоленского, Сергея Наровчатова, Евгения Аграновича, Розу Тамаркину, Николая Майорова и Давида Самойлова (тогда еще — Кауфмана). Вскоре они стали горячими поклонниками студии и после репетиций в холодном гимнастическом зале школы с деревянного помоста читали свои стихи. Многие из них были полны веры в светлое будущее и говорили о грядущей справедливой войне, которая должна установить коммунизм по всему миру. Об этом вовсю трубила тогдашняя пропаганда: к примеру, в 1937 году появилась песня «Если завтра война» («Если завтра в поход, будь сегодня к походу готов»), а в 1938-м на экраны вышел одноименный фильм.
Молодые поэты с энтузиазмом откликнулись на эти призывы. Михаил Кульчицкий говорил о масштабной мобилизации советских войск: «Уже опять к границам сизым / Составы тайные идут, / И коммунизм опять так близок, / Как в девятнадцатом году». (В 1919–1920 годах Красная армия под руководством Тухачевского через «труп белой Польши» пыталась осуществить захват Европы, но эта попытка провалилась[49].) Ему вторил Павел Коган, но одновременно предсказывал свою гибель и гибель своих товарищей: «Но мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, / Чтоб от Японии до Англии / Сияла Родина моя». Трагично звучали стихи Николая Майорова: «Мы были высоки, русоволосы. / Вы в книгах прочитаете, как миф, / О людях, что ушли, не долюбив, / Не докурив последней папиросы».
И вдруг после всех этих пророчеств Давид Самойлов прочитал стихотворение «Плотники», которое повернуло слушателей лицом к подлинной реальности, скрывавшейся за фасадами сталинской пропаганды: «Шел палач в закрытой маске, чтоб не устыдиться, / Чтобы не испачкаться, в кожаных перчатках. / Плотники о плаху притупили топоры, / На ярмарочной площади крикнули глашатаи…»
В «Городе на заре» было много песен, которые приносил в студию Саша Гинзбург и там же пел их. Были среди них народные («В лесу, говорят, в бору, говорят, росла, говорят, сосенка…»), были и блатные, то есть тоже, в общем, народные («Вдруг из леса пара показалась, / Не поверил я своим глазам»). Одна из этих песен имела достаточно необычное для того времени содержание. Исай Кузнецов запомнил из нее две строки: «Край мой, край ты Соловецкий, / Для шпаны и для каэров лучший край…»[50]
Когда начинают выяснять, где же истоки авторских песен Галича, то ответ очевиден: да вот же они, эти истоки! Хотя в то время Саша Гинзбург воспринимал их лишь как блатную романтику, не понимая всей трагичности этих строк: «Соловки открыл монах Савватий, / Был тот остров — неустроенный пустырь. / За Савватием шли толпы черных братий… / Так возник великий монастырь! / Край наш, край ты соловецкий, / Для каэров и шпаны прекрасный край! / Снова, с усмешкой детской, / Песенку про лагерь начинай! <…> Но со всех сторон Советского Союза / Едут-едут-едут без конца. / Все смешалось: фрак, армяк и блуза… / Не видать знакомого лица! / Край наш, край ты соловецкий, / Всегда останется, как был, чудесный край…»
Эту песню сочинил возникший в 1924 году творческий коллектив политзаключенных Соловков под сокращенным названием ХЛАМ (художники, литераторы, актеры, музыканты).
Добавим, что «каэры» представляет собой аббревиатуру слова «контрреволюционеры» — к.-р. Через тридцать лет Галич упомянет ее уже в одной из своих собственных песен — в «Балладе о Вечном огне»: «…Где бродили по зоне каэры, / Где под снегом искали гнилые коренья, / Перед этой землей никакие премьеры, / Подтянувши штаны, не преклонят колени!»
В тексте пьесы «Город на заре», хранящемся в РГАЛИ[51], встречается множество фрагментов из лагерных, блатных или просто фольклорных песен, а на самой первой странице только что прибывшие на берег Амура комсомольцы поют знаменитый «Интернационал»: «Никто не даст нам избавления, / Ни бог, ни царь и ни герой. / Добьемся мы освобожденья / Своею собственной рукой».
На 7-й странице сценария приведено несколько строк из старинной народной песни: «Вдоль да по речке, / Вдоль да по Казанке / Сизый селезень плывет…», на 10-й — Зорин и Жора Кротов поют известную блатную песню (точнее — стилизацию под нее): «Я Колю встретила на клубной вечериночке, / Картину ставили тогда “Багдадский вор”, / Глазенки серые и желтые ботиночки / Зажгли в душе моей пылающий костер». А на 14-й странице Зорин поет песню на стихи поэта Николая Кооля «Смерть комсомольца» (1924), правда, с небольшими отступлениями от оригинала: «Там вдали, за рекой, догорали огни, / В небе ясном заря загоралась. / Сотни юных бойцов из буденновских войск / На разведку в поля ускакали».
Некоторые песни, прозвучавшие в «Городе на заре», сочинили сами студийцы. Например, текст песни «У березки мы прощались…» (полноетью приведенный в сценарии пьесы) придумали Сева Багрицкий и Миша Львовский, еще один актер сочинил мелодию, и эта песня даже стала гимном арбузовской студии. А одна из песен — «Прилетели птицы с юга, на Амур пришла весна…» — целиком принадлежала Саше Гинзбургу.
Когда наступила весна, студийцы завершали работу над вторым актом. Хотя срок аренды заканчивался в июне 1940 года, их внезапно попросили покинуть помещение, так как аренда была незаконна. Что было делать? Не бросать же спектакль! Студийцы собрались в маленькой комнатке, которая служила подсобным помещением для биологического кабинета, и договорились показать готовые два акта пьесы тем людям, которым они доверяли и которые смогут им помочь, если увидят, что это заслуживает внимания. В итоге пригласили на репетицию К. Паустовского, М. Бабанову, И. Штока, А. Роскина, Т. Хренникова, А. Гладкова и многих других.
Играли без грима и почти без освещения — только Зиновий Гердт смастерил из консервных банок осветительные приборы — некое подобие софитов…
Взыскательным зрителям спектакль понравился, и 19 марта «Правда» напечатала статью Паустовского «Рождение театра»: «Недавно два акта пьесы были готовы. Их показали нескольким актерам, критикам и писателям. От этого еще не законченного спектакля осталось радостное ощущение крупного события в нашей театральной жизни. <…> Но на днях коллектив выселили из помещения, где он работал. Необходимо, чтобы Комитет по делам искусств срочно помог новому театру — дал бы ему на первое время хотя какой-нибудь зал для репетиций, чтобы закончить работу над пьесой».
Просьба Паустовского была услышана, и в студию пришли сотрудники газеты «Правда» Борис Галанов и Александр Шаров, а также зампредседателя Комитета по делам искусств Александр Солодовников. Они посмотрели спектакль, и Солодовников разрешил студийцам остаться в помещении школы до завершения работы над пьесой. Те обрадовались и принялись за работу над третьим актом — последним в спектакле.
На нескольких репетициях «Города на заре» присутствовал и будущий секретарь Московского отделения Союза писателей Анатолий Медников, который в этом качестве еще появится на страницах нашего повествования, а тогда, в студии Арбузова, куда его привел Михаил Львовский, он был всего лишь рядовым зрителем: «Я отчетливо помню этот вечер, коридор школы, слабо освещенный, угрюмоватый гимнастический зал, который на личные деньги Арбузова арендовала студия, — шведскую стенку с выломанными палками и некое подобие сцены, сооруженной из перевернутых парт. <…> Парты не мешали. Мы видели тайгу и верили, что где-то рядом течет Амур.
Актер — он же и драматург. Это было ново»[52].
И вот на таком фоне Саша Гинзбург изображал секретаря горкома, который ездил по амурской стройке на автомобиле: этот «автомобиль» символизировали два венских стула и обруч от третьего, который выполнял роль «баранки» в руках водителя. А барабанная дробь изображала звук мотора…[53]
Часто Исай Кузнецов, Саша Гинзбург и Миша Львовский собирались дома у Севы Багрицкого, который жил в пяти минутах от школы — в квартире, оставшейся ему от его отца Эдуарда Багрицкого. Там они сочиняли песни и сценки для капустников (Саша играл на гитаре, придумывая мелодии к песням), слушали выступления молодых поэтов и просто говорили «за жизнь». Случалось, что и выпивали. Словом, вели нормальную жизнь творческой богемы[54].
Людмила Нимвицкая вспоминает, что Сашин дядя — Марк Векслер, — работавший в Большом зале консерватории, доставал для всей студии билеты на лучшие концерты: «Саша жил в благополучной семье, и когда днем многие из нас работали, мы знали, что он играет в теннис с Андреем Гончаровым. <…> В то время мы увлекались Хемингуэем, Пастернаком, устраивали вечера французской, испанской поэзии — каждый читал свои любимые стихи. Жить было интересно»[55].
Борис Голубовский дополняет эти воспоминания об атмосфере в студии Арбузова другими штрихами: «Ребята — Саша Галич и другие — рассказывали, как у них проходили занятия: перед тем как прослушать “Манфреда” Чайковского, читали Байрона, переписку Чайковского и фон Мекк, Гете о “Манфреде”, затем обсуждали музыку. “Актер должен быть артистом”, — сказал Валя Плучек.
Атмосфера влюбленности в свое дело подчиняла себе всех — актеров, рабочих сцены…»[56]
Кроме того, актеры раз в неделю придумывали этюды на вольные темы по мотивам писателей-классиков (Чехова, Достоевского, Хемингуэя, Мопассана, Гоголя) и потом выносили их на суд студии. Все это делалось для того, чтобы они могли научиться искусству импровизации. Иногда им просто давали несколько опорных слов — например, «ночь, улица, фонарь, аптека» или «мост, рассвет, окурок», от которых они отталкивались, сочиняя свои этюды[57]. Часто актеры экспериментировали, подражая знаменитым писателям и сочиняя частушки, стилизованные под известные произведения.
К июню «Город на заре» был готов, после чего студийцы решили устроить просмотр всего спектакля, который должен был определить судьбу студии. Однако несколько ведущих актеров получили повестку из военкомата и ушли в армию, а без них спектакль разваливался. Пришлось все собирать заново.
В середине декабря 40-го года Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР запрещает спектакль к постановке, в связи с чем Арбузов и Плучек обращаются в Главное управление репертуарного контроля (ГУРК), выделенное в 1934 году из Главлита и преобразованное в самостоятельную инстанцию, с просьбой объяснить причины запрета: «Государственная Театральная Московская Студия просит Ваше письменное заключение с мотивировкой запрещения пьесы “Город на заре”»[58]. 18 декабря на это письмо была наложена резолюция, написанная крайне неразборчиво. Приблизительно ее можно расшифровать так: «Предложить Студии поменять спектакль (учитывая своеобразие пьесы и коллектива)»[59]. К резолюции прилагается машинописный протокол Главреперткома с заключением политредактора Н. Кертелова о пьесе, которая названа «театральной хроникой в 9 картинах», поступившей от коллектива авторов[60].
Сначала отмечается «благородство» задачи, поставленной перед собой авторами: «показать строительство социалистического города и рассказать о мужестве и героизме комсомольцев, построивших город обороны в короткий срок и в исключительно тяжелых условиях». Но тут же доказывается, что с этой задачей они не справились: в результате «одностороннего показа отрицательных фактов», как сообщает политредактор, «получилась чудовищная картина: будто бы город юности — Комсомольск — построен на костях и страданиях комсомольцев, его первых строителей». Далее приводится реплика одного из положительных персонажей — Багрова: «Мы хотим, чтобы в городе жили те, кто его сейчас строят. Вспомни, как создавался Петербург. Петербург — вот чего мы не допустим!»
Значит, студийцы знали о реальной истории строительства города? Знали, но, вероятно, сочли эти жертвы неизбежным злом, которое ожидает любых первопроходцев…
По мнению политредактора, «основная ошибка авторов заключается в том, что за трудностями и вредительством они не увидели (или не сумели показать в пьесе) главного, ведущего — это героизма людей, радости труда, пафоса социалистической стройки». И особенно ему не понравилось, что «в пьесе нет ни одного по-настоящему положительного образа комсомольца. Среди комсомольцев преобладают отрицательные персонажи (вредители, кулацкие сынки, дезертиры и т. п.). Во главе комсомольцев стоит некий Борщаговский — двурушник, вредитель. Присланный из Москвы старый большевик Багров не разоблачает врагов, а уговаривает их».
И в конце, как водится, оргвывод: «Я считаю, что пьесу в таком виде разрешать нельзя». Однако далее следует написанное от руки заключение ГУРК: «Разрешить Московской театральной студии» — и подпись начальника ГУРК. А слева — пометка (также от руки), датируемая 24 декабря: «От окончательного решения воздержаться до просмотра спектакля». Подпись неразборчива.
Так было получено разрешение на премьеру «Города на заре», и уже 2 февраля 1941 года газета «Советское искусство» поместила небольшую заметку: «5 февраля Московская государственная театральная студия показывает свой первый спектакль “Город на заре”. Пьеса написана коллективом студии под редакцией А. Арбузова. Постановка В. Плучека. Студии предоставлено помещение в Мало-Каретном переулке».
Этим помещением была сцена клуба трикотажной фабрики, где 5 февраля действительно состоялась премьера «Города на заре». Афиши висели по всему городу. На них в качестве «автора пьесы и спектакля» был назван коллектив студии и перечислялись фамилии всех тридцати девяти студийцев, а также художественных руководителей — Арбузова и Плучека[61].
Театральным чиновникам спектакль понравился, и 20 февраля Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром Комитета по делам искусств разрешило пьесу «к исполнению»[62].
Премьера «Города на заре» имела оглушительный успех — толпы студентов осаждали клуб на Малом Каретном. Даже председатель Комитета по делам искусств Михаил Храпченко не мог сквозь них пробиться. В отчаянии он кричал: «Пропустите, я — Храпченко!», на что тысяча молодых глоток ему отвечала: «Все Храпченки!»[63]
В маленьком гардеробе выдавали номерки студенты и поэты — Наровчатов и Слуцкий. Когда номерки кончились, шубы стали сваливать в угол… Вдобавок долго не могли усадить всех желающих попасть на премьеру, и поэтому занавес смогли открыть лишь с опозданием на два часа[64], а закончили спектакль в третьем часу ночи[65].
В своих воспоминаниях Галич, описывая столпотворение в зрительном зале, говорит, что были забиты все проходы между рядами, а зрители даже сидели на полу вдоль рампы. Однако далее он уточняет, что подобная картина наблюдалась лишь первые три раза, а потом они играли уже при полупустом зале: «Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приемов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла».
И для контраста — прямо противоположная картина из письма Севы Багрицкого своей маме Лидии Багрицкой, находившейся тогда в женском Карагандинском лагере, от 23 марта 1941 года: «Наш коллективный спектакль “Город на заре” идет с большим успехом. Песенки оттуда поет вся Москва. В феврале была премьера. Хвалебные статьи почти во всех газетах, начиная с “Правды” и кончая “Московским комсомольцем”. Также состоялся ряд диспутов, что за последнее время в театральном мире — необычайное явление»[66].
Однако Сашина игра — а точнее, его трактовка образа Борщаговского — некоторым критикам, причем вполне доброжелательно настроенным, не понравилась. Так, например, Борис Галанов (Галантер) и Александр Шаров, которые уже видели репетиции «Города на заре» и одобрили их продолжение, в своей рецензии писали: «Странно выглядит в пьесе и секретарь горкома комсомола Борщаговский (А. Гинзбург). По своим поступкам Борщаговский — явный вредитель, и сложные его психологические переживания (а им отведено непомерно много места) вызывают недоумение и раздражение»[67]. Читая эти отзывы, Саша только улыбался…
Всего с февраля по май 1941 года «Город на заре» был сыгран сорок три раза, и 20 мая студийцы ушли на каникулы.
Второй премьерой арбузовского театра должен был стать спектакль «Дуэль» по пьесе Саши Гинзбурга, Исая Кузнецова и Севы Багрицкого. Писать ее они начали еще во время репетиций «Города на заре» — летом 1940 года. Работали в перерывах между занятиями и репетициями и даже во время отпуска, пересылая друг другу письма с репликами персонажей и готовыми сценами. Название пьесы, по замыслу авторов, должно было символизировать борьбу подлинной романтики с ложной, настоящей любви — с придуманной и «правильного» мировоззрения — с мещанским. Действие в пьесе происходило в некоем провинциальном городке, жители которого ожидают возвращения своего земляка-летчика после Финской войны.
19 апреля 1941 года, в день 19-летия Севы Багрицкого, пьеса была окончена, и авторы прочли ее всему коллективу студии. Арбузову пьеса понравилась, и он взялся за ее постановку. Теперь дело было за репертуарным комитетом: если он одобрит пьесу, то осенью состоится премьера. В связи с грядущей постановкой Сева написал своей маме 14 мая: «Все нам — Саше, Исаю и мне — сулят огромную славу и богатство. Сама понимаешь — все это чепуха. Однако, в надежде на будущее богатство, купил себе очень модное голубое пальто, после чего остался совершенно без копейки. Приходится заниматься всякой мелкой поденной работой. Например, переделкой детской сказки “Коза-дереза” для кукольного театра»[68].
Вскоре Сева уехал отдыхать в Коктебель, и в Москве остались только два соавтора — Саша и Исай. Днем в субботу 21 июня в пустом зрительном зале они смотрели прогон уже почти готового спектакля. Репертком в целом его одобрил, и теперь нужно было лишь внести в сценарий кое-какие поправки для того, чтобы 23 июня представить окончательный вариант. С этой целью 22 июня Исай отправился на Малую Бронную в гости к Саше. Однако, подойдя к Никитским воротам, он увидел, что к громкоговорителю, висевшему на доме, бегут люди. Исай тоже подбежал и услышал, что началась война. «К Галичу пришел, понимая, что никаких правок мы делать не будем. Не помню, о чем мы говорили. Во всяком случае, не о пьесе»[69].
Война
22 июня грянула война, но совсем не по тому сценарию, который предсказывали в своих стихах Кульчицкий, Коган, Майоров и другие молодые поэты.
Арбузовская студия в это время была в отпуске, но 25 июня, после того как Совинформбюро объявило о начале войны, все студийцы собрались вместе в небольшом полуподвальном клубе напротив Спасских ворот и стали готовить концертную программу. Среди авторов были Саша Гинзбург, Сева Багрицкий и Миша Львовский. Артист Владимир Иванов вспоминает: «Я помню, как плакал Саша Галич, говорил: “Такая жизнь красивая будет после войны!” То, что наша будет победа, мы не сомневались. Я вот ходил все время, как дурак улыбался. Это же надо, думал, ведь он же сам себе могилу роет, Гитлер-то. Вот… В программе были куплеты Гинзбурга. Я их помню, некоторые строчки: “Шли войска Наполеона на великую страну, но легла в сугробах снежных Бонапартова краса. Где теперь его телега, все четыре колеса? Начинает враг другую, кровожадную войну, ну так мы ему втолкуем, что, и как, и почему! Растолкуют наши танки, наших пушек голоса, наша славная тачанка, все четыре колеса!”»[70]
Хотя у всех студийцев была бронь от армии, но большинство из них ушло на фронт, и половина мужчин не вернулась с войны.
Погибла Лия Канторович, с которой Саша Гинзбург познакомился в январе 1941 года на Патриарших прудах и в которую сразу же отчаянно влюбился. История этого знакомства описана в «Генеральной репетиции». В июне 1941-го Лия, студентка третьего курса МИФЛИ, ушла на фронт медсестрой, а 20 августа получила смертельное ранение осколками разорвавшегося снаряда… Ей был всего 21 год[71].
Призвали в армию и Сашу Гинзбурга, но уже первые три врача — терапевт, окулист и невропатолог — признали его негодным и освободили от службы. Поэтому, чтобы не сидеть без дела, Саша устроился коллектором в геологоразведочную партию и уехал с ней на Северный Кавказ. Однако дальше Грозного их не пропустили.
По Грозному тем временем ходили слухи о том, что туда скоро войдут немецкие войска. В это время два молодых режиссера, Константин Борщевский и Владимир Вайнштейн, тоже приехавшие в Грозный из Москвы, задумали организовать Театр политической сатиры и пришли с этой идеей к заведующему отделом литературы и искусства газеты «Грозненский рабочий» Матвею Грину, который в 30-е годы уже отбыл пять лет в сталинских лагерях (вскоре ему предстоит стать повторником и отмотать еще один пятерик). Сообщили, что уже есть в наличии один певец из филармонии, один танцор (будущий народный артист СССР Махмуд Эсамбаев) и человек восемь актеров. Не хватало только автора, который смог бы написать эстрадную программу.
Однажды Матвей Грин, идя по главной улице Грозного — проспекту Революции, — увидел молодого человека, сильно выделявшегося из толпы: «Обратил я на него внимание потому, что очень уж “нездешний” вид у него был: пиджак в клетку, берет, узконосые ботинки, яркая рубашка да еще гитара за плечами… Он шел медленным шагом, внимательно рассматривая прохожих — видно, барашковые папахи мужчин и низко повязанные косынки женщин ему были в диковинку…»[72]
Грин подумал, что у этого юноши слишком уж вызывающая внешность и находящийся поблизости патруль вполне может принять его за шпиона. Поэтому он подошел к нему и спросил: «Что вы ищете, молодой человек?» — «Редакцию или какое-нибудь учреждение искусства». — «Ну, считайте, что нашли и то и другое! Я работаю в редакции и заведую литературной частью театра миниатюр». — «А говорят, Бога нет! Есть! Конечно, есть!» Звали молодого человека Саша Гинзбург.
На следующее утро Грин привел его в городской драмтеатр имени Лермонтова, и Саша сразу же спросил: «Братцы! Что надо делать?»[73] Он получил должность заведующего литературной частью и быстро стал полноправным членом коллектива: вместе с группой актеров и режиссером Борщевским организовал Театр народной героики и политической сатиры, писал для спектаклей песни и интермедии о подвигах чеченских солдат и в течение нескольких месяцев пел их в госпиталях и частях гарнизона. В некоторых постановках даже играл сам — как, например, в одноактной пьесе «Три полководца», написанной Матвеем Грином для фронтового театра миниатюр (помимо Саши там играли пока еще никому не известные Махмуд Эсамбаев и Сергей Бондарчук). Действие в этой пьесе происходит глубокой ночью в штабе народного ополчения. К дежурному во сне приходят сновидения в образе трех русских полководцев — Александра Невского, Александра Суворова и Василия Чапаева. Узнав про нашествие фашистских войск, они записываются в грозненское народное ополчение. Разговор полководцев режиссеры смонтировали из фонограмм трех кинофильмов — «Суворов», «Александр Невский» и «Чапаев».
Пьеса имела огромный успех — в переполненном зале Грозненского театра имени Лермонтова зрители кричали: «Не видать Гитлеру грозненской нефти! От меча и погибнет!»[74] Забегая вперед, скажем, что грозненской нефти немецкие войска так и не увидели, поскольку не смогли дойти до города.
Были и другие интересные постановки. Вместе с Матвеем Грином Саша сделал комедию-скетч «Цари в обозе» (премьера состоялась в том же драмтеатре имени Лермонтова 13 и 14 сентября 1941 года), спектакль «Мы охраняем город» (премьера — 11 и 12 октября) и самостоятельно подготовил скетч «Гитлериада» (премьера — 1 октября)[75].
Преподаватель грозненского пединститута Борис Виноградов написал пьесу «Злата Прага», посвященную бойцам Сопротивления. Саша играл в ней чешского партизана и даже пел чешские и словацкие песни.
Вообще с песнями было больше всего хлопот. Матвей Грин вспоминает: «В обозрении “Москва — Лондон — Нью-Йорк” рассказывалось о боевой дружбе летчиков антифашистской коалиции, их подвигах… Материал мы брали из сообщений Совинформбюро, ну и, конечно, “сдабривали” его духом хемингуэевских героев. Саша с блеском играл какого-то американского летчика, пел песенки на английском. О! Сколько мы натерпелись от Обллита и Политуправления с этими песенками! О чем они? Что там говорится о “дяде Джо” (так называли в США Сталина)? Нет ли в них чего “порочащего”?»[76]
Как-то отыграв спектакль в Доме культуры в Гудермесе, Саша Гинзбург и Матвей Грин зашли в грим-уборную и там разговорились. Оба они ощущали сильное давление цензуры и мечтали о том времени, когда можно будет творить свободно. Саша сказал: «Уж очень много надсмотрщиков», после чего добавил: «Так хочется поехать в Париж, пройти по улицам, описанным Дюма, Бальзаком, Гюго, посидеть в каком-нибудь кафе, как это написано у Оренбурга…»[77] Эти его мечты сбудутся через много лет.
Прифронтовой театр
В декабре 1941-го Саша узнает о том, что в небольшой город Чирчик, под Ташкентом, после массовой эвакуации 15 октября, приехала значительная часть актеров арбузовского театра во главе с Плучеком, где их поселили в небольшом бараке. Саша покидает Грозный и транзитом через Баку и Красноводск приезжает в Чирчик. Самого Арбузова там не было — он перебрался с семьей в Чистополь; туда же уехал и Сева Багрицкий, который будет убит в феврале следующего года.
Перед эвакуацией из Москвы Плучеку было дано задание подготовить театральный репертуар, и он решил на основе коллектива бывших студийцев заново сформировать театральную труппу. В результате уже 6 декабря на клубной сцене Чирчика начались репетиции спектакля «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова, и 31 декабря, под Новый год, состоялась премьера.
Одну из центральных ролей в спектакле (героя войны по фамилии Луконин) играл будущий сценарист Леонид Агранович, познакомившийся с Сашей Гинзбургом в Москве в июне 1941-го. Он оказался в студии Арбузова и Плучека среди тех актеров, которые не попали на фронт. Саша уехал в Грозный, а Леонида вместе с другими студийцами осенью, когда была объявлена массовая эвакуация, вызвали на Неглинную улицу во Всесоюзный комитет искусств (ВКИ), где им всем было велено уезжать в Улан-Удэ, столицу Бурятии. Но туда им ехать не особенно хотелось, поэтому бланки, которые им дал комитет, они подделали, поменяв на них пункт назначения: Улан-Удэ — на Ташкент. Когда приехали в Ташкент, пошли в филиал местного ВКИ, представителем которого оказался не кто иной, как дядя Саши Гинзбурга Марк Векслер (вся семья Гинзбург к тому времени уже перебралась в этот город). Он сразу понял, что ему подсунули обыкновенную липу, но виду не подал и сказал: «В Ташкенте, конечно, приткнуться некуда — сюда половина московских театров съехалась, а вот в Чирчике, ребята, это полчаса на электричке, у вас будет сцена и жилье, и горячие пирожки с сабзой, сверх карточек»[78].
Так они прибыли в Чирчик, и там буквально за полтора-два месяца студийцы подготовили два спектакля: помимо «Парня из нашего города», поставили спектакль «Ночь ошибок» по комедии Оливера Голдсмита, в которой Сашу назначили на роль любовника по имени Чарли Марлоу.
Зимой 1941/42 года к обоим спектаклям Саша сочинял по две песни в день, и каждый акт пьесы «Парень из нашего города» начинался с одной из его песен: «Ветер гонит на запад суровые льды, / Сквозь ненастья арктической ночи / Пролетел, выручая друзей из беды, / Молодой замечательный летчик. / Веселый парень, простой и гордый, / Ты, если нужно, за отчизну жизнь отдашь, / Веселый парень из нашего города, / Товарищ самый закадычный наш»[79].
По воспоминаниям участвовавшей в этом спектакле Валентины Бобровой, во втором акте она исполняла романс о бедном гусаре, который также сочинил Саша Гинзбург: «О бедном гусаре замолвите слово! / Ваш муж не пускает меня на постой, / Но женское сердце нежнее мужского, / И сжалиться может оно надо мной. / Я в доме у вас не нарушу покоя, / Скромнее меня не найти из полка. / И если свободен ваш дом от постоя, / То нет ли хоть в сердце у вас уголка?»[80]
Почти через сорок лет на экраны выйдет фильм Эльдара Рязанова, который будет называться по первой строке этой песни — «О бедном гусаре замолвите слово». А саму песню здесь исполнит Станислав Садальский.
Сашин приезд в Чирчик оказался как нельзя кстати, поскольку в преддверии Нового года студийцы едва справлялись с работой над обоими спектаклями: они вынуждены были репетировать по нескольку ролей, сами сколачивали декорации и красили их, сами шили себе костюмы.
Людмиле Нимвицкой запомнилась Сашина «худая фигура Дон Кихота в длинном узком демисезонном пальто, в шляпе с полями и стеклянная пол-литровая банка, которую он нес перед собой. В ней плескалась “затируха” — суп из муки, который нам выдавали на ужин в местной столовой…»[81].
Подробные воспоминания об участии Саши Гинзбурга в спектаклях фронтового театра оставил и Леонид Агранович: «Между репетициями, прихватывая ночи, Саша еще сочинял кучу песен-интермедий для обоих спектаклей (тексты и музыку) и разучивал их с исполнителями, озябшими пальцами перебирая клавиатуру расстроенного рояля в нетопленом подвале под сценой клуба Чирчикстроя. Под визг пилы и стук молотков. “В старой Англии, в доброй Англии ночь веселых чудес полна…” <…> Все это было мило, наивно, чуть сентиментально. И безошибочно уместно. То есть Саша уже в грозненской своей практике понял, что требуется от театра на войне»[82]. Далее Агранович приводит полный текст песни «Не волнуйтесь, мамы…», которая вскоре была опубликована в первом Сашином поэтическом сборнике «Мальчики и девочки». Однако версия Аграновича включает в себя одну строфу, которой нет в печатном варианте. После первой строфы и рефрена: «Не волнуйтесь, мамы, мы приедем! / Не волнуйтесь, ждите нас!» — следуют такие слова: «Что же ты, товарищ, невеселый такой?! / Сядем да покурим, да споем вполголоса, / Как прощались над Москвой-рекой, / Как махнула девушка рукой, / Как трепал рассветный ветер волосы…»
Во время репетиций спектакля «Парень из нашего города» Саша познакомился с 20-летней актрисой Валентиной Архангельской, выпускницей Вахтанговского училища — на одном курсе с ней училась будущая звезда советского кино Людмила Целиковская, причем обе были внешне похожи.
Как-то на Валентину обратил внимание Аркадий Гайдар и пригласил ее сниматься в фильме «Тимур и его команда» (1940). Однако, посмотрев пробы (Валентина играла там роль Ольги), начальство заявило: «Да ведь это вторая Целиковская!» В результате Аркадию Петровичу пришлось написать Валентине красивое лирическое письмо, в котором он сожалел, что ее не будут снимать[83].
Когда началась война, Валентину отправили в Чирчик, где она и встретилась с Сашей, который был ее партнером по спектаклю: Валентина играла роль Жени, а у Саши была роль ее брата Аркадия (Бурмина), который впоследствии должен был погибнуть. Кроме того, Валентину выбрали временным секретарем комитета комсомола театральной студии, а Саша стал ее заместителем.
Любовь была, как говорится, с первого взгляда — мгновенная и сумасшедшая. В феврале 1942-го они решили пожениться. Поехали на автобусе в местный загс, а поскольку дорога предстояла неблизкая, у своих ног поставили чемоданчик с документами и продуктовыми карточками и… начали целоваться. Но когда нужно было выходить, внезапно обнаружилось, что чемоданчик у них кто-то украл. После этого студийцам пришлось их срочно выручать, так как есть было нечего. Документы им, конечно, потом восстановили, но расписаться молодые смогли лишь осенью в Москве.
В марте 1942 года, ожидая вызова в Москву (студийцы написали письмо в Политуправление Советской армии с просьбой оформить их как фронтовой театр), они гастролируют по Средней Азии — отправляются с двумя спектаклями и концертной программой в Ленинабад (Таджикистан). Выступают там перед солдатами и, конечно же, перед студентами, поскольку в Ленинабад было эвакуировано несколько московских институтов.
Успех у тысячных студенческих толп не поддавался описанию, ведь это были фактически их ровесники. Можно сказать, что театр здесь нашел свою аудиторию. Там же, в Ленинабаде, они узнали, что их коллектив включен в систему фронтовых театров, которая тогда только-только начала создаваться. Теперь они назывались так: «Фронтовой театр Дирекции фронтовых театров при Всесоюзном комитете по делам искусств»[84], но все их продолжали называть по старинке «студия Арбузова».
Отныне студия поступила в распоряжение Северного морского флота, командование которого прислало им из Москвы вызов, и, сыграв на прощание несколько спектаклей в Чирчике, 24 апреля студия переехала в Москву. «Ехали довольно-таки быстро, — вспоминает артист Владимир Иванов. — Недели за две, наверное, добрались, а туда, в Ташкент, месяц были на колесах. Пока ехали, я помню, Саша Галич все время пел. Пел он какие-то блатные, уркаганские песни, которых знал великое множество. И было очень смешно слушать»[85].
В Москве студийцев ждал столь же громкий успех, так как все столичные театры находились в эвакуации. Сначала они расположились в бывшем помещении театра «Ромэн», где сейчас находится учебный театр ГИТИСа. Леонид Агранович вспоминает: «В нашем распоряжении оказались опустевшие сцены ТЮЗа в Мамоновском [переулке], и Театра Сатиры, и Цыганского. В их костюмерных мы прибарахлились — обогатили гардероб “Ночи ошибок”»[86].
15 мая Арбузов с Гладковым привезли из Чистополя свою новую пьесу — «Бессмертный»[87]. К этому времени студийцы уже перешли в старое здание Театра сатиры и там начали репетировать эту пьесу. Сюжет ее был вполне типичен для тех времен и подавался в соответствующем романтическом духе: бригада из двадцати пяти московских студентов (именно столько было актеров в студии), у которых был белый билет, летом 1941-го мобилизована комсомолом в Подмосковье «на картошку» — в помощь местному совхозу. Осенью они оказались в тылу врага и поневоле стали партизанским отрядом, к которому присоединился также 37-летний сотрудник американского газетного агентства «Атлантик-Пресс» Джек Уорнер. Вскоре все они попали в окружение и героически погибли.
Саша был расстроен тем, что ему не дали роль американца, которая досталась Леониду Аграновичу, а тот, в свою очередь, был доволен. Однако, по словам главного режиссера в Комсомольско-фронтовом театре ГИТИСа Бориса Голубовского, Агранович играл роль Уорнера с «излишней аффектацией и “заграничностью”»[88]. Для Саши же была написана главная роль — молодого пианиста Гехта, студента консерватории (по указанию реперткома ему дали русскую фамилию «Славин») накануне его первого сольного концерта. На сцене стоял настоящий рояль, и Саша играл на нем «Лунную сонату» Бетховена и другие композиции.
Название пьесе было дано по прозвищу студента Сельскохозяйственной академии, командира партизанского отряда Славки Станкевича — «Бессмертный». После того как он был тяжело ранен и пропал без вести, Славин — 24-летний пианист, студент пятого курса консерватории — возглавил отряд студентов, попавших в окружение, и погиб вместе со всеми.
Любопытно, что Славину — в честь исполнителя его роли — дали имя «Александр Ефимович» (отчество «Ефимович», с одной стороны, указывало на еврейское происхождение персонажа, а с другой — позволяло избежать буквального сходства с «Александром Аркадьевичем»), и сам он прямо называл себя «пианистом и белобилетником», а Галич, как мы помним, после посещения военкомата также получил белый билет, и в 1942 году ему, как и Славину, исполнилось 24 года.
В начале сценария дается ремарка: «Действие в пьесе происходит где-то на стыке Тульской и Орловской обл. между сентябрем и декабрем 41»[89]. Этот сценарий является ранним из двух машинописных вариантов, хранящихся в РГАЛИ, и представляет собой отдельные истрепанные и наполовину выцветшие листочки. Концовка его выглядит так:
СЛАВИН (с документом в руках). Прошу внимания! Сейчас я познакомлю вас с одним небезынтересным документом. (Читает, волнуясь). «Полковнику фон-Штрекман. Двадцать дней назад вы рапортовали мне, полковник, об уничтожении партизанской группы Бессмертного. Однако после вашего донесения отряд Бессмертного не только не прекратил его действий, но, как мне стало известно, удвоил свою активность и продолжает вредить нашим частям, подготовляющим решительное наступление на Москву. Приказываю немедленно сообщить мне имена виновных в составлении ложного рапорта, и принять энергичные меры к действительному уничтожению отряда. Начальник штаба, генерал фон-Кейль». (пауза). Поздравляю вас, товарищи!
(Голос его срывается. Он быстро подходит к роялю, и мы слышим первые такты «Аппассионаты». Все слушают неподвижно. Гаснет свет. В темноте звуки «Аппассионаты» переходят в «Лунную сонату».)
Этот фрагмент будет перенесен в середину поздней и более полной редакции пьесы, подшитой в аккуратную брошюру[90]. После этого фрагмента начинается третий акт (а всего их четыре). И заканчивается эта, новая редакция трагически — погибают все персонажи, кроме Бессмертного.
Особой популярностью у зрителей пользовался спектакль «Ночь ошибок», который студийцы играли повсюду: сначала в Средней Азии, потом на Северном фронте — были в городе Полярном и на острове Кильдин Мурманской области, и на острове Диксон, что в Енисейском заливе. Правда, на Северный фронт Сашу в первый раз не пустили (об этом — ниже), но зато потом он играл в «Ночи ошибок» на Центральном и Западном фронтах.
Сюжет этой пьесы достаточно необычен для советской эпохи, а особенно для военного времени. По словам Леонида Аграновича, «комедия построена на том, что Марлоу, большой хам и мерзавец, бабник и сукин сын с горничными, ужасно робеет перед леди, дамами своего круга, даже заикается», и этого самого «хама и мерзавца» Марлоу Саша играл «преуморительно»[91]. Можно сказать, что здесь он продолжил линию своих отрицательных персонажей, начатых ролью троцкиста Борщаговского. Однако на Людмилу Нимвицкую Сашина игра не произвела большого впечатления: «Красивый в жизни, на сцене он выглядел несколько “нескладным” и простодушным. Зато роль Аркадия в пьесе Симонова была его большой удачей — он был необыкновенным и красивым человеком. Это вносило в спектакль особую одухотворенность»[92]. Да и Симонов потом говорил, что Аркадия никто так хорошо не сыграет, как Александр Гинзбург[93].
Летом 1942 года актеры фронтового театра играли спектакль «Ночь ошибок» перед солдатами танковой части в дубраве под Сухиничами, когда было затишье после боев под Москвой. Впечатление произвели колоссальное, и солдаты были в восторге, а после спектакля, как рассказывает Леонид Агранович, «едва успев переодеться и стереть грим, мы будем пировать с танкистами, и Саша будет петь под гитару, чужое и свое, из спектаклей и малоприличное, знакомое и незнакомое, его до утра не отпускают. И никак нельзя было не петь и не пить — утром танкисты-сверстники могли пойти в бой, в прорыв. И хохотали басы всю ночь так, будто не было ни войны, ни разлук, ни смерти, ни Гитлера, ни Сталина»[94]. А когда в январе 1943-го Указом Верховного Совета СССР в армии были введены погоны, Саша даже сочинил песню о золотых листьях, которые падают на офицерские плечи, и исполнял ее под рояль вместе с другими песнями[95].
Тогда же, летом 1942-го, когда театр играл в Москве «Парня из нашего города», за кулисы зашел автор пьесы Константин Симонов и обратился к Леониду Аграновичу, игравшему в этом спектакле Луконина, и к Саше Гинзбургу, игравшему Аркадия: «Я посмотрел примерно сорок “Парней” в разных городах Союза. Мне показалось, что Плятт и Володя Соловьев в Театре Ленинского комсомола закрыли роли. Но вы другие. И это меня убедило. Значит, вот они и такие. Это то, что мне хотелось увидеть»[96]. К тому времени студийцы сыграли уже более двухсот спектаклей и делали это настолько правдоподобно и искренне, что верили им практически все: актеры играли на открытых полянах без грима, в пропотевших гимнастерках, а в кобуре у них были самые настоящие парабеллумы…
В общей сложности «Парень из нашего города» был сыгран 250 раз, а «Ночь ошибок» — более ста[97].
В Москве студийцы провели все лето — репетировали пьесу «Бессмертный». И осенью 42-го с тремя спектаклями — «Бессмертный», «Парень из нашего города» и «Ночь ошибок» — выехали в Мурманск и в Полярный, правда без Саши Гинзбурга. Какие-то инстанции вычеркнули его из списка имеющих право выезжать в закрытые регионы — якобы из-за наличия родственников за границей. Саша тяжело переживал отказ, да и для всего театра это был ощутимый удар. Все сочувствовали Саше, но поделать ничего не могли. Однако, когда в следующий раз театр собрался ехать на Западный фронт, Плучек с Арбузовым добились Сашиного возвращения, и он поехал туда уже вместе со всем коллективом. На фронте ему не раз приходилось выступать в санитарных поездах, где были специальные «кригеровские» вагоны для тяжелораненых солдат, перед которыми он исполнял тут же сочиненные частушки.
Сашина семья тем временем продолжала находиться в Ташкенте, и он время от времени туда приезжал. Осенью 1942 года к ним пришел 17-летний студент Московского архитектурного института Сергей Хмельницкий. Институт тогда находился в эвакуации в Ташкенте, и мама Сергея прислала ему из Москвы письмо, где говорила, что в случае крайней нужды он может пойти к ее старым знакомым по фамилии Гинзбург. «Раз в день я получал в студенческой столовой миску затирухи — смесь муки и воды. <…> Это меню я разнообразил джидой — мучнистыми ягодами с жесткой кожицей и косточкой, как у финика. <…> Когда вид затирухи и джиды стал мне окончательно невыносим, я пошел к Гинзбургам. И попал в мир, почти невероятный по тому времени и месту. Чета Гинзбургов занимала половину большого особняка. И были они пожилыми, лет эдак пятидесяти. Их дом был как волшебный остров среди враждебного и опасного моря: обильная, отборная еда, напитки, чистый сортир, просторные и хорошо обставленные комнаты. Все как бы из недалекого, но безвозвратного прошлого. А за большим столом, застланным белой скатертью, сидели знаменитые люди — литераторы, режиссеры, актеры… Я запомнил толстого режиссера Лукова, творца фильма “Большая жизнь”, и Алексея Толстого, — он недавно сказал по ташкентскому радио, что счастье, которое человечество безуспешно искало тысячи лет, наконец найдено и надежно хранится в ЦК партии. Хозяева были со знаменитостями почтительны, но не лебезили. Знали себе цену. Они, видать, и прежде были хлебосольными, и теперь могли себе позволить пиры во время чумы: товарищ Гинзбург занимал какой-то высокий пост в системе снабжения населения, супруга была в его кадрах. Как-то она, смеясь, рассказала, как недовольный ею проситель пригрозил, что пожалуется ее начальнику, и скис, услышав, что начальник — ее муж.
Кроме супругов в доме имелась еще очень красивая молодая женщина с ребенком лет двух. Отношение к ней было сдержанное. Это были, как я понял, жена и дитя отсутствующего сына Саши»[98].
Эта последняя информация не соответствует действительности, поскольку Сашин ребенок появился на свет только в мае 1943-го. Соответственно, эта женщина с ребенком не имеет к Саше никакого отношения. Как рассказала впоследствии Алене Архангельской ее мама Валентина, эту женщину с ребенком звали Алла, и была она женой одного корреспондента — Сашиного приятеля. Поскольку в Ташкенте ей было негде жить, Саша попросил своих родителей приютить ее у себя дома[99].