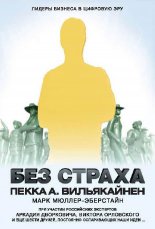Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы Богданова Полина

Мужская часть труппы очень многочисленна. И трудно назвать всех актеров, обративших на себя внимание в разных постановках. Но все же нельзя не выделить роли А. Пожарова, Б. Романова, С. Сухарева, А. Ливанова, Ю. Амиго, Е. Фроленкова и других.
Один период длительностью в десятилетие в театре работал В. Гвоздицкий. Он пришел в «Эрмитаж» после ролей, которые сыграл в спектаклях К. Гинкаса «Пушкин и Натали» и «Записки из подполья». У Левитина Гвоздицкий великолепно сыграл в «Вечере в сумасшедшем доме», в «Нищем, или Смерти Занда». Он актер необычной индивидуальности. И «странности» левитинского театра его преобразили, придав вдохновение и как будто чувство полета.
Спектакль «Хармс! Чармс! Шардам!» был поставлен в 82-м году, более тридцати лет назад. В нем были заняты такие первоклассные исполнители, как Р. Карцев, Л. Полищук, Е. Герчаков (в 92-м году ушедший из театра), бессменный старожил А. Пожаров, Ю. Чернов (работавший в «Эрмитаже» до 94-го года) и др. Здесь Левитин со своими актерами нашел ключ к такому необычному материалу, в котором многие видели только сложную заумь. Левитин уверял, что понял Хармса прежде всего сердцем. Но как все-таки перевести все это на сценический язык? Всю эту бессмыслицу, чушь и алогизмы, какой-то особый, не поддающийся определению юмор? Бесконечно, как будто до идиотизма повторяющиеся реплики? Как подойти ко всем этим персонажам, для которых слово «чудак» кажется слишком слабым? А ведь там, во всей этой белиберде, есть и некие философические вещи. Как сделать так, чтобы они зазвучали, были просты и понятны?
Левитин уловил какой-то скрытый механизм этих не поддающихся объяснению персонажей. Вот эпизод о том, как один чудак пишет письмо, бесконечно повторяя одни и те же фразы, никак не может выпутаться из начала, возвращается к тому, что уже написал, в желании сказать, наконец, что же он всем этим хотел сказать: «…когда я получил это письмо от тебя, я понял, что оно от тебя…» И возникает очень смешной, ироничный образ человеческого косноязычия, неумения владеть словом, скудости мышления и человеческого идиотизма. Пародия? Гротеск? Да, все это так и еще какое-то удивительное веселое чувство. Этот эпизод играл Р. Карцев, актер, которому несложно было рассмешить публику. Он и раньше изображал всякого рода недоумков и идиотов. Но этот, хармсовский, был очень веселым, мажорным идиотом. И был сыгран с каким-то добрым чувством. Так, по крайней мере, казалось. Спектакль вызывал не злой, а добрый смех.
Философия, если можно так назвать, сквозь этот смех вполне прочитывалась. Как в эпизоде, рассказывающем о том, что связь между людьми бывает совершенно необыкновенной. Тут следовала череда случайных и идиотических событий, о которых рассказывали разные персонажи. События начинались с того, что один скрипач купил себе магнит. Почему именно магнит–это не обсуждалось. Был только этот странный и неизвестно для чего предназначенный факт. Скрипач купил себе магнит. Затем следовали различные происшествия с различными людьми, которые не были знакомы друг с другом, но своими чаще всего нелепыми действиями невольно готовили следующие невероятные или столь же нелепые события. Как, например, то, что у сторожа на кладбище сгорел дом. Эти события в результате замыкались в единое кольцо, как бы подтверждая мысль о том, что все в этой жизни находится во взаимодействии. И мелкий или нелепый случай с одним человеком каким-то странным или мистическим образом связан с непредвиденными событиями других людей. Таким образом, все проживают какую-то одну общую жизнь. Вполне серьезная и глубокая мысль, как это и бывает у Хармса, выражена через череду случайностей и нелепиц.
В спектакле было много и других достаточно глубоких мыслей, тоже выраженных через чепуху и нелепицу. Все игралось легко, вдохновенно.
У Левитина был еще один спектакль по Д. Хармсу–«Белая овца» (2000). Но это было несколько иное по характеру произведение. Очень трудно описать этот спектакль, так же трудно, как пересказать стихи и прозу Даниила Хармса. Эти стихи и проза, так же как, собственно, и спектакль на их основе, воспринимаются через ассоциации и поэтические образы. Тут нет сюжетной истории. Это открытое произведение, как будто безграничное, постоянно играющее разными смыслами и метафорами, то поднимающее вас в высокую лирику, то бросающее в черную бездну иррациональных страхов. Переживания, и радостные, наполненные чувствами и любовью, и тяжелые, в которых живут эти страхи, возникают в сознании Писателя (Ю. Беляев), главного героя этого спектакля. Если попытаться подыскать какие-то житейские ассоциации, то тут рассказывается о жизни Писателя, у которого есть возлюбленная (И. Богданова), есть реальность внезапных ночных визитов уполномоченных властью людей, которые увозят эту возлюбленную, запечатывая двери ее комнаты, есть занятия творческим трудом и так далее. Но история эта разыгрывается не в бытовом, житейском ключе, а в ключе поэтическом, когда возникают какие-то странные вещи, как, например, неожиданный визит страшной, уродливой старухи, появляющейся в жилище писателя. Старуха эта превращается в покойника. Возникает игра, и смешная, и страшная, с трупом старухи. А перед самым финалом происходит еще одно превращение: из-под тряпья уродливой, безобразной старухи открывается ясное лицо возлюбленной, но теперь как будто постаревшее, со следами пережитого, словно возлюбленная возвратилась к Писателю после многих лет разлуки.
Центральный поэтический образ–белая овца в облике маленькой девочки в белом платьице с пышными, стоящими на голове как сноп курчавыми волосами. Эта белая овца и эта уродливая мертвая старуха–как два полюса мира, в котором живет Писатель.
Тут есть и пронзительная лирика разговоров Писателя и его возлюбленной, и карнавальный смех превращений светлых образов в темные и наоборот, и легкие штрихи, рисующие эпоху сталинского времени, и короткие, почти жанровые зарисовки быта 20-х годов. Режиссер работает пластическими, музыкальными, стихотворными средствами, воссоздавая емкий поэтический образ мира.
Композиция спектакля закольцована, и сцену высокой любовной лирики разговора Писателя с его возлюбленной прерывает внезапный и резкий стук в дверь, который был в начале спектакля, когда в комнату вошли люди в черном, чтобы арестовать возлюбленную и Писателя. Стук в дверь как знак несвободы, несвободы любви и несвободы творчества в той стране, в которой на трибуне реет хор звонких детских голосов, исполняющих наступательный военный марш.
В этом мире есть и свет, и тьма, одно соседствует с другим, одно перетекает в другое. Но в конечном итоге этот мир режиссер принимает.
Такую свободу и гибкость поэтического языка, какую продемонстрировал этот спектакль, такую тонкую ассоциативную игру образов редко встретишь на современной сцене. Это уже не цирк, хотялегкие цирковые элементы присутствуют в этом спектакле, это настоящая, полноценная поэзия. Мне думается, «Белая овца»–лучшее создание Михаила Левитина. Это тоже игровой театр, но в нем преобладает не рациональное, а именно поэтическое чувство, которое трудно разъять на составные части, настолько оно целостно и объемно.
Михаил Левитин на протяжении своей режиссерской биографии поставил не один и не два спектакля по обэриутам. В разные годы у него вышли «Чиж и Еж» по текстам А. Введенского, Ю. Владимирова, Н. Олейникова, Д. Хармса, К. Чуковского, Е. Шварца (1986); «Вечер в сумасшедшем доме» по текстам А. Введенского, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого (1989); «Кругом, возможно, Бог» А. Введенского (1994); «Спасение» по Д. Хармсу (2003).
«Вечер в сумасшедшем доме»–тоже одна из лучших работ Левитина. Это опять открытое поэтическое создание, развивающееся ассоциативно, имеющее свободную композицию, в которой объединены тексты разных поэтов.
Главным своим достижением сам Левитин считает спектакль «Нищий, или Смерть Занда» по черновикам неоконченной пьесы Ю. Олеши. Это очень мощное, полное драматизма создание на фоне сравнительно коротких, веселых, хотя внутренне и не столь простодушных, работ режиссера. Опять произведение 20-х годов, в котором звучат темы времени. И сквозь эти темы проступают контуры сложной трагической судьбы этого писателя-интеллигента, от которого победившая советская власть требовала компромиссов, внутренних переделок, так трудно дающихся человеческой натуре, необходимости шагать в одном строю с теми, кто был чужд и непонятен. «Все опровергнуто, и все стало несериозно после того, как ценой нашей молодости, жизни–установлена единственная истина: революция»,–писал Олеша. И еще: «…та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна–не против страны, а против банды установивших другую, подлую, антихудожественную эстетику».
Вот этот конфликт с эпохой нашел отражение и в неоконченной пьесе. Левитин из ее вариантов сделал собственную композицию, в которой тема писательской судьбы Модеста Занда проигрывается дважды. В первом варианте Модест Занд (А. Пономарев), преуспевающий писатель, проникнутый духом и пафосом героического времени, выковывающего нового человека технической и индустриальной эры, которым движет разум и который возвышается над хлюпиками старой формации, переживает конфликт с самим собой. Этот конфликт рождается в нем от постыдного чувства ревности, от которой новый человек должен был бы отказаться. Дело в том, что жена Занда Маша (М. Шиманская) уходит от него к другому мужчине по фамилии Шлиппенбах (В. Гвоздицкий).
Есть тут еще один представитель писательского мира–Федор Мицкевич (В. Гусев), человек, который не может встроиться в эпоху и потому занимает положение нищего, изгоя.
В 20-е годы действительно существовало два типа творческих людей, первый тип–успешный, идущий в ногу со временем, второй тип–маргинал, время выбросило его из своей орбиты. Маша тоже не нашла дороги в новую жизнь. Ее монолог о том, как она всегда ждет трамвая, который не приходит, говорит именно об этом.
Тема ревности проигрывается и во втором варианте истории с писателем Модестом Зандом. Его бывшая возлюбленная Маша (М. Шиманская) живет с другим человеком (В. Гвоздицкий). А он часами простаивает под ее окнами в желании ее увидеть. Модест Занд–преуспевающий писатель, который собирается ехать туда, где героические представители эпохи созидают будущее. А внутренне его тянет посмотреть на человека, который из ревности покушался на убийство соперника. То есть в Занде есть эта скрытая страсть, с которой ему трудно справиться.
Оба варианта объединены фигурой автора (А. Пономарев), которому и принадлежат черновики пьесы. В обоих этих вариантах автор появляется под именем Модест Занд.
В этом спектакле был интересен его необычный стиль и очень необычная манера игры актеров. Нельзя сказать, что это был психологический театр, хотя тут все роли были сыграны превосходно, точно раскрывали характеры и натуру героев. Нельзя сказать, что это был сатирический театр, хотя здесь было много намеренно утрированной подачи персонажей и речей, которая вскрывала комизм и чудовищную сущность всей фразеологии времени, уверенного в своей правоте. Для зрителей 86-го года–а спектакль был поставлен именно в этом году–вся трескучая фразеология 20-х годов воспринималась комично. Но сколько судеб было уничтожено носителями этой фразеологии в то бурное и тревожное время! Поэтому несколько шаржированная, утрированная игра актеров спектакля была нужна режиссеру, очевидно, для того, чтобы выразить свое отношение к этой эпохе, враждебной человеку, уничтожающей человека, всю его сложность, всю не поддающуюся контролю одного разума, противоречивую сущность. Спектакль был полон внутреннего, скрытого сарказма и ненависти к стране победившего социализма. И внутренней боли за человека, который–и спектакль это многократно подчеркивал и выявлял–не может превратиться в рационально организованную машину. Удивительным образом «Нищий, или Смерть Занда» вскрывал главное качество времени, тогда праздновавшего свою победу,–его чудовищный, не поддающийся объяснению утопизм. Да, утопия! утопия человека-машины, непобедимого строителя светлого будущего, и была главным качеством этого времени, новой идеологемой, которую так едко изобразил Юрий Олеша. Левитин, нашедший старые забытые черновики, вчитавшись в них и осуществив в своей композиции на сцене, передал главный нерв автора.
Черновики пьесы Ю. Олеши не были опубликованы, Левитин взял их у вдовы писателя. Так что именно ему принадлежит честь открытия этого интересного текста. Ставить прежде не попадавшие на сцену произведения писателей 20-х годов, возвращать забытые имена стало своего рода миссией режиссера. В этом прочитывается желание вернуть не просто имена, но целый культурный пласт, ушедший из жизни, насильственно уничтоженный. Восстановить традиции, которые были прерваны по идеологическим соображениям государства, насаждавшего антихудожественный стиль в литературе и театре. Бороться с этой идеологией, которая была еще жива и в послевоенное время, мешала свободе творчества и после разоблачения культа Сталина, въелась в кровь советских чиновников, руководивших искусством. Свобода творчества и была одной из главных тем Михаила Левитина, питала пафос его творчества.
А творчество для Левитина–это особая сфера жизни. Ей подчиняется все остальное. Левитин наделен от природы талантом режиссера и талантом писателя. Он реализует себя и в слове, которым владеет прекрасно, и в сценических композициях. У него вышло уже 16 книг, в которые вошли разные повести и рассказы. Есть книга о режиссере Александре Таирове, вышедшая в серии «ЖЗЛ». Писательство и режиссура для него не просто профессии, но прежде всего способы выражения себя. Особенно это касается литературы. Он в ней автобиографичен. Но он по-своему автобиографичен и в театре. Он создает здесь личностное искусство. Поэтому часто рассказывает о творческих натурах. Это основной герой его художественного мира. Ему понятны и близки творческие переживания, творческие трагедии, творческие намерения. У Левитина и в «Занде», и в «Белой овце», и в «Вечере в сумасшедшем доме», в спектакле «О сущности любви» и некоторых других работах в центре–личность писателя или поэта. Это далеко не случайно. Левитина меньше интересуют переживания людей другого сорта. Они для него почти не существуют. В этом и сила, и слабость его художественной индивидуальности. Из всех типов творческих натур он не случайно выбрал художников 20-х годов, наследников модернизма, для которых сама жизнь, способ ее проживания были творчеством. Именно модернизм, а в него входит и авангард, на своем взлете породил интереснейший феномен творческого человека, для которого и его жизнь становится творческим актом, творческим сочинением. Взлет этот, правда, был оборван. Но это не значит, что такой тип художника исчез из культурного обихода. Он остался в нашей культурной памяти.
Левитин и сам представляет собой похожий тип. Достаточно увидеть его в его авторских программах, чтобы понять,что он сам себе театр. Конечно, мы живем в другую эпоху. Это не 20-е годы, когда искусство было без преувеличения главным занятием людей. Такой пир художественных открытий и художественных акций был только еще в Серебряном веке, но 20-е годы и есть во многом продолжение Серебряного века, но через барьер революции, поначалу активизировавшей творческий пафос. В 70-е годы, когда поколение Левитина входило в профессиональную жизнь, искусство и культура тоже многое определяли в жизни общества и были на взлете. Но в первые десятилетия ХХI века их роль упала. Однако поколение Левитина продолжает нести свою миссию, считая, что достижения культуры и искусства–основное дело их жизни.
Из последних по времени работ Михаила Левитина назову детский спектакль «История про Ваксу для любящих родителей и любимых детей» и «Мою тень» Е. Шварца.
Левитин остается верен себе. Он тот же автобиографический художник, в том смысле, что рассказывает о себе, своих переживаниях и волнениях. Но теперь он объединил театр и литературу, поставив детскую повесть, которую сочинил вместе со своей маленькой дочкой. Сам выходит на сцену в роли самого себя, писателя и папы восьмилетней Маши. В этом же спектакле играют и двое его уже взрослых детей от первого брака–Ольга Левитина (заслуженная артистка России, актриса театра «Эрмитаж») и Михаил Левитин. Это дружное семейство демонстрирует главное качество папы–режиссера и писателя: любовь и способность к творчеству, которые он передал и своим детям. Тут, опять же, соединились театр и жизнь, и трудно сказать, чего тут больше–жизни в театре Левитина или театра в его жизни.
Но надо иметь дерзость, чтобы вот так вывести на сцену троих детей, только одна из которых–профессиональная актриса. У Левитина есть эта дерзость. И еще не иссякла потребность в игре, которая преобразует мир. Спектакль про Ваксу очень показателен для Михаила Левитина в том смысле, что он продолжает, как это ни покажется странным, линию его обэриутских опусов, линию авангарда, создавшего особый тип творческого человека, который свое творчество переносит в жизнь и проживает ее как художественное сочинение.
«Моя тень» Е. Шварца подтверждает те же присущие Михаилу Левитину качества–юмор, любовь к игре, веселое карнавальное мироощущение. В этот спектакль Левитин пригласил очень интересного актера из РАМТа Е. Редько, который виртуозно исполняет и роль честного ученого-идеалиста, и его вторую скрытую сущность–коварную тень. Сказочное государство, в которое попал ученый, рисуется не без некоторых смешных намеков на нашу реальность. И на реальность вообще, которая всегда далека от совершенства. В сказочном государстве вовсе не сказочные законы. Министр финансов (Д. Назаренко) и Первый министр (С. Олексяк) коррумпированы, творческая богема в лице певички Юлии Джули (И. Богданова), обладающей добрым сердцем, но вынужденной примериваться к обстоятельствам, продажна. Принцесса (О. Левитина), от которой зависит процветание страны, плохо разбирается в людях и попадается в сети к подлецу. Многомудрый доктор (Б. Романов) предпочитает на все махнуть рукой, чтобы не попадать в сложные положения. Он когда-то изобрел эликсир жизни, но это открытие было замолчано, и талантливый человек после этого сдался. А ученый, влюбленный в Принцессу,–персонаж двойственный. Его идеальное начало вступает в конфликт с темной стороной его личности. И именно эта, темная сторона его личности пользуется успехом у окружающих, которые с удовольствием возводят ее в ранг короля. В финале ученый, перенесший тяжелейшие испытания и оттого несколько поникший, с видом не победителя, но побежденного вместе с простодушной, наивной и преданной ему девушкой Аннунциатой (А. Черных) бежит из сказочного государства, в котором не может восторжествовать ничто хорошее.
Но в этой печальной истории, рассказанной со сцены, все-таки побеждает юмор, с которым говорится о грустных вещах, какая-то мудрая веселость, которая не удивляется злу, поскольку обладает горьким, но глубоким пониманием того, что оно существует в мире. Веселый, искрометный карнавал с драматическим финалом–это тоже Левитин, который не так прост, как любит себя подавать. Он по-одесски насмешлив и ироничен. А о том, что скрывается за этой насмешливостью и иронией, мы можем только догадываться.
Два Фокина
Валерий Фокин сегодня представляет собой образец театрального деятеля нового типа. Он сочетает в себе талант режиссера и менеджера. Это довольно редкое сочетание, потому что мы знаем много хороших менеджеров, которые являются довольно слабыми художниками. Равно как и хороших художников, являющихся слабыми менеджерами. В Фокине ни одна из этих составляющих не перевешивает: менеджер не побеждает художника, а художник–менеджера. Но кому все-таки отдать предпочтение? Прекрасному организатору, доказавшему свою способность к созданию новых театральных моделей, или лирику с исповедническим началом в творчестве? Тонкому дипломату, успешному в делах и карьере, или беспокойному художнику, стремящемуся к воплощению оригинальных театральных идей? Умному в отношениях с властью политику или нелицемерному и резкому оппоненту, категорично отзывающемуся о тех, кого в театральной среде не принято трогать? Жесткому, несентиментальному профессионалу, жаждущему не любви, а понимания, или ранимому творческому человеку, болезненно переживающему уколы со стороны? «Во мне всегда было два Фокина»,–говорит он о себе. Его двойственность–целая тема, которой он даже посвятил некоторые свои спектакли.
Валерий Фокин начинал как молодой, но вполне уверенный в себе профессионал, которого пригласили в солидный театр. Этим театром был «Современник». Сам Фокин вместе со своими однокурсниками Константином Райкиным, Юрием Богатыревым и Владимиром Поглазовым только-только закончил Щукинское училище. Но в «Современнике» он не растерялся, нашел свое место. Ставил и то, что ему поручали в интересах дела, и то, что ему было важно самому. Иногда выпускал вещи средних достоинств, но, очевидно, необходимых для каких-то тактических целей. Но были среди работ Фокина и другие примеры. «И пойду! И пойду!» с К. Райкиным и Е. Кореневой. Спектакль был поставлен по «Запискам из подполья» и «Сну смешного человека» Ф. Достоевского. Помню, как в середине 70– х мы ходили на этот спектакль. Он игрался «на пятом этаже» «Современника», на малой сцене, а малые сцены только-только начинали входить в моду. Молодые Фокин и Райкин открывали в «Современнике» следующую страницу жизни. Для «Современника», который начинал с обаятельного и обыкновенного в своей героичности (именно так любили играть в «Современнике», героическое показывая без пафоса, через житейски обыденное: из «Вечно живых» добровольца Бориса, уходящего на войну, в исполнении Олега Ефремова), герой Достоевского был вызовом. У Райкина тоже было обаяние, но другое, оно привлекало своей необычностью, отсутствием милоты, мимикой и поразительно подвижной пластикой. Резкое обаяние и сокрушающая искренность молодого Райкина обезоруживали и подчиняли себе.
Руководитель «Современника» Галина Волчек всегда отличалась демократизмом. Она позволяла существование «другого» стиля и взгляда. Поэтому она не возражал против спектакля Фокина, по духу и стилистике не похожего на «большой» «Современник». Правда, не все в труппе театра, как свидетельствует сам Фокин, безоговорочно приняли его. Тогда была такая форма–«самостоятельная работа». Это для тех, главным образом молодых актеров и режиссеров, которые хотят высказаться. Не знаю, был ли спектакль Фокина именно «самостоятельной работой», но он выглядел именно как продукт самостоятельного и не зависимого от генеральной линии коллектива творчества.
Фокин в «Современнике» сразу получил возможность поставить спектакль на большой сцене–«Валентин и Валентина» М. Рощина. Это была самая первая его постановка в этом театре, еще до спектакля по Достоевскому. «Валентина и Валентину» с воодушевлением приняли пресса и зритель. Но все же для молодого режиссера «Современник» был сложный театр, к которому необходимо адаптироватся: «…“Современник” <…>–это другая школа, другая природа, другой язык, и мне пришлось довольно долго всему этому учиться. Бывали и болезненные, очень жестокие подчас столкновения, обиды, переживания. Я считаю, что … в этом смысле мне повезло, потому что жестокая практика режиссеру очень полезна».
Да, это была другая школа. Актеры «Современника»–это актеры в основном мхатовского направления, театра житейского правдоподобия, театра узнаваемого, списанного с реальности. Но при этом надо подчеркнуть, что в большинстве своем это были превосходные актеры. «Современник» вообще прежде всего актерский театр. Так было со дня его основания, с Олега Ефремова, который тоже был прежде всего актером и имел актерскую биографию. Можно сказать, что «Современнику» при этом не хватало режиссуры. В том смысле, что не хватало формы и концептуального мышления. Режиссура Галины Волчек, которая возглавила театр после ухода Ефремова, несмотря на все обаяние этой прекрасной актрисы и деловой женщины, была особая, не ограниченная строгим замыслом, без интеллектуальных претензий, но зато полнокровная в отношении проживания жизненных ситуаций, предоставляющая большую свободу актерам, что и было ее основным достоинством. А Фокин еще в Щукинском училище увлекался Мейерхольдом и вообще был научен более яркому театру, в котором выразительность формы считалась обязательной. В более поздний период своей работы режиссер и продемонстрирует «другую» режиссуру, более четкую в отношении формы, образно и концептуально насыщенную.
Между тем к Фокину в труппе относились с уважением. Он здесь много ставил, его имя и в театральной среде было на слуху. А ставил он то, что в то время считалось лучшим в советской литературе и драматургии,–В. Розова, А. Вампилова, Б. Васильева, А. Володина.
Иногда Фокин выпускал абсолютно самостоятельные спектакли, как «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова или «Четыре капли» В. Розова, иногда работал «в команде» с Галиной Волчек и ее подмастерьями–М. Али-Хусейном или И. Райхельгаузом, как, к примеру, в спектакле «Погода на завтра» М. Шатрова. Сам Фокин подмастерьем не был–ни по статусу, ни по таланту. Ему доверяли большие серьезные постановки, и в них он не нарушал стиль «Современника», главным образом его актеров, да и побороть их, изменить было трудно, и он, конечно, не ставил перед собой такой задачи.
Фокин работал с ними вполне успешно, но, конечно, ближе ему были его ровесники–тот же К. Райкин, С. Сазонтьев, затем М. Неелова, которая пришла в театр позже, чем он, но которую он успешно ввел в «Валентина и Валентину» и др. На них режиссер и делал основную ставку.
В собственно современниковских спектаклях, таких как «Четыре капли» или «Провинциальные анекдоты», голос поколения Фокина был не слишком различим. Это были вполне удачные профессиональные работы, в которых, как всегда в «Современнике», хорошо играли актеры. С грамотной и четкой режиссурой, но без особенной остроты темы. Впрочем, «Провинциальные анекдоты» могли бы у Фокина получиться злее, поскольку это был его жанр, близкий к абсурду и гротеску, но сочная бытовая игра исполнителей все приближала к бытовому анекдоту. И железные зубы, которые сверкали во рту у Табакова неприятным стальным блеском, не прибавляли к образу его героя остроты, а выглядели просто актерской хохмой.
Но иногда Фокину удавалось взять верх и продемонстрировать свой индивидуальный вкус и умение, как это и произошло в спектакле «И пойду! И пойду!», затем в «Монументе».
Спектакль «И пойду! И пойду!» видел Ежи Гротовский и очень высоко оценил его, о чем Фокин рассказал в своей книге «Беседы о профессии». Гротовский «мгновенно уловил ту внутреннюю правду, которая была в существовании» К. Райкина. Фокин со своими единомышленниками, молодыми, как и он сам, профессионалами, в «Современнике» занимался лабораторной работой, которая происходила по вечерам и по ночам после репетиций. Лаборатория была его собственной внутренней вселенной, в которой он пытался решить важные для себя законы профессии. Но, как признавался он сам, он тогда постоянно ощущал конфликт между тем, что он делает для театра, и тем, что он делает для себя. Это была «мучившая его двойственность», от которой он никак не мог избавиться. Но Гротовский помог разрешить этот внутренний конфликт. Фокин тогда сблизился с этим известным театральным гуру и имел с ним несколько встреч и довольно откровенных бесед. Гротовский сказал, что ни в коем случае нельзя оставлять театр, уходить в подполье и работать только над тем, что важно самому. Театр даст ему тот важный опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем. Поэтому этот опыт надо использовать.
Но не только этот совет Гротовского поразил тогда молодого Валерия Фокина, которого очень удивили «прагматизм» и «какие-то рационально-менеджерские формулировки» польского режиссера. Гротовский дал Фокину еще один совет, который у некоторых и сегодня может вызвать большое изумление. «…Он сказал одну важную вещь о том,–вспоминает Фокин,–что все мы должны идти на какие-то компромиссы в жизни ради сохранения высокой цели. “Вот, например, я. Я ведь был членом вроцлавского горкома партии. <…> А почему? Потому что создание Театра-лаборатории было для меня важнейшей целью”».
Проблема компромисса очень остро стояла перед советской интеллигенцией в 60–70-е годы. Ее решал, к примеру, и молодой режиссер Кама Гинкас. Будучи молодым ленинградским маргиналом, он решал ее в отрицательном смысле, то есть возможность компромисса полностью исключая. Так ее решали и некоторые другие художники, а также те, кто не принадлежал к художественным профессиям. Это была форма советского нравственного ригоризма.
Валерий Фокин как будто мучился над этой проблемой всю жизнь. Во всяком случае, продолжал внутренне упрекать себя за свою «двойственность». Ведь он не ушел в подпольное существование. И стремился к успеху и признанию на ниве официального театра, проявляя те гибкость и дипломатичность, которые так необходимы на пути профессионального самоутверждения. Признавая за собой эту «двойственность», он и говорил о себе, что нем всегда было два Фокина.
Поэтому у него были сложные герои, тоже по-своему двойственные, потому что к ним нельзя было отнестись однозначно. Таким героем стал Свен Вооре из «Монумента» Э. Ветемаа. Это был опять спектакль-монолог с К. Райкиным, поставленный уже на большой сцене.
Скульптор Свен Вооре был членом партии и отчаянным подлецом, который предавал своего более талантливого друга. Игра К. Райкина производила сильное впечатление. Искренняя исповедь человека, который не отличался высокими моральными качествами, обезоруживала. От некоторых признаний становилось не по себе. Они вскрывали порочную систему жизни как таковой. А герой словно бы стремился к тому, чтобы его выслушали и попытались понять. Это был спектакль острый, в те времена он многими воспринимался как антисоветский. Поэтому у Фокина были трудности с его прохождением на сцену.
Лучшие спектакли Валерия Фокина–«И пойду! И пойду!» и «Монумент»–тяготели к камерной подаче, строились в жанре исповеди и вскрывали довольно сложный внутренний мир героя, к которому нельзя было отнестись однозначно. Человек–не просто общественное существо, назначение которого навести порядок в стране, принимая ее дела как свои личные. Таким был герой молодого Игоря Кваши в спектакле «Два цвета». Человек–это проблема, что и демонстрировали спектакли Фокина. Изменилось отношение к стране. В ней вскрылись такие вещи, которые значительно затрудняли жизнь отдельных личностей. Социальный оптимизм шестидесятников исчерпал себя. Идеализм уступил место трезвому реализму, конечно, более эгоистическому, направленному на решение внутренних проблем и коллизий, своей собственной индивидуальной судьбы. Судьба эта не могла реализоваться в той общественной атмосфере, которая прочно утвердилась после 68-го года. Возникло чувство неудобства, дискомфорта, драматизма существования. Вот этот драматический сдвиг в человеке и призван был выразить театр Валерия Фокина в 70–80-е годы.
В 1984 году Фокин поставил пьесу американца Э. Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Галинй Волчек, Валентином Гафтом и Мариной Нееловой. Очень сильный спектакль с очень сильными актерскими работами. Психологический поединок Вирджинии с мужем Джорджем, их нескончаемая игра в нападение и защиту, болезненные удары, которыми они награждали друг друга, унижения и подножки в финале открывали бездну драматизма этих двух любящих, уже не молодых и одиноких людей. Героиня Нееловой к финалу тоже переживала большое душевное потрясение: снимала с себя все украшения, которые призваны были сделать из нее благополучную замужнюю американку, и обнаруживалось, что не все в ее жизни так просто, она превращалась в испуганную и растерянную девочку. Этот спектакль и сегодня обладает большим эмоциональным воздействием. (Его можно посмотреть в записи на DVD.)
Главным достоинством режиссера в этой постановке была его работа с актерами. Это и был истинно современниковский спектакль–общее решение, а оно тут присутствовало, было направлено на выявление глубины ролей, на человеческое содержание. Возможно, именно в этой работе Валерий Фокин достиг истинной гармонии с «Современником».
«Кто боится Вирджинии Вульф?»–1984 год. А в 1985-м Валерий Фокин пришел в Театр им. Ермоловой главным режиссером.
Конечно, он с самого начала по натуре был лидером. И, конечно, получить свой театр было его заветным желанием. Эту новую для себя страницу жизни Фокин прожил сполна, отдав много сил, энергии и замыслов театру, который он захотел реформировать и перестроить по своему собственному проекту. Надо сказать, что это было довольно смелое желание. Но Фокин поверил перестройке и ее посулам о том, что жизнь в стране изменяется в лучшую сторону, становится более свободной. В Театре им. Ермоловой Фокин поставил довольно громкий спектакль–«Говори» А. Буравского. Молодой автор сочинил пьесу на основе журналистских очерков В. Овечкина о колхозных буднях. Пьеса была по тем временам острой. В ней звучал призыв–говорить! Говорить обо всем, что происходит в стране, обо всем, что нуждается в перестройке и обновлении. В общем, в этом сказывалась уверенность авторов спектакля, что общественная и политическая жизнь должна быть демократичнее, ошибки советской системы необходимо исправить, а всякую ложь и демагогию–преодолеть.
Этот спектакль–любопытный документ времени. Он возвращал зрителей в эпоху оттепели. Действие спектакля происходило именно в те годы, когда умер Сталин и жизнь в стране стала меняться. Мартынов (А. Жарков), умный и гуманный человек, был назначен на должность первого секретаря райкома как раз на волне обновления общественной жизни. И он со всем пылом своей честной натуры начал вникать в те проблемы работы колхозов, которые прежним руководством игнорировались, поскольку прежнее руководство работало в стиле жесткой бюрократии. Мартынов открыто и доверительно разговаривал с народом, с колхозниками, пытался узнать, что их тревожит, что в их работе требует усовершенствования и переделок. Но каждый раз он неизменно сталкивался либо с равнодушием людей, либо с их страхами и неверием в то, что жизнь можно изменить в лучшую сторону. В забитом народе с рабской психологией положительный первый секретарь райкома пытался разбудить гражданское чувство. Заканчивался спектакль красноречивой сценой. Мартынов отбирал у женщины, выступавшей на общем собрании колхозников, листки, где были записаны привычные для такого рода случаев трафаретные, лживые фразы об успехах и достижениях, и предлагал ей говорить от своего имени.
Мы тогда и верили, и не верили в перестройку. Верили, потому что действительно хотели перемен. Не верили–из боязни и сомнений, потому что тогда было такое чувство, что советская власть–это навсегда. Но Фокин, в котором желание действовать и быть активным было, очевидно, очень сильным, воспользовался призывами к демократизации и гласности, произносимыми с высоких трибун, и выступил в духе времени. Но никто не знал тогда, что попытка реформировать и оживить мертвую советскую систему очень скоро приведет к ее полному и окончательному краху. А вся говорильня, которой будет очень много в газетах и на телевидении в конце 80-х и в 90-е годы, в которой, кстати, наиболее активное участие примут шестидесятники, не будет содержать в себе конструктивных идей. И страна начнет развиваться по непредвиденному сценарию, спонтанно и хаотично и почти до неузнаваемости изменит облик бывшего советского общества. Сейчас не будем останавливаться на всех взлетах и падениях постсоветской истории. Скажем только то, что уже сегодня, через два с лишним десятилетия после начала всех этих процессов, понятно, что все призывы честных, граждански ориентированных личностей к улучшению и демократизации жизни–очередной приступ революционного идеализма, на который так падка наша интеллигенция. Поэтому и спектакль Фокина выглядит сегодня явлением исторически оправданным, но отражающим ошибки сознания советской интеллигенции. Потому что проблема вовсе не в том, чтобы «говорить». На историю не действуют прекраснодушные разговоры. Российская история развивается не по тому пути, который ей предначертала сначала оттепель, потом перестройка с их идеалистическими призывами. И Фокин уже сегодня говорит не о демократии, а о «русской демократии». В своей осторожной и тактичной формулировке он прав. Рост самосознания нашего народа–проблема не одного десятилетия, если не сказать–столетия.
Позднее Валерий Фокин будет вспоминать: «Двадцать лет назад у меня был спектакль “Говори” в Театре Ермоловой–знаменитый спектакль, который даже называли визитной карточкой перестройки. Потому что он вышел в 1985 году и был весь про это. Но тогда мы все жили в ощущении, что говорим правду, что мы вышли из кухни и можем говорить вслух. Нам казалось, что все завтра поменяется, потому что мы это говорим. Сейчас мы понимаем, что ничего не поменялось, хоть мы и говорили. Сейчас у меня нет задачи реагировать на внешние события. Меня скорее интересуют духовные ориентиры человека и его внутренний мир, который существует вне зависимости от погоды и от того, что мы строим,–коммунизм или капитализм».
Больше у режиссера не будет подобных спектаклей. Валерий Фокин займется другим–в основном классикой, Гоголем, Достоевским. Обратится к темам общекультурным, более далеким от горячих социальных проблем дня.
В Театре им Ермоловой он еще выпустит две редакции «Приглашения на казнь» В. Набокова, пьесу Э. Радзинского «Спортивные сцены 1981 года». А потом в течение нескольких лет будет много ставить за границей–в Германии, Швейцарии, а главным образом–в Польше. Здесь он, кстати, получит статус заслуженного деятеля культуры, и, может быть, в результате всего прожитого за эти годы у него возникнут новые взгляды на театр и режиссуру, которые он и реализует в своих спектаклях 90-х годов.
В Театре им. Ермоловой Валерий Фокин уже проявил себя как театральный реформатор, хорошо разбирающийся в организационных формах театра. Он одним из первых понял, что репертуарный театр находится в кризисе, и захотел создать иную театральную модель.
Время было хотя и перестроечное, но все же еще советское, поэтому инициатива Фокина столкнулась с немалыми сложностями.
Фокина не устраивало, что театр открывается для публики только по вечерам и ограничивается показом спектаклей. Он задумал создание некоего театрального центра, сочетающего в себе различные формы–клуба, кинотеатра, экспериментальной площадки. И в связи с этим захотел построить новое здание этого центра за Театром им. Ермоловой. Эта его инициатива встретила бурную реакцию со стороны труппы, которая не была готова к переменам, тем более что какая-то ее часть была отодвинута Фокиным на периферию и могла бы и вовсе покинуть театр, если бы от ненужных актеров в штате можно было бы отказаться, а остальных перевести на контрактную систему.
Кстати, эта контрактная система является камнем преткновения для руководителей театров и по сей день. И когда у нас говорят о сохранении репертуарного театра, то заботятся при этом не столько о сохранении постоянного репертуара, сколько о сохранении постоянных зарплат актеров. То еть, защищая идею репертуарного театра, созданного Станиславским и Немировичем-Данченко, у нас защищают, по сути, не дореволюционную, а сталинскую модель этого театра. Потому что именно Сталин поставил репертуарный театр на государственную дотацию и распространил систему постоянного штата на все театры страны. Ведь когда свой репертуарный театр создавали Станиславский и Немирович-Данченко, они приводили в театр своих актеров–из Общества искусства и литературы, где до этого работал Станиславский, и из Филармонического училища, где преподавал Немирович. Сегодня все еще жива именно сталинская модель. По сей день новый руководитель, приходя в репертуарный театр, получает в обязательном порядке уже готовую и не им созданную труппу, проработавшую в театре часто не одно десятилетие, обросшую штампами и нередко готовую во что бы то ни стало «съесть» этого руководителя.
Поэтому по сей день Фокин, и не он один, борется за систему контрактов. Правда, сегодня он считает, что с этой системой нужно обходиться более гибко, не рубить с плеча, а внедрить поначалу переходный переаттестационный период.
Идеи реформировать театральную систему сталинского образца в период перестройки возникла совершенно закономерно. Первым с этой идеей выступил Олег Ефремов, который в результате долгой и сложной борьбы внутри непомерно раздутой, во многом сохранившей дух имперского сталинского театра труппы разделил МХАТ на две части, лучшую часть, наиболее дееспособную, он объединил во МХАТ им. Чехова, а другую отдал Т. Дорониной, возглавившей МХАТ им. Горького. Это была довольно кровавая история, шлейф от которой тянулся долгие годы. Для актеров, всю жизнь получавших зарплату в штате театра, пусть даже и почти не выходящих на сцену, лишиться этой зарплаты казалось делом невозможным.
Но если Ефремову удалось довести свою реформу до конца, не обращая внимания на шквал обвинений в свой адрес, то Фокину не удалось. Тогда он был еще довольно молодым–ему исполнилось 39 лет, когда он пришел в ермоловский театр,–а следовательно, не столь авторитетным, как создатель «Современника» и главный режиссер первого театра страны. Фокину не разрешили построить новое здание театрального центра рядом с Манежной площадью. А ермоловский театр, хотя и был разделен на две части (в результате той же ожесточенной и кровавой борьбы внутри труппы), как и МХАТ, но Фокин вскоре покинул театр. Он был разочарован в результатах своих предприятий, потому что действовать свободно и так, как он считал нужным, ему не позволили, а довольствоваться половинчатыми результатами он, очевидно, не захотел. «Тогда, в Театре Ермоловой,–вспоминал он уже впоследствии,–мне часто не хватало гибкости, мудрости. Я шел напролом там, где сейчас использовал бы какой-нибудь обходной маневр. Я был стратегически–до сих пор в этом уверен–полностью прав, а вот в тактике часто ошибался. Я тогда верил в перестройку и считал, что все мою веру разделяют. Верил, что все должно перемениться и преобразиться сейчас и разом…»
В дальнейшем Валерий Фокин не откажется от идеи создания новой модели театра. И когда настанет более благоприятный момент, он эту идею начнет осуществлять. В лихие 90-е, не убоявшись осложнений, которые в это криминальное время могли грозить отнюдь не мелкими неприятностями, Фокин инициировал строительство Театрального центра им. Мейерхольда.
В начале 90-х годов Центр стал работать и как экспериментальная, и как прокатная, и как учебная площадка, где игрались необычные спектакли, где проходили фестивали, где шло обучение некоторым театральным профессиям. Фокин приобрел абсолютную автономию и самостоятельность, а также финансовую независимость от государства, потому что отныне зарабатывал деньги сам. Вот тогда-то я и подумала, что Фокин явил собой особый тип театрального деятеля, которому вполне подходит новое слово «менеджер». Это слово нельзя было применить к Олегу Ефремову или Георгию Товстоногову. Они были руководителями другого типа. У них много энергии, сил и предприимчивости уходило на взаимоотношения с властью–министерством или управлением культуры. Они должны были лавировать между Сциллой и Харибдой. Ставить острые пьесы, которые могли понравиться интеллигенции (а искусство тогда работало именно на интеллигенцию как на наиболее передовую прослойку общества), и при этом не конфликтовать, по крайней мере открыто, с официальной идеологией. Они целиком и полностью зависели от государства, им был нужен высокий статус и высокий авторитет, чтобы с ними считались. И основная тяжба с чиновниками, которую они вели, была именно по поводу идеологии: чиновники служили идеологии официальной, обросшей коростой демагогии, а театральные режиссеры пытались «протащить» свою, которая более соответствовала сознанию мыслящего, стремящегося к политической и иной свободе человека. Кроме того, все свои спектакли–и в пику власти, и в ее защиту–они ставили на государственные деньги.
Валерий Фокин, который стал зарабатывать сам, должен заботиться уже не об идеологии, а об экономической и финансовой эффективности.
Руководитель театра, в том случае если он получает дотацию от государства, должен эту дотацию оправдать, то есть показать, что чужие деньги он тратит не зря. Чиновники в этой ситуации стали упирать на такие показатели, как кассовый сбор и количество зрителей. Именно это обстоятельство и осложнило жизнь Анатолия Васильева, который в течение двадцати лет вел закрытую лабораторную деятельность и почти не имел зрителя и, соответственно, кассы. Валерий Фокин уже в начале второго десятилетия нового века, напротив, продемонстрирует чудеса эффективности. Так, после окончания строительства новой сцены Александринского театра он сумеет сэкономить 18 миллионов рублей и вернуть их в бюджет государства. Сейчас не будем вдаваться в подробности, как ему это удалось (он рассказывает об этом в нескольких интервью), а остановимся на другой проблеме, которая возникла в театрах в связи с эффективностью. Эту проблему уже не как менеджер, а как художник прекрасно понимает Валерий Фокин. Он понимает, что к искусству нельзя подходить с количественными показателями. Совершенный по художественным критериям спектакль для 50 или 100 человек нельзя считать работой менее эффективной, чем совершенный по художественным критериям спектакль для 1000 человек. Для тех, кто хоть немножко разбирается в театре, хорошо понятно, что спектакли, рассчитанные на огромные залы, как правило, бывают работой в большей мере коммерческой, нежели художественной. «Заполнить большой зал несложно: несколько популярных имен, бойкая пьеса, занятное постановочное решение,–говорит Фокин.– Если ты последуешь этим рецептам, то легко соберешь тысячу зрителей–другое дело, насколько все это будет художественно».
Идеал режиссера для Валерия Фокина–это Мейерхольд. Совсем не случайно он стал председателем комиссии по его наследию и создал театральный центр его имени. И даже в Александринский театр, как он считает, он попал именно благодаря Мейерхольду (Фокин немножко мистик).
Судя по достаточно скупым высказываниям Фокина о своем методе работы (в отличие как раз от подробного обсуждения проблем реформы и организации театрального дела), он «взял» у Мейерхольда принцип первичности формы. И форму, считает Фокин, актер должен оправдать изнутри. Фокину нужен готовый и гибкий профессионал. Он не тратит время на исследование и познание с неизвестным результатом, которыми так упорно из года в год занимается Лев Додин. Фокин как будто репетирует в более сжатые сроки. И к началу репетиций у него в голове уже готовы образ и композиция будущего спектакля (воплощаемые в партитуре–этот термин, как он мне рассказал, он взял у Мейерхольда), которые, конечно, в чем-то могут измениться (если, скажем, этого потребует индивидуальность исполнителя), но в целом он должен быть воплощен так, как задуман.
Прошло десять лет после ухода Фокина из «Современника», и перед нами–уже другой режиссер. Он не прервет связи с современниковскими актерами, прежде всего с К. Райкиным, позднее он поставит спектакль с М. Нееловой. Займет в спектклях и таких актеров, как С. Сазонтьев, И. Кваша. А откроет свой репертуар в ЦИМе Фокин тоже с современниковского актера–Авангарда Леонтьева, который выступит в роли Чичикова в спектакле «Нумер в гостинице города NN». Это актеры в основном среднего поколения, уже не совсем молодые. По большей части это поколение самого Валерия Фокина. Им будет понятен язык режиссера, необходимость взаимодействия с необычной формой.
У Фокина в ЦИМе вообще не будет постоянной труппы. Актеры будут приглашаться на роль. Это даст возможность работать с лучшими, наиболее сильными исполнителями. Даст также определенную свободу маневра. Избавит от необходимости проводить в коллективе чистку, отбор, лишать работы, вступая тем самым в конфликты. И вообще 90-е годы–это особое десятилетие. Все прежние модели рухнули, сильно покачнулась и модель репертуарного театра. Фокину нравится свободная форма театрального центра, где можно заниматься проектами, приглашать других режиссеров, устраивать различные учебные процессы, проводить эксперименты. Фокин в 90-е годы будет много ездить за границу, работать и с московскими, и с даже периферийными театрами, создавая спектакли как совместную продукцию. Спектаклей собственно ЦИМа будет не так много–два-три, остальные, как «Превращение», будут совместной продукцией с другими театрами (с «Сатириконом», со студией под руководством О. Табакова, с «Современником»). В «Современник» Фокин теперь придет как постановщик на один спектакль. Займет необходимых актеров и выпустит премьеру. В общей сложности за десятилетие он поставит примерно 25 спектаклей в разных театрах, в том числе и за рубежом.
И как постановщик Фокин попробует разные формы и стили. Не будет останавливаться на каком-то одном. Но что бы он ни делал, он больше не вернется к современниковскому жизнеподобию. Он обретет самостоятельность как режиссер новаторской формы. Первым спектаклем в это десятилетие в ЦИМе станет «Нумер в гостинице города NN». Спектакль обратит на себя внимание и прессы, и фестивалей. Это будет для Фокина совершенно новая стезя.
Авангард Леонтьев в роли Чичикова в спектакле «Нумер в гостинице города NN» показан в необычной проекции–проекции его внутреннего мира. У него нет других партнеров–полноценных и объемных психологических персонажей. Есть только лакей Петрушка (С. Сазонтьев) и кучер Селифан (В. Еремичев). Но взаимодействие с ними нельзя назвать полноценным психологическим общением. Они тут–скорее некие знаки бессмысленного и косноязычного холопства, как Петрушка, который читает книгу, испуская звуки, похожие на мычание. Это эпизоды короткие, но выразительные и в смысловом отношении важные. Фокин в этом спектакле рисует мир странный, мир полунаваждения, полусна, населенный всякого рода чертовщиной, мертвецами. Мир, рожденный в сознании господина средних лет с довольно невыразительной наружностью, который предается сладостным мечтам и переживаниям своего необычного предприятия–покупки мертвых душ.
Все, что появляется на сцене, появляется как бы в сознании Чичикова. Это он своим внутренним взором видит выплывающую словно из тумана, из какого-то фантастического марева шеренгу мертвецов. Это он почти в болезненном экстазе, в крайнем возбуждении, перебирая фамилии купленных им умерших крестьян, предается размышлениям о том, как жили и как умерли эти несчастные. От слепого ли случая, попав под колесо проезжающей телеги? Или напившись допьяна с деревенском трактире, а потом ринувшись головой в омут? Невеселая картина встает перед нами от этих размышлений, и одолевают грустные мысли о бессмысленности и пустоте жизни человеческой.
Вот словно в мареве проплывает невеста в белом платье и фате. Это мечта Чичикова, то, ради чего он пустился в свое странное и постыдное предприятие. И кажется, что все вещи и мебель в комнате сдвинулись со своих привычных мест. Возникли странные то цокающие, то ухающие, словно рассыпающиеся, разлетающиеся звуки (композитор А. Бакши). И в этом звенящем и гудящем пространстве словно из небытия, из какой-то черноты возникают фантастические персонажи со свиными рылами: нос пятачком, бессмысленные глазки. Это тоже выражение внутреннего мира Чичикова. Бедового предпринимателя, торговавшего мертвые души и продавшего душу черту.
Театр, который демонстрировал Фокин в спектакле «Нумер в гостинице города NN», можно назвать субъективистским. Он является творческим продуктом поколения 70-х с его особым восприятием реальности. Такой театр демонстрируют и А. Васильев, и К. Гинкас. Это театр не жизненной правды, а правды образа, воображения. В нем свои законы и логика–логика художественной фантазии.
Фокин ставил Гоголя еще в Щукинском училище («Нос»). Потом «Вечера на хуторе близ Диканьки» в Центральном детском театре в середине 70-х годов. Затем «Ревизор» в Польше, через несколько лет–в «Современнике». Затем «Женитьбу» и «Мертвые души»–в Польше в 90-е годы. После «Нумера в гостинице города NN» будут еще гоголевские постановки.
Гоголь–любимый автор Валерия Фокина. К постижению мира этого автора режиссер идет не через привычный нашей сцене реализм и сатиру, которые начались еще со Щепкина. Он идет к Гоголю через восприятие ХХ века, через символистов, Мережковского, Мейерхольда. Через тему «черта» и «грядущего хама». Через традицию эпохи модернизма.
К такому театру Фокин пришел как будто закономерно, по логике развивающегося времени, которое выдвигало новые требования к искусству. У Фокина в полную силу заявила о себе собственная индивидуальность, которая уже не должна была считаться с принятым стилем чужого театра. И эта индивидуальность обнаружила, с одной стороны, свое своеобразие, с другой–сходство с собратьями по поколению. Поколению, которое более интересовалось внутренними проблемами человека, вне их связи с социальной реальностью (как выразился сам Фокин, неважно, что мы строим–коммунизм или капитализм). Валерий Фокин, как и Анатолий Васильев, как Лев Додин или Кама Гинкас, стал размышлять о частном, а не об общественном человеке. О том, что вся окружающая реальность сосредоточена в душе, и эта душа окрашивает ее в те или иные тона. Первично наше внутреннее индивидуальное восприятие. Наш мир–это проекция нашего «я». Отсюда, из этих ощущений, я думаю, и возник такой спектакль, как «Нумер в гостинице города NN».
Еще одно качество театра Фокина 90-х годов. Я уже его отмечала, но повторю еще раз, поскольку это важно. Фокин отныне резко уходит от бытовой реальности в сторону фантастического мира. Ему ближе и интереснее среда, наводненная странными звуками, которые ему теперь сочиняет композитор А. Бакши. Мир наваждения, размещающийся на границе реального и ирреального. Мир, в котором происходят невероятные, необъяснимые с точки зрения нормальной логики события,–как превращение обыкновенного клерка по имени Грегор в большое насекомое, повергающее в ужас всех домашних («Превращение» Ф. Кафки).
В этом спектакле главную роль исполнил Константин Райкин, у которого к этому времени уже появился собственный театр «Сатирикон». Поэтому спектакль Фокина–это совместная продукция ЦИМа и «Сатирикона».
«Превращение», как и «Нумер в гостинице»,–тоже почти моноспектакль. Правда, в «Превращении» помимо основного героя, который однажды, проснувшись утром в своей постели, обнаружил, что преобразился в некое немыслимое существо со щупальцами, способное произносить только нечеловеческие цокающие звуки, действуют и члены его семьи–мать, отец, сестра и приходящие к ним в дом гости. Но это спектакль почти без текста. Он весь выстроен на коротких репликах, почти междометиях. А основной герой и вовсе лишен речей. Все действие при этом разворачивается за стеклом, в пространстве комнаты, где живет несчастное насекомое, на это пространство зрители смотрят сверху вниз–через стекло. Столовая, в которой семья героя собирается за большим столом, тоже помещается за стеклом. Таким образом возникает эффект плоскостного театра почти что с рисованными силуэтами. И только героя, который находится внизу, в своей комнате, зрители видят объемно.
Здесь режиссер вместе с композитором А. Бакши снова создает особую звуковую партитуру зрелища. Двжение фигур и силуэтов происходит под странные позванивающие и словно дребезжащие звуки. Возникает не бытовая картинка, а снова фантастической мир, как будто удаленный от нас временем и расстоянием. Некоторые лаконичные детали–лампа с большим красивым абажуром над столом и сам стол с белой скатертью – создают образ некогда благополучного буржуазного дома, в котором произошло нечто необычное, что изменило его облик и наводнило зыбким, тревожным настроением.
Спектакль выстроен прежде всего пластически, это почти пантомима. Пластически играет свою роль и К. Райкин, его руки и ноги превратились в щупальца и постоянно шевелятся, имитируя движения насекомого, ползающего по своей комнате, переворачивающегося со спины на живот и поднимающего шум, которого пугаются все домочадцы. Очень выразительно его лицо, глаза–вытаращенные, округлившиеся, говорящие о переживаниях этого странного существа, попавшего в трудное, необъяснимо трагическое положение.
Самая щемящая драматическая сцена–та, где насекомое вылезает из своей комнаты и ползет в столовую, чтобы послушать вместе со всей семьей и гостями, как его сестра играет на скрипке. Он уже как будто смирился со своим положением и готов жить в таком странном обличье, но вместе со своими родными, ведь у него нет сомнения в том, что они его по-прежнему любят. И вот он появляется и располагается у стола, показывая своими лапками-щупальцами, добродушным выражением глаз и всем своим довольным и мирным видом, что готов наслаждаться музыкой. Но в этот момент идиллия, не начавшись, обрывается. Резкая односложная фраза сестры бьет наотмашь и заставляет его стушеваться и понуро уползти восвояси. И именно после этого случая последует известие о его внезапной смерти.
Этот трагический спектакль об абсурде человеческой жизни, о тотальном одиночестве, о жестокости людского сообщества–очень важная веха в линии творчества Валерия Фокина. Фокин раскрыл в нем свое трагическое мировосприятие. Лучшие его спектакли будут тоже пронизаны этим трагическим чувством, это чувство, как и у других режиссеров поколения,–экзистенциальной природы. Оно выражает ощущение покинутого человека, не имеющего опоры в окружающем пространстве, человека, который может погрузиться только в бездну своего беспокойного и часто больного сознания. Таким человеком будет Николай Гоголь, главный герой Валерия Фокина, о котором он поставит пронзительный и необычный спектакль в Александринском театре. В других работах режиссер словно будет искать выход для человека из его трагического положения, какую-то внутреннюю опору, как в постановке гоголевской «Женитьбы». Но все это будет позже.
Прошло еще десять лет, и Фокин опять оказался в репертуарном театре, с которым отношения закончил, казалось бы, навсегда. Но так сложились обстоятельства, что в Александринском театре в рамках программы «Новая жизнь традиции» он поставил гоголевского «Ревизора» и почувствовал интерес к труппе, понял, что с ней можно работать, и вскоре стал здесь художественным руководителем. Со временем он, очевидно, ощутил, что репертуарный театр–более устойчивая модель и обладает своими преимуществами. Или просто настало время творческой зрелости и потянуло к чему-то более стабильному. В репертуарном театре появилась возможность сосредоточенной работы и постепенных накоплений от постановки к постановке. Появилась также возможность проводить определенную целостную программу.
У Фокина теперь в результате тщательного отбора актеров, ухода одних и пополнения за счет других образовалась постоянная труппа. Художественному руководителю большого коллектива предстояло заниматься тем, чем прежде заниматься не приходилось,–и воспитанием актеров, и заботой об их творческом росте.
Характерно, что в Александринском театре Фокин за десятилетие поставил в два раза меньше спектаклей, чем за тот же период в ЦИМе. Тогда он как будто разбрасывался. Проявлял жадность, хотел успеть и там, и здесь. Теперь он существует размеренно. И живет на два города, утверждает, что Петербург хорош для сосредоточенной работы, в то время как Москва годится для тех, кто хочет сделать карьеру. А поскольку карьера Фокина уже, в общем, состоялась, он может теперь сполна отдаться творчеству.
Правда, раж реформатора и в Петербурге не оставил его. Фокин создал новый театрально-культурный комплекс на улице Росси, за основным зданием театра. Теперь он стал обладать площадками двух типов–традиционной репертуарной, каковой является сцена Александринки, и нетрадиционной, принадлежащей многофункциональному центру, каковым стала новая сцена на улице Росси. На эту сцену Фокин пригласил главного режиссера Марата Гацалова, одного из наиболее интересных профессионалов молодого поколения.
Центр на улице Росси–это трансформирующаяся сцена на 300 мест, школа и медиацентр театральных технологий (интернет-театр). Как считает Фокин, такого уникального центра нет ни в России, ни даже в Европе. Центр работает в круглосуточном режиме и рассчитан в основном на молодежь.
Фокин утверждает, что, создав новый многофункциональный театральный центр, он возродил тот театрально-культурный комплекс, который был организован еще Карлом Росси в 1830 году. На одной из красивейших улиц города, которая расположена за Александринским театром, издавна размещалась балетная школа, а ныне располагаются Академия русского балета, театральные мастерские и театральная библиотека.
Деловитость Фокина, способность подчинить работу театра дисциплине и ответственности выделяют его на фоне режиссеров его поколения. Пожалуй, только Лев Додин имеет столь же образцовое театральное хозяйство и держит коллектив тоже в определенных деловых рамках. Но Додин, по крайней мере внешне, выглядит все же мягче и подчиняет коллектив своей театральной вере, стилю своей работы с ансамблем, требуя от актеров душевной отдачи. Фокин в большей степени представляет тип другого руководителя, для которого душевные моменты, на мой взгляд, значат меньше, а нужны дисциплина, ответственность, исполнительность. Когда его спросили, чего бы он желал больше–любви или понимания, он ответил: «Понимания». Это характерно для него. Фокин по натуре более жесткий человек, который не разменивается на мелочи и не отличается сентиментальностью. Про Александринский театр он не без гордости говорит так: «Театр отлажен с точки зрения того, что я называю художественным порядком. Художественный порядок–это термин, распространяющийся и на репетиции, и на спектакли, и на взаимодействие всех служб в угоду тому, чем мы занимаемся. И Андрей Щербан, и Кристиан Люпа, и Михаэль Тальхаймер (это те режиссеры, которые ставили в Александринском театре.–П.Б.)–все в один голос говорили мне, что такой организации они не видели ни в одном европейском театре».
Гоголь–любимый автор Валерия Фокина. Как я уже написала, режиссер шел к Гоголю через традицию эпохи модернизма, через Мережковского и Мейерхольда. Но сейчас хочу добавить–и не только. Потому что Валерий Фокин шел к Гоголю прежде всего, конечно, от себя самого, от своих личных ощущений и размышлений о жизни, в какой-то мере–от автобиографических моментов. В общем, любовь Фокина к Гоголю носит отнюдь не литературный или культурный, а прежде всего личный характер.
Позднее он в одном из интервью высказал следующее: «Дело в том, что последние годы я все-таки стараюсь соизмерять свою работу с личными ощущениями, с тем, как я живу и что со мной происходит. <…> Ведь любой спектакль тебя как-то меняет или подтверждает твои мысли–это своего рода исповедь. Бывает, что спектакль носит некий профессионально-эстетический характер, но в идеале он должен быть исповедью». Для Фокина–это достаточно неожиданное признание. Хотя оно вполне в духе высказываний поколения семидесятников. Оказывается, и такой волевой и предприимчивый театральный лидер–лирик в душе. Но, кажется, это качество в нем не развилось или усугубилось с годами, а было присуще еще со времен «Современника». Трудно сказать. Но то, что в последнее десятилетие Фокин ставит спектакли, очень близкие ему лично, мне кажется, есспорно. В них как будто и заложена рефлексия Фокина по поводу себя самого, по поводу современной жизни и всех ее соблазнов для человека и художника. Фокин рефлектирует, чтобы удержаться от искушений, чтобы сохранить нетронутым свое обостренное художническое чутье и не пойти по пути тех, кто, достигнув преуспевания в деловой сфере, потерял себя как художник. Фокин об этой проблеме думал уже давно.
Но продолжим о постановках Гоголя. О «Шинели», совместной продукции ЦИМа и «Современника», которую Фокин посвятит, как признавался он сам, теме соблазна.
Стилистически «Шинель» близка «Нумеру в гостинице» и «Превращению». Это тоже почти бессловесный спектакль–фантазия, разворачивающаяся в полуреальном мире, мире наваждения и сна. И герой–маленькое существо, лишенное признаков пола, с лысой головкой и большими удивленными глазами, в которых очень часто появляется выражение испуга. Башмачкина играла Марина Неелова. Существо кряхтело, издавало какие-то ухающие звуки и произносило односложные фразы, поражая своей немощью и даже убожеством. К нему трудно было испытать сострадание, ведь человеческое в нем как будто давно исчезло, а осталось только нечто несуразное и убогое.
Башмачкин в спектакле Фокина не был персонажем натуральной школы. Так к Гоголю подходили еще в ХIХ веке. Но в ХХI веке театр изымает его из этой традиции и создает другой образ Башмачкина. Не маленького человека, задавленного равнодушным столичным городом, за фасадом которого совершались человеческие трагедии, а фантазийным существом среднего рода, живущим в мире своей грезы, своего наваждения, своего соблазна. Этим соблазном стала для него новая шинель. Существо обожествило ее, и потому образ шинели в его сознании вырос до невероятных размеров и значительности. Огромная шинель плыла по сцене, как большой корабль. Рядом с этой шинелью существо выглядело еще меньше, еще неказистее.
Фокин в этом спектакле живописал душевную страсть Башмачкина, соблазненного желанием обладания шинелью. И поэтому весь спектакль был словно материализацией этой страсти, материализацией внутреннего мира Башмачкина. Этот мир представал как образ полуфантастического города, города пугающих миражей и наваждений, центральным из которых была невероятных размеров шинель. Визуальный ряд дополняла звуковая партитура (А. Бакши), созданная из странных гулких, тоже пугающих звуков.
Все это, опять же, было далеко от бытового реализма. С этой дороги Фокин ушел уже давно. В спектаклях, подобных «Нумеру в гостинице» и «Шинели», он следовал скорее стилю «фантастического реализма», основанному на образах внутреннего мира человека, часто причудливых и гротескных. «Фантастический реализм» связывают с искусством Е. Вахтангова. Ведь не случайно же Фокин–выпускник Щукинского училища. И в начале ХХ века «фантастический реализм» вовсе не предполагал копию жизни. Ведь Вахтангову были присущи богатая фантазия и яркие образы, тяготеющие к гротеску. У режиссера вахтанговской школы фантазия работает в том же направлении, которое раскрывает богатое воображение художника. Это выражение все того же субъективизма, на котором стоит искусство режиссеров-семидесятников, обнаруживших свою близость к традициям театрального модернизма.
И вместе с тем Валерий Фокин, так же как и Анатолий Васильев и другие режиссеры этого поколения, является постмодернистом, сочетающим в своей эстетике черты модерна и постмодерна. Последний проявляется, в частности, в том, что режиссер второй половины ХХ–ХХI века очень свободно обращается со всем арсеналом выразительных средств театра начала ХХ века, включая и опыт Е. Вахтангова, и в большей степени опыт Вс. Мейерхольда, к которому обращается напрямую, вводя цитаты из его спектаклей (особенно наглядно это проявится в «Ревизоре»). Порывает с реализмом, с которым еще очень тесно было связано поколение шестидесятников. Выходит за границы социального пространства (начиная с 90-х годов) в сферу субъективных личностных (в том числе и автобиографических) переживаний, внутреннего мира человека, материализуя в своих спектаклях видения и образы, возникающие в сознании и подсознании персонажей. Выражает в своем творчестве (еще начального периода: «Современник» и Театр им. Ермоловой) антитоталитарный пафос, в этом случае продолжая традицию шестидесятников.
Так переплетаются в творчестве современного режиссера прошлое и настоящее, традиция и новаторство, личностное и общекультурное.
Смысл спектаклей Валерия Фокина не лежит на поверхности. Режиссер мыслит концептуально. Хотя, с другой стороны, спектакли Фокина, особенно такие, как «Шинель», «Нумер в гостинице», полны выразительных визуальных образов и вместе с тем полноты человеческих переживаний. Последнее Фокин считает обязательным. Человеческое содержание в любом, даже самом необычном персонаже должно быть вскрыто.
Как уже было сказано, свою деятельность в Александринском театре Валерий Фокин начал с «Ревизора». «Ревизор» принес ему удачу и ознаменовал собой новый творческий этап. Хотя Фокин, приступая к этой гоголевской комедии, еще не знал, что вскоре займет в театре должность художественного руководителя. Он решил реализовать грандиозный и необычный замысел, чтобы открыть им программу «Новая жизнь традиции» и поставить «Ревизора» в сценической редакции Вс. Мейерхольда.
Вот открытый постмодернистский ход–ввести в своего «Ревизора» какое-то количество цитат из постановки 1926 года. Очевидно, все это было рассчитано на неожиданные сопоставления и переклички. На некую изощренную театральную игру, которая могла бы придать зрелищу особое очарование. Но замысел был трудный. Хотя надо сказать, что мейерхольдовский сценарий значительно оживил заигранную комедию. Исчезли длинноты, некоторые сцены (как, например, та, где чиновники дают Хлестакову взятки) были соединены в одну, некоторые (как сцены с женой и дочерью Городничего) сильно сокращены. Вообще спектакль приобрел динамику и наполнился новой энергией. Сколько я видела «Ревизоров», но признаюсь, что в некоторых местах меня охватывала невероятная скука, все это было видано-перевидано и уже не звучало свежо и неожиданно. В этом спектакле скуки нет. Динамизм и стремительность зрелища позволяли воспринимать все на одном дыхании.
Как свидетельствуют первые рецензии на эту постановку (которую мне удалось посмотреть значительно позднее), самым большим удивлением в спектакле была роль Хлестакова в исполнении А. Девотченко. Это очень интересный актер-гастролер, который нарасхват у многих театров. Особенную любовь питали к нему как раз семидесятники. У Л. Додина он играл Шута в «Короле Лире». У К. Гинкаса–Поприщина в «Записках сумасшедшего». У В. Фокина–Хлестакова.
Бритая голова бандита-рецидивиста, крепкое жилистое тело, ухватки грубияна и насильника–этот образ был навеян уголовной романтикой 90-х. Когда голодный Хлестаков со своим подельником Осипом (П. Юринов), сидя в трактире под лестничным номером безо всяких надежд на то, что получат обед, в грусти и тоске напевали себе под нос тюремную песню, становилось понятно, что за птицы залетели в это Богом забытое местечко.
Вторым удивлением был Городничий (С. Паршин), вполне симпатичный человек, вовсе не чурбан, а хозяин, запыхавшийся от дел, которые валятся на его голову, он, конечно, и взятки берет, и допускает нарушения законности и порядка в своем хозяйстве, но как иначе? Он живет, как десятилетиями и даже столетиями жили его предшественники, в городе и стране, в которой все так живут. Фокин Городничего не то чтобы оправдал, а просто сделал из него не карикатурного, а реального человека.
И возникла несколько иная картина России, чем та, к которой мы привыкли, смотря на сцене «Ревизора». Не сатирическое изображение условного ХIХ века с чиновниками в однообразно зеленых мундирах, а картина более реальная, рисующая Россию обобщенно, какой она была и в ХIХ веке, какой предстает и в ХХI: чиновники пьют, берут взятки, все тянут себе в карман. И только когда грядет очередная проверка и появляется начальство, городской голова и весь его штат начинают суетиться. Городничий со своими подчиненными и живет от одного ревизора до другого. Как только пройдет слух, то кто-то едет, Городничий собирается, чистит сапоги и, перекрестясь, идет с распростертыми объятьями встречать очередное важное лицо. Но фокус в том, что теперь в России в качестве важного лица, ревизора приезжает бандит, карточный шулер, который как комета пронесется над городом, сорвет свои цветы удовольствия и сгинет в неизвестном направлении, только его и видели. А Городничий, еще не успев оправиться от этой встряски, готовится к следующей, опять готов бежать, и встречать, и чествовать. Спектакль заканчивается не бессловесной сценой, когда в одно мгновение все обманутые, опростоволосившиеся персонажи комедии застывают в молчаливых карикатурных позах, а энергичной гоголевской репликой, с которой начинается «Ревизор»: «Я пригласил вас, господа…»
А. Девотченко со временем ушел из спектакля, и роль Хлестакова стал играть актер Д. Лысенков. У этого Хлестакова не столь устрашающая внешность. Чем-то он даже напоминает Э. Гарина, который играл Хлестакова в спектакле Мейерхольда. Но если Хлестаков Э. Гарина был лицом инфернальным, меняющим лики и маски, то Хлестаков Лысенкова, как кукла с механическим заводом, протанцовывает свой бешеный танец, кажется, на одном дыхании и не может остановиться, и только его напарник Осип, соображающий более здраво, подхватывает его и увозит с глаз долой.
Обычно «Ревизор» строился с упором на роль Хлестакова, который появился неизвестно откуда и сгинул неизвестно куда, перевернув все в доме Городничего с ног на голову. Апогеем роли становилась знаменитая сцена вранья, где одна на другую наслаивались очевидные небылицы, которые прямо на ходу сочинял Хлестаков и которые заставляли чиновников содрогаться от страха и восторга. Хлестаков в исполнении Лысенкова тоже с блеском проводит знаменитую сцену. И все сильнее и сильнее входит в раж, начинает врать все менее и менее правдоподобно, производя при этом все более и более сильный эффект. В целом ведет себя предельно нагло и цинично. Вводит присутствующих в состояние транса. Делает пассы руками над их головами, и они впадают в сомнамбулическое состояние. А в это время бандит ловко вытаскивает бумажник у Городничего, вынимает дорогие серьги из ушей Анны Андреевны и Марьи Антоновны. В общем, хорошо обчищает честную компанию. Его подельник Осип только успевает принимать из рук Хлестакова краденое и прятать его. Все, что происходит в этом спектакле с Хлестаковым, интересно. Но более-менее традиционно, в этой роли нет резкого отхода от традиции. Новшество есть в линии Городничего и чиновников. По крайней мере, именно в этой линии в спектакле выстроен развивающийся сюжет.
Начинается все с почти бытовой сцены, в которой с полотенцем в руках появляется Городничий, еще не завершивший свой утренний туалет, выходит в приемную, где его подчиненные, как говорится в таких случаях, лыка не вяжут, поскольку погружены в пьяный сон после бурно проведенной ночи. Затем следует сцена в трактире, где озлобленные и голодные Хлестаков и Осип быстро и без заминок согласятся на все, что предложит им Городничий, и действие понесется дальше. Все будет стремиться к кульминационной сцене, в которой Хлестаков, достигнув апогея в своей бессвязной, но устрашающей всех присутствующих речи, заговорит о Петербурге. Тут же сверху, с колосников, спустятся массивные колонны, обозначающие богатый интерьер петербургского дома. И сознание чиновников и Городничего затуманится, они мысленно перенесутся в этот неизъяснимо величественный и прекрасный столичный мир. Ситуация будет нарастать, и Хлестаков Лысенкова проведет свою знаменитую сцену с маменькой и дочкой, которая окажется гораздо более динамичной, чем при традиционном прочтении комедии: играется все не попеременно, то с одной, то с другой, а одновременно, отчего сцена становится более условной и вместе с тем более оглушительной. Дамы до такой степени очарованы столичной штучкой, что потеряли всякий рассудок и буквально ползают у него под ногами, позволяя вертеть собой в прямом и переносном смысле. А Городничий, обезумевший окончательно и уже не зная, как еще угодить важному столичному вельможе, будет подкладывать под него свою дочь. А после предложения, сделанного Хлестаковым Марье Антоновне, уже вознесется в своем воображении до самых небес и будет представлять себя генералом, близким родственником важного чиновного лица, так счастливо встретившегося ему на жизненном пути. Будет представлять себе, как взойдет на самую вершину славы. Его подчиненные в благоговении встанут за спинами высокородного семейства, испытывая понятные чувства восторга перед особами, столь счастливо вознесенными судьбой. Этот подъем чувств у Городничего и чиновников–наивысшая эмоциональная точка всего спектакля. Их чувства граничат с безумием.
Но затем следует спад, который возвращает всех в реальность. Падение с высоты грез будет столь резким, что Городничего станет жалко. Присутствующие, которые за несколько минут до этого выражали свои восторги и преданность, начнут громко хохотать прямо в лицо Городничему. А он в своей знаменитой речи о том, как опростоволосился и дал себя обмануть ничтожеству, дойдет до предельной степени откровенности и самообнажения. Эту драматическую ноту подхватит Марья Антоновна (Я. Лакоба), которая слабым детским голоском пропоет жалостливую песенку. На ее лице с большими удивленными глазами появится выражение недоумения, растерянности и обиды. Как же так? За что?
Но на этом действие не остановится. Начинается следующий круг– с исходной мизансцены, когда Городничий появляется на пороге своей приемной с полотенцем на плече, произнося сакраментальную фразу: «Я пригласил вас, господа…» Эта фраза означает новый поворот того же самого сюжета, в котором неутомимый Городничий, поднося кулак к носу своего подчиненного, примется за обычные дела и заботы, готовый встретить очередное важное лицо и так еще раз проиграть свой жизненный сценарий. В этом сценарии всегда в скрытом виде будет присутствовать мечта о генеральском чине и блестящей столичной жизни. Это тот же Гоголь, только в этой версии мы больше узнали о Городничем, о его внутренних мотивах. Фокин в своем спектакле выявил внутреннюю страсть персонажа, что оказалось интересным и неожиданным. Вместо привычной карикатуры на типичного служаку николаевских времен–живое лицо, реальный человек.
Так или иначе, но подробная и точно мотивированная разработка роли Городничего выводит этого персонажа вперед и тем самым дает новый поворот гоголевской комедии.
Чтобы продолжить разговор о любви Фокина к Гоголю, стоит поговорить о «Женитьбе», спектакле еще более интересном, чем «Ревизор». Пьеса имеет не такую богатую сценическую историю. Все-таки «Женитьбу» ставили реже. Но и тут возникали свои штампы, от которых Фокин решительно ушел, поставив очень живой, динамичный и остроумный спектакль.
Никто из актеров не играет социальные комические типы–купцов, дворян и представителей прочих сословий ХIХ века. Образы нельзя сказать, чтоб были приближены к нашему времени. Нет, они, опять же, продукт фантазии постановщика, существующие словно бы вне времени и пространства и вместе с тем очень близкие нам и понятные. Тут не обстоятельные подробные психологические портреты, а словно некие беглые, но выразительные зарисовки. Без второго плана, все выведено во внешний рисунок и поведение. Иногда кажется, что какой-то персонаж обрисован с помощью слишком простого приема, как Жевакин, который потерял ноги в тех военных кампаниях, о которых так много рассказывает: он как инвалид ездит на маленькой платформе с колесиками. Таких инвалидов, просящих милостыню, можно встретить в современном метро. Актер В. Захаров прекрасно играет человека с открытой душой, этакого рубаху-парня, страстно желающего жениться на Агафье Тихоновне. Это уже его семнадцатая попытка. Все прочие кончались неудачей. И когда он терпит фиаско и на этот раз, он очень искренне, доверительно и с неподдельным недоумением спрашивает: в чем же дело, почему опять все сорвалось? При этом режиссер выводит его вперед и показывает крупным планом. Вопрос Жевакина звучит и комично, и драматично одновременно. А ответ на него напрашивается сам собой–этот человек не видит причины в себе, хотя эт причины, что называется, налицо. Такой немного жесткий юмор присутствует в этом спектакле.
Но что вкладывает режиссер в понятие женитьбы? Какие намерения и цели преследуют персонажи в своей активной погоне за невестой? В спектакле большинство сцен происходит на катке. Агафья Тихоновна и все женихи, приходящие в ее дом, попадают на этот каток и начинают делать на льду виражи и пируэты. Похоже, что каток–это образ нашей жизни, которая напоминает спорт. Все суетятся, толкаются, вступают в конкуренцию, пытаясь столкнуть другого с дистанции. Ради чего они кружатся на этом катке, нарезая круги? Так уж устроена жизнь, она заключается в неудержимом, часто неосознанном, как у Кочкарева, стремлении к достижению чего-либо. Каждый вкладывает в понятие женитьбы какое-то свое содержание: одному нужен дом на каменном фундаменте, другому жена, которая говорит по-французски. А в целом все стремятся к жизненному успеху, преуспеянию и счастью, как они его понимают.
Что же Подколесин (И. Волков), загадочный гоголевский персонаж, который в финале убегает от невесты, выпрыгивая в окно? Окно это в спектакле присутствует с самого начала. Под ним на диване лежит Подколесин и читает книгу. Но это не тип бездеятельного человека, неспособного совершить поступок. Просто Подколесин живет в своем ритме и не участвует во всеобщей гонке. При этом он отнюдь не аутсайдер. Скорее человек, не лишенный мудрости, и, скорее всего, он предается иным, чем все прочие, занятиям, требующим и сосредоточенности, и самоуглубления. У него, по замыслу режиссера, есть своя частная жизнь. «Оставьте меня»,–словно бы говорит Подколесин. И с невестой он ведет себя не так напористо, как прочие. Словно бы ему неудобно проявлять те же глупые бурные страсти. Он не может относиться к невесте как к предмету купли-продажи. Он не хам и не стремится вырвать у ближнего кусок изо рта. Он другой, чем все прочие, человек. Он, быть может, и желал бы сблизиться с Агафьей Тихоновной, узнать ее получше, но не может действовать с таким нахрапом, на который его толкает Кочкарев.
Кочкарев (Д. Лысенков) здесь проявляет свою активность, как он говорит сам, черт знает отчего. Действительно, словно его попутал лукавый. Впрочем, в этой жизни, на этом катке все кружатся тоже черт знает отчего. Вот эта тема черта, как в «Нумере в гостинице города NN», присутствует и здесь. Никому из персонажей, кроме Подколесина, не приходит в голову остановиться на мгновение и оценить смысл своей неуемной бессмысленной деятельности. Роль Кочкарева–одна из наиболее ярких в спектакле. Кочкарев во что бы то ни стало хочет женить Подколесина, развивает бешеную активность, уничтожает всех прочих конкурентов, но, спроси его, зачем он это делает, он навряд ли назовет какую-то вразумительную причину.
Агафья Тихоновна (Ю. Марченко) тоже живет по законам спортивных жизненных состязаний. То есть она хотела бы так жить. Она делает пируэты на льду и становится в картинную позу, какую обычно принимают фигуристы, сделав какой-то сложный трюк. Но она только еще учится жизни и еще не овладела всеми ее премудростями. И чаще всего пребывает в растерянности, не зная, что делать, как сказать, как поступить. Но в целом она вполне приятная девица, и на ее лице часто возникает неподдельно серьезное выражение. Кроме того, она красива и совсем не глупа. Просто часто конфузится. Такие, как Кочкарев, берутся устраивать ее судьбу, и она подчиняется их бешеному напору, принимая его за дружеское участие.
Ее тетка (Е. Липец)–выразительный тип простоватой, недалекой, но, должно быть, доброй старухи.
Спектакль ни на минуту не заставляет скучать. Действие развивается очень стремительно. Движение актеров на коньках придает всему еще и чисто внешнюю динамику. Женихи вызывают улыбку, каждый обрисован с юмором, но не карикатурно. Вечно пьяная сваха (М. Кузнецова) с заплетающимся языком придает всей истории со сватовством черты абсурда. Здесь вообще обрисован именно абсурдный мир, в котором первопричина–с чего все началось–давно забыта и люди, поддавшись своим мелким, корыстным интересам, суетятся, толкают друг друга и готовы перепрыгнуть через противника. Так они и кружатся в погоне каждый за своим миражом счастья и удачи.
Все-таки не случайно Фокину нравится Гоголь. Хотя режиссер и утверждает, что не относится к писателю только как к комедиографу и сатирику, все же скрытая едкая сатира на человеческие слабости присутствует в его спектаклях. Только она иначе выражена. Не в лоб и не с помощью известных театральных штампов. Фокин придает произведениям Гоголя словно бы первозданную свежесть, если и смеется над чем-либо, то делает это тонко, остроумно. Если и рисует абсурдный мир, то тоже с юмором, с улыбкой. Хотя если хорошенько вникнуть в смысл происходящего, то понимаешь, что оно не столь уж безобидно.
Осуществляя постановку на сцене многих произведений Гоголя, Валерий Фокин не мог не задумываться о личности самого писателя. А личность эта весьма сложная, и, чтобы подступиться к ней, необходимо представлять ее скрытую боль, заблуждения, а они, по мнению Фокина, были характерны для этой фигуры. Режиссера интересовал Гоголь-«мученик», «страдалец», а не тот приглаженный и причесанный образ «большого реалиста» из школьных и даже вузовских учебников, который существует в сознании многих и по сей день. Фокин и тут ушел от стереотипа и представил образ русского писателя как образ человека, который пребывал в невероятном болезненном напряжении, переживая свою миссию писателя и христианина как назначенную Богом и судьбой Голгофу. Нравственный, христианский смысл творчества был для Гоголя первостепенным. Он не был светским писателем, литературным и драматургическим гением, легко и вдохновенно сочиняющим свои произведения. Мысли об истинном назначении человека и писателя Гоголю внушала его вера. И он так и не смог разрешить конфликт между своим писательским даром и верой. Этот конфликт раздваивал его личность. В этом и состояла его трагедия.
Спектакль «Ваш Гоголь» играется в пространстве небольшого зала под крышей Александринского театра. Из зала через окно можно сразу попасть на фронтон здания, украшенный знаменитыми скульптурными группами с конями. Местом для игры служит помост, который упирается в маленькую сцену, на ней режиссер выстраивает интересные зрелищные картинки. Среди них–виды Петербурга, Невского проспекта с силуэтами гуляющих дам в пышных кринолинах. Потом участников венецианского карнавала в масках. В какой-то момент действия здесь появляются изображения рыб с дрожащими плавниками. Все образы так или иначе навеяны миром и биографией Гоголя.
А сам он вначале лежит на помосте в белом больничном белье, вокруг суетятся доктора. Напряженная поза Гоголя, дрожание тела, рук и ног сразу создают образ слабого, немощного человека, терзаемого внутренней мукой, от которой нет избавления. Текста почти нет. Но актер Игорь Волков, исполняющий роль Гоголя, постоянно пребывает в смятенном состоянии, ни на секунду не дающем отдыха израненной и мятущейся душе героя. Эта напряженность, болезненность состояния не прекратятся на протяжении всего спектакля. Гоголь будет смотреть в пространство пронзительным тревожным взглядом и невероятно напрягаться всем телом–страдание сопровождало его до последнего часа.
В спектакле есть сцена, в которой двух актеров–Игоря Волкова и Александра Паламишева–гримируют прямо на глазах у зрителей. Надевают гоголевский парик, приклеивают усы. Возникает портретное сходство с писателем. Но Гоголь здесь–только знак Гоголя. Некий абрис облика, некий легкий росчерк.
В игровых эпизодах Игорь Волков работает без грима, но внутренне перевоплощается в писателя, проживая его страдания как подлинные.
Фокин любит театр с малым количеством текста. Его спектакли часто обходятся не развернутыми диалогами, а почти междометиями. Зато превалирующее значение приобретает зрелищная выразительность. Через мизансцену и рисунок режиссер и передает основное содержание.
В первые десятилетия нового века в Александринском театре у режиссера появились сильные исполнители–Д. Лысенков, Ю. Марченко, И. Волков, С. Парин. Но начиналось все с гастролеров–актеров, приглашенных на роль: А. Девотченко (в «Ревизоре») и В. Гвоздицкого в «Двойнике» Ф. Достоевского. На этих актеров Фокин, очевидно, делал ставку. Но Девотченко, сыграв две роли, покинул театр. Гвоздицкий, которому предназначалась еще и роль Подколесина, неожиданно ушел из жизни, он был болен неизлечимой болезнью.
Достоевский–второй писатель, произведения которого чаще всего ставит Валерий Фокин. «Двойник» появился еще в 2005 году, после «Ревизора». И в «Двойнике» вторую роль (после Хлестакова) получил А. Девотченко–Голядкина-младшего. Голядкина-старшего сыграл В. Гвоздицкий. Это был самый первый звездный состав этого очень необычного и сильного спектакля.
Тема двойника в творчестве Фокина возникла во второй раз. В первый–в спектакле «Арто и его двойник» по пьесе В. Семеновского. Это была одна из заметных работ ЦИМа. Спектакль игрался в свободном пространстве кафе, где зрители сидели за столиками. Здесь было два Арто. Один–больной и полусумасшедший одиночка, порождающий гениальные театральные идеи. Его играл Виктор Гвоздицкий. Второй–вполне благополучный и даже блестящий господин, баловень удачи. Блестящего господина играл Игорь Костолевский. Арто Гвоздицкого–весь вдохновение, полет и виражи больного сознания. Арто Костолевского–обаяние и шарм. Парный конферанс Гвоздицкого и Костолевского в этом спектакле был полон актерского блеска.
Лучшие, наиболее сложные образы в спектаклях Фокина всегда приобретали трагическое звучание. Как образ Гоголя, Арто и теперь вот Голядкина-старшего в «Двойнике».
Виктор Гвоздицкий играл эту роль особенно сильно. Его персонаж был подлинно трагической фигурой.
Фокин вспоминал о том, как актер в последний раз вышел на сцену в роли Голядкина: «…на следующий день Виктор Гвоздицкий уехал в Москву, попал в больницу и уже больше не вернулся. Я знал, что он болен, у него была высокая температура, мы думали, что это просто какая-то инфекция, не понимали, что происходит. Я зашел в зрительный зал где-то в середине “Двойника”–думал, зайду просто на секунду, взгляну и уйду. И я простоял, наверное, минут тридцать, потому что он играл потрясающе. Он играл как в последний раз. Интуитивно я это почувствовал. Может быть, даже и от физического состояния шла какая-то воспаленнность в роли, которая легла на Достоевского, лихорадка, безумие от него прямо исходило. Зал сидел как вкопанный. Я смотрю иногда на ярусы, на зрителей–так вот, в тот раз тишина была гробовая. Тысяча человек, а как будто пустой зал, как будто нет ни одного человека. Он здорово играл. Я ему потом еще успел сказать: слушай, это было потрясающе. А ему уже было очень тяжело, он действительно как будто прощался. Прощался с этой ролью, с театром…»
Спектакль выстроен сложно. В нем две центральные роли: Голядкина-старшего и Голядкина-младшего. А остальное–это некий хор или кордебалет, существующий в строгом пластическом рисунке и передающий ощущение некой фантасмагорической реальности, реальности миражей, двойников, отражающихся в больших зеркалах сцены; метаморфоз чиновничьего мира, где голова значительного начальствующего лица, окруженная красивой виньеткой, как на парадном портрете, вдруг превращается в голову попугая; потом некой гофманиады, где хор превращается в массу странных персонажей с зловеще карикатурными лицами, окружающими Голядкина в самые последние трагические моменты его жизни. Кордебалет этот действует на сцене постоянно и, как кошмар, являющийся человеку в страшном беспокойном сне, сопровождает путь героя, приведший его к воспаленному бреду, который закончится смирительной рубахой.
Фокин говорил, что ему было важно показать расколотость сознания героя: второй Голядкин, по мысли режиссера,–одновременно и плод сознания главного персонажа, и очень реальный герой. Поэтому поединок двойников можно было рассмотреть как материализацию внутренней борьбы, происходящей в сознании Голядкина. Этот спектакль лежит в линии постановок, подобных не только «Шинели» (о чем говорил сам Фокин, подчеркивая, что это две части петербургской дилогии), но и «Нумеру в гостинице» и «Превращению», то есть постановкам, рисующим мир наваждения, существующего на границе реального и ирреального, мир, в котором происходят невероятные, не объяснимые с точки зрения нормальной логики события.
Замысел, в котором Голядкин-младший возникает как материализация внутреннего кошмара Голядкина-старшего, гораздо интереснее, чем замысел, где Голядкин-младший–реальное лицо (эта трактовка возникала в некоторых рецензиях на спектакль). В первом случае–это трагедия и фантасмагория, во втором–социальная драма о том, как более удачливый и пронырливый чиновник обошел и вытолкнул из жизненного круга другого, более слабого.
После В. Гвоздицкого и А. Девотченко в спектакле стали играть Коваленко и Лысенков. И если в игре Лысенкова присутствует это фантасмагорическое начало, он действует как существо не столько из реального мира, сколько из мира воображения, мира наваждения и бреда, то актер Коваленко весь–из мира реального. И тем не менее спектакль сохраняет свое напряжение и разворачивается как завораживающее зрелище появляющихся и множащихся двойников, зеркально отражающих друг друга. Здесь тема двойника возникает как проявление внутреннего «я» героя.
В какой момент жизнь обыкновенного маленького человека, скромного чиновника, обладающего определенными нравственными качествами, превратилась в кошмар и наваждение? В какой момент его сознание раскололось и в нем стал действовать его двойник? Вначале угодливый и льстивый, готовый на любую услугу, потом агрессивный и высокомерный, унижающий его достоинство? Двойник Лысенкова появился как проявление внутренних заблуждений Голядкина-старшего, как воплощение его необоснованных амбиций. Появился как каверза, как знак большого вопроса, обращенного на самого себя. Как изощренная и пугающая галлюцинация, превратившая все существование Голядкина-старшего в сплошной кошмар. Раздвоение личности, когда герой не мог понять, кто же он истинный и откуда в нем эти странные, вдруг резко проявившиеся черты, и привело его к конечному безумию и смирительной рубашке. Процесс внутренней борьбы, заканчивающейся победой Двойника, в спектакле развивался действенно и зримо, рисуя кривую взлетов и падений больного раздвоенного сознания. На мой взгляд, этот спектакль с точки зрения режиссерского мастерства, гармонии формы и содержания, сложности и глубины развития темы–наивысшее достижение Фокина.
В 90-е годы в ЦИМе у Фокина был спектакль по Достоевскому «Карамазовы и ад» Климонтовича, в котором Дмитрия Карамазова прекрасно играл Евгений Миронов. В роли отца Федора Павловича выступал Игорь Кваша. Ивана играл Сергей Гармаш. Это был Достоевский больных вопросов, вопросов веры, нравственности, смысла жизни. Основным обвиняемым выступал Дмитрий Карамазов, который был замешан в убийстве отца не фактически, а, так сказать, ментально. Он в своем сознании допускал мысль об убийстве, словно снимая с этого тягчайшего преступления нравственный запрет, тем самым позволял Смердякову, не склонному к сложным нравственным коллизиям, совершить это убийство. Дмитрий Карамазов носил ад внутри себя самого, в своем сознании. Это было связано с его неверием в Бога.
Тема внутреннего ада вполне соответствовала содержанию романа Достоевского. Спектакль был силен своей идейной стороной, спором, диспутом о вере и Боге, разворачивающимся на глазах у зрителей. Он был силен глубиной актерских образов, энергией переживания, силой темпераментов, эмоциональным накалом игры. С режиссерской стороны–силой интеллекта, властностью и свободой разработки темы.
Достоевский первых десятилетий ХХI века у Фокина пропущен не через реалистическую, а через фантастическую, романтическую традицию. Этот Достоевский может быть выражен не только и не столько с помощью слова, но и через яркие живописные образы. Для Фокина характерно не просто пространственное мышление, но еще и живописное, ведь в свое время до Щукинского училища он закончил художественное. Живописность нашла очень яркое проявление в спектакле «Ваш Гоголь» с его богатым визуальнымрядом, а также в «Двойнике» с его сложной графикой мизансцен и общих планов, с его живописью, по настроению своему мрачной и пугающей. «Двойник», кстати сказать, не в меньшей степени, чем «Ревизор», обнаруживает родство с Мейерхольдом, изощренным художником-модернистом, у которого живописное начало подчас играло чуть ли не первостепенную роль.
Второй спектакль по Достоевскому, «Литургия zero», выполнен в иной стилистике, чем «Двойник». Он ближе как раз постановке 90-х годов «Карамазовы и ад». Потому что весь его смысл и пафос целиком и полностью выражаются через актерскую игру. Насколько она сильна и глубока, настолько сильно и глубоко содержание всей постановки. Играется все в плетеных креслах, двигающихся по кругу. В них помещаются герои.
В спектакле заняты такие актеры, как А. Шагин (театр Ленком), А. Большакова, С. Паршин, Э. Зиганшина. Центральная и наиболее трудная роль у А. Шагина, играющего человека страстного, одержимого. С равной силой он предается и любви к Полине, и своим игорным занятиям. В финале перед нами–человек погибший, безнадежно порабощенный рулеткой.
Валерий Фокин своими спектаклями по классике говорит прежде всего о современности. Он выносит на обсуждение вопросы о том, как жить в нынешнем мире. И каждый спектакль словно бы продолжает разговор на эту тему. Если в «Женитьбе» Фокин раскрыл позицию современного человека, который не хочет участвовать во всеобщей гонке за миражами, настаивает на своем отдельном частном внутреннем пространстве, то «Гамлет», поставленный через несколько лет, говорит о том, что человек не должен участвовать в борьбе с государством, которое все равно сильнее его. Режиссер снимает с Гамлета ореол борца, равно как снимает ореол философа. Фокин сегодня, в первые десятилетия ХХI века, отрицает все те протестные формы и настроения, которые были характеры еще для советского периода развития общества. Эти протестные настроения и были основными настроениями интеллигенции. Сегодня нас не интересуют политика и формы политической борьбы. Они, с одной стороны, скомпрометировали себя, с другой–не оправдали тех надежд, которые на них возлагались. Первые десятилетия ХХI века–время частной жизни и частного человека. Искусство обращается к внутренним проблемам этого человека, к его духовным, нравственным, религиозным поискам. К его экзистенции. Положение такого человека, если оно не защищено какими-то внутренними упованиями, верой, личностными убеждениями, трагично. Как трагично положение Гамлета, которого втянули в политическую интригу и сделали из него игрушку в политической борьбе.
Валерий Фокин отрицает привычный для нас подход к «Гамлету». В 70-е годы Юрием Любимовым был поставлен знаменитый спектакль по этой шекспировской трагедии, где главную роль играл Владимир Высоцкий. Этот Гамлет был человеком, противостоящим кровавому режиму Клавдия, человеком, бросающим вызов судьбе и погибающим в неравной схватке. Его образ тогда словно бы призывал к сопротивлению. Гамлет Высоцкого в черном свитере, с гитарой, в начале спектакля читающий знаменитое стихотворение Б. Пастернака «Гул затих, я вышел на подмостки…», был выражением протеста в мрачную брежневскую эпоху.
Шлейф прежних протестных настроений все еще тянется за нами. Но уже становится понятным, что благоприятные для всего общества изменения в социальном и политическом климате должны возникнуть естественным эволюционным путем. Путь революционных преобразований и жесткой борьбы в ХХ веке скомпрометировал себя. Поэтому позиция Фокина, которую можно назвать новым консерватизмом, мне лично кажется здравой и понятной. Новый консерватизм ХХI века раскрывает суть новых отношений с социумом. Нынешний этап жизни в большей степени обращает нас к самим себе, к своему собственному пространству, к своему личному выбору. У Фокина в период его творческой молодости, когда он работал в Ермоловском театре, на какое-то время возникали социальные иллюзии. Но потом он ушел от них. И с 90-х годов, как и другие режиссеры его поколения, перестал обращаться к социальным протестным темам. Защита частной жизни отдельного человека от враждебного социума сегодня представляется более ответственной. И эта ответственность обращена к себе.
Проблему личной ответственности ставил еще в середине 80-х годов А. Васильев в спектакле «Серсо». И тот же Л. Додин в своих более ранних спектаклях по прозе Ф. Абрамова. Поэтому можно утверждать, что это базовая позиция поколения семидесятников. К ней они пришли довольно рано. Они не переживали ту трагедию, которую переживал Иванов из спектакля Олега Ефремова, а отсюда и сам Ефремов. Трагедию кризиса общественной идеи, которая произошла после событий 1968 года. Семидесятники вошли в искусство театра не с общественной, а с личностной идеей, идеей личного выбора и решения. Во всяком случае, именно об этом в первые десятилетия ХХI века в своих спектаклях рассуждает Валерий Фокин. Поэтому он и утверждает, что больше не верит в человека, «который может взять на себя ответственность в плане общественно-политическом. Я ведь это сказал во время перестройки, в которую верил на все сто процентов. Сегодня я бы сказал, что поступки нужно совершать по отношению к самому себе. И это гораздо сложнее».
Итак, «Гамлет», заигранная, как и «Ревизор», трагедия, в постановке Фокина предстает значительно обновленной. Прежде всего за счет языка. Фокин соединил многие переводы, и Лозинского, и Пастернака, и подстрочник Морозова. А главное, предложил словесно обработать текст трагедии современному драматургу В. Ливанову (недавно умершему от рака). Получился блестящий результат. «Гамлет» зазвучал свежо и резко.
Перемонтировав сцены, Фокин добился и неожиданностей в развитии интриги. Но главное здесь–само решение. В Гамлете, у которого провокацией (его напоили пьяным и выпустили перед ним человека в латах, якобы призрак его отца) вызвали жажду мести, втянули его в борьбу с Клавдием, в которой он и погиб бесславно, что повлекло за собой и другие жертвы. «Главное для меня в “Гамлете”,–говорит Валерий Фокин,–история человека, который вступил на путь борьбы и проиграл. Ключевой вопрос, который волнует меня сегодня: а нужно ли вступать на этот путь? Нужно ли бороться с этим миром? Может быть, вовсе и не нужно? Может быть, напротив, мужество требуется как раз для того, чтобы не бороться вовсе. Может быть, современному человеку не хватает мужества уйти, отстраниться–как сделал, скажем, Федя Протасов. Или Подколесин, у которого есть его диван, его малая родина–и которому на ней хорошо».
Внешнее пространство трагедии очень интересно решено художником А. Боровским, постоянным соавтором В. Фокина. Тут словно бы реализована метафора «Дания–тюрьма»: сплошные лестницы–центральная, спускающаяся вперед, к авансцене, и боковые, ведущие назад, к кулисам,–представляют собой площадку для игры. В начале и конце спектакля тут проходят молчаливые фигуры охранников с овчарками, и возникает образ фашистского тоталитарного государства. Это государство живет политическими интригами, борьбой за власть. Тут Гертруда (М. Игнатова, БДТ им. Г. Товстоногова) вместе с Клавдием (А. Шимко) осуществили убийство короля и заняли трон. Гертруда–очень жесткая и несентиментальная особа, которая не испытывает любви к сыну и готова убить его так же, как и его отца, осуществляя свои политические планы. Клавдий по своему внешнему облику, рано облысевшей голове и глазам, которые не смотрят прямо и открыто, представляет из себя ничтожество, игрушку в руках Гертруды. Инициатива во всех начинаниях тут принадлежит именно ей.
Политика тут–грязное дело, и те, кто занимается ею, не обладают высокими моральными качествами.
Гамлета играет Д. Лысенков. Вначале он–еле держащийся на ногах подросток, резко выделяющийся своим разболтанным и несолидным видом на фоне представительной публики в торжественных черных костюмах. Поэтому Гамлета на руках волокут два приставленных к нему телохранителя, выполняющих еще и роль осведомителей: государство, в котором происходит действие, очень тщательно следит за умами и настроениями людей, не брезгуя средствами жесткого политического контроля и нажима. После видения призрака Галет начинает изображать сумасшедшего. Выходит в длинной белой рубахе с кастрюлей на голове и держит в руках муляж жареного поросенка и морковку. В таком виде является перед Офелией (Я. Лакоба) и Клавдием. Но, убедившись в том, что Клавдий убил его отца, надевает на себя свои привычные одежды и начинает выступать уже как будто от своего лица.
Этот Гамлет отличается не столько склонностью к рассуждениям, сколько готовностью к реальным действиям. Он здесь, как уже говорилось, не философ. Фокин снимает с шеспировской трагедии эту традиционную трактовку, по которой активность Гамлета приостанавливается его нерешительностью и склонностью к философствованию. Именно так всегда понимался знаменитый монолог «Быть или не быть»: Гамлет не может решить этот вопрос, поэтому медлит с местью. Фокин отказывается от излишнего психологизма, навязанного Шекспиру русской традицией прочтения, и не утруждает своего Гамлета ненужными паузами и нерешительностью. В этом отношении режиссер оказывается ближе к Шекспиру, потому что Шекспир вовсе не психологический автор. Трагедия в постановке Александринского театра приобретает динамику и стремительность, за счет чего значительно облегчается ее восприятие. Следить за развитием действия становится интересно.
В этой связи стоит поговорить и о спектакле «Живой труп» по пьесе Л. Толстого. При всей пространственной и смысловой ясности решения постановка страдает одним недостатком. Пьеса Л. Толстого–это тот самый случай, когда роль Федора Протасова требует именно углубленного психологического решения и развития. Однако Протасов в исполнении С. Паршина остается статичной фигурой, носителем, смысла, необходимого режиссеру, но не соответствующего природе толстовской драмы. Роль Протасова, по законам психологической драмы, должна быть прожита в своем внутреннем развитии. А это уже не театр Фокина. Фокин часто, хотя и не всегда, решает внутреннее содержание роли через визуальные пространственные образы, через рисунок, музыкальный, звуковой ряд. В этой манере режиссер утвердился уже давно и достиг определенных успехов. Поэтому, в принципе, ему ближе Гоголь и Шекспир, а не Толстой или, скажем, Островский.
Театр Валерия Фокина–театр динамичный, в котором психология персонажа адекватно выражается в рисунке, поведении и ярких отдельных деталях, помогающих раскрытию внутреннего смысла его действий. Это театр активной образной формы, говорящий пространственными метафорами, движением фигур, четкостью в прорисовке образов. Это театр, в котором актер должен соответствовать режиссеру, наполняя режиссерский рисунок живой жизнью. Фокину требуются актеры-профессионалы, готовые работать в сложном режиссерском замысле. Чем самостоятельнее, интереснее и глубже актер, тем точнее и объемнее он может выполнить этот замысел. Поэтому Фокин долгое время работал с такими интересными и самостоятельными актерами, как Е. Миронов, М. Неелова, В. Гвоздицкий, А. Девотченко. Я не упоминаю в этом ряду имя К. Райкина, потому что с К. Райкиным Фокин шел вместе от Щукинского училища, набирая профессионализм и мастерство. По методу работы с актером и стилю построения действия театр Валерия Фокина близок театру Камы Гинкаса. Тот тоже нуждается в сильных самостоятельных актерах. Кроме того, является таким же режиссером-лириком, монологичным по своей природе, как и Валерий Фокин. Монологичность–это обращенность к себе самому, лиричность, субъективизм, который и является основной чертой поколения. Поэтому в чем-то главном разные режиссеры, создатели своих авторских театров, оказываются близкими друг другу.
В Александринском театре после ухода А. Девотченко и смерти В. Гвоздицкого Фокин стал приглашать других исполнителей и вместе с тем опираться на актеров труппы. Гастролеров в его спектаклях стало значительно меньше. Репертуарный театр все-таки требует другого стиля. Такого, когда актеры труппы переходят из одного спектакля в другой. И со стороны можно проследить судьбу исполнителя, увидеть его развитие. От режиссера постоянная труппа требует более пристального внимания к себе, воспитательных моментов, заботы не об одном ярком гастролере, а о целостном коллективе.
В александринский период своей деятельности Валерий Фокин вырос в очень крупную режиссерскую личность, которую можно сопоставить с такими мощными лидерами, руководителями театров, как Любимов или Ефремов. Фокин соединил в себе талант художника-лирика, субъективиста с талантом крупного организатора, возглавляющего большой театральный коллектив.
Сегодня Валерий Фокин являет в своем лице руководителя сразу нескольких структур: Центра им. Мейерхольда в Москве, где он занимает должность президента, Александринского театра в Петербурге, недавно он стал членом президентского Совета по культуре и искусству, возглавил режиссерскую гильдию в Союзе театральных деятелей. Присутствие в столь разных структурах такого деятельного человека, как Валерий Фокин, говорит о том, что времена меняются, и возможно, скоро мы станем свидетелями значительного оживления новых центростремительных процессов в культуре и жизни. Эпоха постмодерна с его хаосом, пестротой, множеством несоприкасающихся сфер и отсутствием единой цементирующей идеи как будто проходит. Новому времени потребуются руководители и организаторы такого крупного масштаба, какими были шестидесятники и каким сегодня стал Валерий Фокин. Его энергии, ума и предприимчивости хватит на то, чтобы воплотить в жизнь свои идеи и найти приемлемые решения для взаимодействия театра и нового социума. «В обществе сегодня наблюдается агрессия раскола, так этот раскол есть и в нашем театральном сообществе. Критериев почти никаких нет, все отстаивают свое. И поэтому сегодня просто необходим вот этот, как я называю, художественный центризм–чтобы нам не потерять главное, ради чего все»,–говорит Фокин.
Успешность только в 60-е годы была отрицательным понятием. Тогда это могли назвать даже обидным словом «карьеризм». Тогда существовало внутреннее сопротивление системе и соблазняться всеми ее благами было неприлично. Хотя можно было насчитать огромное количество людей, кто не верил этим демагогическим рассуждениям, преспокойно двигался вверх по служебной лестнице и чувствовал себя комфортно в тех предлагаемых обстоятельствах, какие создавало время. Сегодня тем более важно добиваться успеха и создавать имидж позитивного человека. Это новые требования времени. Валерий Фокин им вполне соответствует.
Сегодня «два Фокина», как видно, не находятся в конфликте друг с другом. Объединившись, две природы, организаторская и художническая, породили тип яркой и сильной режиссерской личности.
Генриетта Яновская:
у нас нет причин меняться
Триумфальные гастроли Красноярского ТЮЗа, руководимого Камой Гинкасом и привезшего в Ленинград его спектакли и спектакли Генриетты Яновской, закончились тем, что Гинкас с Яновской остались в Ленинграде.
Они уволились из Красноярского ТЮЗа за несколько месяцев до этих гастролей. У них были планы осесть в родном городе Геты, городе, где они вместе с Камой учились в театральном институте на курсе Г. Товстоногова. Супруги-режиссеры возлагали на Ленинград определенные надежды. Ведь вместе с ними из Красноярского ТЮЗа ушла почти вся труппа и тоже осела в Ленинграде. После гастролей никто не уехал в Красноярск. В Ленинграде остались даже декорации. То есть можно было создавать театр. Театр, уже успевший получить признание, ведь спектакли Гинкаса и Яновской на гастролях прошли с большим успехом. Актеры, в них занятые, были молоды и талантливы. А главное, уже составили свой коллектив, труппу единомышленников, объединенных общими вкусами и взглядами. И, что важнее всего, имеющих столь одаренных руководителей, режиссеров, чувствующих запросы времени, сумевших создать умный и содержательный театр.
Но новый театр в те годы, а это было начало 70-х, создать было невозможно. Все новое, талантливое, отличное от усредненного, поддерживаемого официозом советского стиля, царящего в большинстве театров, не могло пробить себе дорогу. Новое и талантливое даже вызывало подозрение и, уж конечно, неуважение со строны тех чиновников от культуры, которые пристально следили за тем, чтобы в театральную жизнь не проникали никакие чуждые веяния. Чиновники охраняли застой.
А Гинкас и Яновская должны были отступить, оставить свои надежды и обречь себя на долгие годы безработицы. Нет, конечно, они время от времени ставили спектакли. Но не в крупных театрах, а в маленьких, областного подчинения, каким был театр на ул. Рубинштейна. Здесь Гета и поставила свой первый после гастролей ленинградский спектакль «Вкус меда» Ш. Дилани. До этого, еще до Красноярска, у нее были выпущены две заметные постановки в том же маленьком областном театре–«Варшавская мелодия» Л. Зорина и «Бал воров» Ж. Ануйя. Но я, к сожалению, их не видела.
Мое знакомство с режиссурой Яновской началось со спектаклей «Сотворившая чудо» и «Плутни Скапена» Ж.Б. Мольера, показанных на гастролях Красноярского ТЮЗа. Прекрасных спектаклей с великолепными актерскими работами. «Сотворившая чудо»–спектакль о слепоглухонемой девочке и ее мужественной преданной воспитательнице, полный неподдельных человеческих эмоций, переживаний и трагизма. А «Плутни Скапена»–спектакль-игра, но игра со смыслом, вводящая зрителей в атмосферу чисто театрального озорства и шуток.
Затем, уже в ленинградском театре, Яновская поставила «Вкус меда». Эта работа, очень характерная для времени и для ментальности тогдашнего молодого режиссера, стоит того, чтобы о ней сказать подробнее.
Спектакль очень точно и тонко передавал атмосферу мрачного десятилетия, человеческой неприкаянности, потерянности и одиночества. Английская пьеса, написанная автором из поколения «рассерженных молодых людей», у себя на родине была вызовом сытому и самодостаточному буржуазному обществу, которое ничего не хотело знать о том, что на его задворках обитают странные молодые люди, изгои и маргиналы, нуждающиеся в человеческом участии, заботе и любви. У нас эта пьеса в официальном смысле могла пройти под эгидой критики их нравов. Но по факту она была поставлена о нас. Только это не был вызов советскому истеблишменту. Такой дерзости наше молодое искусство тогда себе не позволяло. Спектакль Яновской был не вызовом, а скорее скрытым выражением боли, приглушенным стоном отчаяния, в его героях была очень ощутимая потребность в обретении любви, ответного чувства, в преодолении одиночества.
Поиск любви в условиях неласковой, равнодушной, а то и угрожающей советской реальности, по-моему, было главной темой Генриетты Яновской. Об уходе в любовь от грубой действительности она вслед за «Вкусом меда» поставит «Женитьбу Фигаро». Вообще, мотивы любви и одиночества будут и в более поздних спектаклях Яновской, вплоть до последних.
Здесь, во «Вкусе меда», играли актеры из Красноярского ТЮЗа, оставшиеся в Ленинграде в надежде обрести свой театр. Эля Осипова играла Джо, Владимир Рожин играл Джефри. В пространстве чердака (художник Э. Кочергин), темном и гулком, поселились двое странных молодых людей. Она, брошенная матерью, ожидающая ребенка от чернокожего, к которому она испытала то сильное и настоящее чувство любви, в коем так нуждалась. И он, нежный, женственный молодой человек, гей и отщепенец, старательно и неутомимо крутивший ручку швейной машинки, готовя распашонки для ребенка, появления которого на свет он очень ждал. И эта атмосфера покинутости молодых людей, неприкаянности и затерянности в большом мире наполняла спектакль печалью и болью.
Это был очень ленинградский спектакль. Потому что в Ленинграде существовал андеграунд, гораздо более представительный, чем в Москве. В центральных кафе города, знаменитых «Сайгоне» и «Ханое», в любое время дня и вечера можно было встретить бедно, но причудливо и даже вызывающе экстравагантно одетых молодых людей, очень похожих на персонажей «Вкуса меда». Поэтому этот спектакль вписывался в городской пейзаж очень органично.
Яновская не принадлежала к маргинальной среде андеграунда. Она стремилась попасть в сферу официального театра. Но это не значило, что среда андеграунда ей была чужда или неизвестна. Настроения у молодых режиссеров, чувствующих себя на обочине официальной жизни, с андеграундом были схожи.
Итак, во «Вкусе меда» прозвучала тема преодоления одиночества и поиска любви, человеческой близости при общей неустроенности жизни, отсутствии твердой почвы под ногами. Надо еще добавить, что пьеса эта для советского театра была вовсе не простым орешком. Это не Розов и даже не Володин, которого впоследствии Яновская так любила ставить. Тут не было демонстрации ранней гражданской и человеческой зрелости розовских мальчиков, пусть даже переведенных в регистр увлечения поэзией и презрения к прозе жизни, как в спектаклях молодого Анатолия Эфроса. Тут все было без советского оптимизма. Тут мать бросала дочь и уходила к своему любовнику. Тут появлялся первый на советской сцене «голубой». Тут были странные неблагополучные люди. С точки зрения привычной советской конъюнктуры все это казалось недопустимым. Но с точки зрения той реальности, которая не попадала на страницы официальных газет, все это было правдой. Правдивость и честность в изображении жизни и людей Яновская сохранит на все последующие годы своей профессиональной жизни.
В спектакле впервые в Советском Союзе публично прозвучала музыка «Битлз» и «Deep purple». Это было громкое событие, которое, правда, не отмечала официальная пресса. Но на самом деле это было огромным завоеванием нашей сцены.
Яновская очень интересно рассказывала, как она достала эту музыку, как сидела в уголочке одной из странных ленинградских квартир, в которых обитали рокеры, имевшие большую коллекцию современной западной музыки. Она сидела, стараясь не привлекать к себе внимания, и слушала эту музыку, пытаясь войти в незнакомое для себя пространство, ощутить его вкус и ритмы. Здесь она и нашла записи «Deep purple», которые зазвучали в финале ее спектакля.
А некто Коля Васин, тоже фанат западной музыки, дал ей бесценные по тем временам пластинки «Битлз», которые она бережно, опасаясь потерять или испортить понесла в БДТ, чтобы сделать профессиональную запись для сцены.
У поколения Генриетты Яновской были свои идеалы, несмотря на то что действительность, в которой жило это поколение, казалось, не способствовала вере во что-то хорошее. И все-таки именно общая неустроенность и изгойство содействовали тому, что люди искали близости и старались обрести ее. Семидесятники тоже, как и их старшие товарищи, учителя и наставники, стремились к компанейскому существованию. Но они уже не считали, что их компания–это все общество, как считали шестидесятники. Компании семидесятников были более замкнутые, гораздо менее представительные, но тоже обладающие чувством общности и поиска единомышленников. По существу, это были компании одиноких людей, о которых потом, уже в 80-х, расскажет Анатолий Васильев в спектакле «Серсо». Компанией одиноких людей можно было назвать и маленькую компанию персонажей из «Вкуса меда».
Несмотря на весь этот минор как основу мироощущения семидесятников, Генриетта Яновская как представительница этого поколения вовсе не обладала хмурой, замкнутой натурой. Напротив, она была очень жизнерадостным, общительным человеком, который щедро дарил свою заботу окружающим. Кого только не было в их с Камой квартире, людей самого разного сорта, и знаменитых, и не очень, и тех, кто уже состоялся в жизни и не нуждался в опеке, и тех, кто в жизни пробивался с трудом, еле стоял на ногах, но имел при этом какие-то творческие претензии. Некоторых Гета просто селила у себя и становилась для них наставницей, помощницей и просто добрым, неравнодушным человеком. Так, довольно продолжительное время в квартире Геты и Камы жил начинающий драматург Саша Попов, личность странная, маргинальная. Позже он заболел шизофренией и покончил с собой–вполне ленинградская история того времени, можно сказать, типичная история для среды ленинградского андеграунда. Так вот, этот Саша Попов, проживая в квартире Геты и Камы, писал свою чуть ли не единственную пьесу, которая тоже рассказывала о ленинградских маргиналах и называлась «Потом, потом, потом…». Гета помогла Саше эту пьесу закончить, и позже она какимто образом попала в БДТ, ее читала знаменитая Дина Шварц, товстоноговский завлит, и пьеса ей нравилась. Правда, тогда она не была поставлена. Но известный ленинградский критик Елена Горфункель позже, уже в 90-е годы, написала очерк о Саше Попове, который был опубликован в «Современной драматургии». Этот автор со своей практически единственной пьесой–очень характерная фигура для ленинградских 70-х.
А почему я вспомнила о Саше Попове и о его пьесе? Потому что в ней была запечатлена атмосфера жизни, очень похожей на жизнь персонажей «Вкуса меда». У нас тоже было свое поколение «рассерженных». Из московских авторов к ним относилась Петрушевская, живописавшая удушающий бедный советский быт и открывшая внутренние экзистенциальные конфликты в героях 70-х. Но наши «рассерженные», если пользоваться этой аналогией, в 70-е и 80-е годы практически не попадали на сцену. Пьесы Петрушевской ставили в основном по подвалам и в далекой провинции. Тем большим удивлением стало то, что пьесу молодого английского автора, труднопроходимую в советских условиях, все-таки увидели зрители Ленинграда, пусть не в центральном, а в маленьком областном театре, театре на обочине. Правда, справедливости ради следует сказать, что мы тогда ориентировались не только на большие театры типа БДТ, но и на театры не столь крупные, но способные воплотить тот материал, который большим театрам был уже не по зубам. Товстоногов уже не мог озаботиться проблемами брошенной в житейское море, лишенной опоры маргинальной молодежи. Ее проблемы были далеки от этого крупного художника. Ему были ближе личности, по советским меркам более зрелые, глубже укорененные в жизни, решающие более ответственные социальные задачи. Ниже проблем героев из «Пяти вечеров» Володина, тоже личностей отнюдь не героических, но переживающих свою социальную отверженность, в определенном смысле изгойство, Товстоногов не опускался. Но все-таки эти личности, худо-бедно, были встроены в советскую жизнь. Тамара не покладая рук работала на заводе. Ильин–шофером на Крайнем Севере. И по своей сути это были хорошие и честные советские люди. Только в прошлом Ильина была какая-то трагическая история, о которой драматург очень сдержанно и закрыто сообщал в ремарке. Написать открытым текстом, что Ильин был репрессирован, тогда было нельзя. Ильин хотел вернуться к нормальной жизни, к своей первой любви, вернуть себе человеческое достоинство. Это Товстоногову было понятно, и он поставил свой знаменитый спектакль «Пять вечеров», в котором Тамару и Ильина превосходно играли два замечательных ленинградских актера – З. Шарко и Е. Копелян. Но уходить за границы советского круга существования Товстоногов не мог. Это сумело сделать только следующее за шестидесятниками поколение. Оно хотело прорваться за колючую проволоку советских запретов. Поэтому в своих сверстниках из загнивающего капиталистического мира, как тогда выражалась советская пропаганда, они смогли увидеть схожие со своими проблемы.
Заботу и материнскую опеку Яновская, мне кажется, она перенесла и на своего мужа, теперь знаменитого режиссера Каму Гинкаса, и на актеров ТЮЗа, в который она придет главным режиссеров в 1987 году. Здесь она создаст хорошую труппу, откроет не одно актерское имя. И возьмет на себя все бремя административных, творческих и психологических забот. Гинкас так и останется одиночкой и индивидуалистом в своем творчестве. Яновская всегда отличалась от него своей деятельной неугомонной натурой, стремящейся учить, заботиться, опекать, проявлять любовь.
В режиссуре Генриетта Яновская пришла не со школьной скамьи. Она много где и кем работала до того, как решила поступать в театральный институт на курс к Товстоногову. В одном из интервью Яновская вспоминала: «После окончания школы меня разрывало между театром и математикой. Я пришла на консультацию в театральный институт, что-то такое сильное, страстное прочитала, и мне сказали–так же, как говорили сотням других абитуриентов,–про несоответствие внешних данных внутренним. В результате я закончила радиотехнический техникум. Моя специальность по первому диплому–“конструктор телевизионной и радиолокационной аппаратуры”. Дикое стремление к самостоятельности заставило меня попросить распределение куда-нибудь подальше от Ленинграда, и я уехала в город Ижевск, где работала на мотозаводе. У меня была секретность три «с»–«секретно совершенно секретно». Меня могли тогда пытать, выдергивать мне ногти–я бы ничего не рассказала, потому что понятия не имела, что у нас делали. Потом я работала на Карельском перешейке в поселке Ровное, сначала электромонтером, потом дежурным инженером пульта управления. Среди скал, озер, зимой, в резиновых сапогах, с постоянным бронхитом. У меня в подчинении было около двадцати пяти монтеров в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, а мне было двадцать. Они меня звали Генка, охраняли, замечательно ко мне относились. Потому что я, во-первых, с ними в клубе поставила какой-то скетч, а во-вторых, из Ленинграда я привозила книжки и читала им стихи. Я сейчас думаю, что они на меня смотрели как на сумасшедшую. Потом я работала полгода в НИИ в Ленинграде. Каждый день до пяти вечера я сидела на работе, ничего не делая. Это была пытка адская. Тогда я положила диплом в шкаф и ушла работать продавщицей в книжный магазин. У меня был замечательный отдел: литература, изобразительное искусство, история, философия. Я думаю, что я ничего в жизни не делала лучше, чем продавала книжки. Я продала все неликвиды. Потом, на вступительных экзаменах, на вопрос Товстоногова: “А почему книжный магазин?”–я объясняла: “Что может быть лучше, чем сочетание книг и людей? Если я не поступлю, я обязательно вернусь туда же”». Так что Яновская со студенческой скамьи уже обладала некоторым знанием жизни и пониманием людей. Все это не могло не пригодиться в профессии режиссера. У нее как у режиссера есть, на мой взгляд, два основополагающих качества–способность слышать время и знание человеческой психологии.
После «Вкуса меда» Яновская ездила в Псковский драматический театр, поставила там два спектакля: «Прощание в июне» А. Вампилова и «Женитьба Фигаро» П. Бомарше. На Бомарше я приехала с несколькими своими однокурсниками. Мы уже тогда не просто знали Яновскую, но считали ее ярким, интересным режиссером. «Женитьба Фигаро» была решена нетрадиционно. Тогда уже в полную силу процветал концептуализм, режиссер отвоевал себе полную свободу в обращении с классической пьесой. Самым интересным теперь становилась «трактовка», или «решение». Охранительный академизм, ставящий во главу угла автора пьесы, в то время сдал свои позиции. В Москве расцветало творчество Анатолия Эфроса, который как раз в 70-е создаст свои знаменитые постановки по классике с очень неожиданными трактовками.
Концептуализм предполагал в режиссере и сценографе наличие рационального, интеллектуального начала. Это было направление, в котором главным было общее решение, концепция. Яновскую никогда нельзя было упрекнуть в излишнем рационализме. Как-то Кама Гинкас в своей беседе с критиком Натальей Казьминой, к сожалению, рано умершей, говоря о своей жене Гете Яновской, рассуждал о женской и мужской режиссуре. Он говорил, что мужская режиссура–это режиссура целого, а для женской больше характеры частности, детали. Наверное, действительно Яновская–представитель женской режиссуры. Но, на мой взгляд, это проявляется прежде всего в умении работать с актером. Правда, мы знаем и некоторых режиссеров-мужчин, которые в превосходной степени обладают этим умением. И все-таки… Женщина-режиссер все решает изнутри человека и, соответственно, актера. Спектакли Галины Волчек, к примеру, всегда отличались этим качеством. Она давала почти неограниченное пространство для актерской игры и гораздо меньше при этом заботилась об общем решении. Генриетта Яновская тоже высказывается в большей степени через актера. Они понимает актеров превосходно и умеет находить и выращивать таланты. Она как бы идет в режиссуре снизу. А вот Кама Гинкас как будто «вставляет» актера в уже готовое решение, рисунок. Так же, кстати, работает и Валерий Фокин. И уже от степени таланта актера зависит, возьмет он ту высоту, которую предлаает режиссер, или нет. Если это крупный самобытный актер, получается превосходный результат. Если актер слабый, роль садится. Яновская действует как будто изнутри актера. Поэтому в ее спектаклях всегда так много превосходных ролей.
В «Женитьбе Фигаро» она заняла своих актеров, приехавших из Красноярска, затем занятых в ленинградском «Вкусе меда»,–Э. Осипову и В. Рожина. Она играла Сюзанну, он–Фигаро. Обе роли были превосходны. Графа играл тоже очень интересный псковский актер, выпускник ленинградского театрального института, С. Мучеников. Все были молоды, обаятельны и с помощью полнокровной, обращенной к актеру режиссуры в полную силу раскрыли свои таланты.
Основная тема спектакля–тема ухода от действительности, в которой невозможно себя реализовать. Эта тема была связана с Фигаро, который в этом спектакле был умным, даже талантливым человеком. Но именно в силу ума и таланта он был обречен. Единственное, в чем он видел выход, была любовь Сюзанны. Он надеялся, что брак с этой девушкой придаст его жизни тот недостающий смысл, который так нужен любому человеку.
Тема ухода от действительности, от любой из форм жизненной, социальной активности в контексте 70-х означала одно–неверие. Все напрасно, ничто не сулит перспектив, жизнь, в сущности, проиграна, как скажет вампиловский Зилов, герой, появившийся в драматургии тоже в переломную эпоху, когда начавшаяся в стране реакция лишила интеллигенцию выхода. Таково было чувство очень и очень многих. Не думаю, что Яновская, выстраивая новую систему отношений в классической комедии, имела в виду мотивы, родственные Вампилову. Общность рождало время.
Нет, конечно, не стоило понимать буквально, что все, о чем повествуется в этом спектакле, является прямой моделью советской действительности. Яновская хотела рассмотреть эту тему несколько шире. О сложности реализации таланта вообще. Действительно, это тема на все времена. И дело, может быть, не только в зажимах советской власти. И тем не менее то, что эта тема появилась у молодого режиссера в 70-е годы, было симптоматично. Хочешь не хочешь, но она была созвучна времени. Настроениям эскапизма, социальной подавленности, психологического стресса оттого, что человеческая личность оказалась зажатой в тиски. Выход в этой ситуации тогда был только один–принять законы игры, стать в полную меру советским человеком, пойти на компромисс. Но та группа творческих или вообще интеллигентных людей, к которым принадлежала Яновская, были нонконформистами, ни о каких компромиссах с действительностью тут не могло быть и речи.
Из комедии Бомарше Яновская сделала драму, хотя в спектакле было много живых, смешных моментов. Но все-таки драму, заключавшуюся в том, что Фигаро в результате предавали самые близкие его люди. Возлюбленная Сюзанна, затем граф Альмавива, лучший друг Фигаро, человек, тоже далеко не глупый и хорошо понимающий, что почем. Он не раз говорил Фигаро, что тот с его умом мог бы далеко продвинуться в жизни. Продвинуться? «Шутить изволите»,–неизменно отвечал Фигаро, абсолютно не веривший в такую возможность. В графе была только одна черта, которая у Фигаро вызывала досаду. Граф любил произносить фразу «Я так хочу». И эта фраза водружала между ними стену. В ней можно было усмотреть и каприз богатого синьора, и самодовольство эгоистичного человека. «Я так хочу», и точка. Дружбе, равенству–конец.
Этот спектакль производил очень свежее впечатление. И за счет необычности решения хрестоматийной классической комедии. И за счет легкости и юмора, чего здесь было много. И за счет актерской игры–тоже легкой и умной, вызывающей массу ассоциаций. Спектакль, в сущности, рассказывал о современных молодых людях. Ничего специфически французского и исторического тут не было. Ритмы, лексика, пластика, атмосфера–все дышало современной жизнью.
Два спектакля, «Вкус меда» и «Женитьба Фигаро», даже если бы у Яновской больше ничего не было, уже бы создали ей имя. И ввели ее в круг современной думающей режиссуры. Эти спектакли–уже история театра, и история весьма показательная. Мало кто из режиссеров в молодости выглядел столь бескомпромиссно и брал столь чистые ноты. Конечно, у Яновской, вслед за ее героем Фигаро, после всего этого было мало перспектив реализации в большом театре. Честность, бескомпромиссность обрекали молодого профессионала на тот же самый эскапизм, уход от действительности.
Но у Яновской на самом деле была деятельная и живая натура. Ей не давали хода в профессиональном театре. Она открывала самодеятельный, который назывался «Синий мост», и ставила тут то, что хотела. Любимым автором для нее становился А. Володин. Она в одном из интервью говорила о том, что ей казалось в Володине ценным: «…это внезапное, просто оглушительное отношение к человеку! Для советской драматургии действительно невероятное внимание к просто человеку, его судьбе. Не лозунги, не хорошая или плохая работа, а просто судьба! Особенно женские судьбы». Внимание к «просто человеку» было свойственно именно советской драматургии со времен оттепели. Именно оттепель вернула театру человечность, обратила внимание на обыкновенных людей, но тогда верили в то, что каждый, буквально каждый, кого мы можем встретить в толпе на улице, уникален и талантлив. Таланты в людях и умел открывать Александр Володин. Отсюда–то бережное, любовное чувство к героям, которое и отличало этого автора. Именно это чувство привлекало к нему режиссера Яновскую. Человеческая боль, человеческие чувства–все это казалось ей важным и интересным.
Острым социальным режиссером Генриетта Яновская не стала. Свой социальный пафос она позднее перенесет на общественную деятельность, не связанную с театром, когда вместе с Гинкасом будет подписывать письма за освобождение политзаключенных, поздравлять сидящего в тюрьме Ходорковского с днем рождения, с присуждением ему литературной премии, писать ему и по другим поводам, в общем, поддерживать и выражать ему свою солидарность; выступать на различных публичных митингах и говорить о человеческом и гражданском достоинстве. Но это будет уже в Москве в 2000-е годы, когда она возглавит ТЮЗ и приобретет прочное имя в режиссуре.
Гражданская смелость, а иначе это качество не назовешь, была привита ей, очевидно, с молодости. В молодости она, так же как и многие ее сверстники, хорошо понимала, в какой стране живет. И чего только не претерпели граждане этой страны за славные десятилетия советской истории. Больше всего ее сверстники и единомышленники ненавидели времена культа. И те потери, которые понесли интеллигенция и представители старого мира, пусть даже они соглашались служить новой эпохе, не могли оставить равнодушными очень и очень многих, кто вырос и сформировался в более спокойные, но не менее коварные брежневские времена. Тогда уже не сажали всех подряд, но расправлялись с самыми заметными, лидерами литературного, политического, научного сообщества. Поэтому не случайно в одном из лучших спектаклей Яновской–в «Собачьем сердце» по М. Булгакову–была тема доносов и НКВД.
Театральное поколение Яновской с самого начала не рассматривало свои переживания и ощущения как сугубо личное дело. Они были задеты страной, социальное начало жило в них, как жило оно в Льве Додине, тоже ненавидевшем тоталитаризм. Как жило оно в ее муже и соратнике Гинкасе, который в молодости вообще не мог удержаться от скрытой антисоветчины. Это была даже своего рода игра, но игра опасная. Расплачиваться за свои убеждения в молодости приходилось безработицей, безденежьем, чувством безнадежности. Но в более зрелые годы, в постсоветские времена гражданские убеждения уже проявлялись более свободно. Хотя и в начале ХХI века были свои «но», могли возникнуть осложнения. Гражданская смелость по-прежнему была по силам только отдельным наиболее бесстрашным личностям. Каждый делал свой выбор самостоятельно. Яновская сделала тот выбор, который сделала.
У Генриетты Яновской есть одна черта, которая отличает ее человеческую индивидуальность. Это непримиримость, идущая от чувства справедливости. Так же точно, как она расправилась с трамвайным хамом, назвавшим ее мужа жидовской мордой, она расправлялась и с людьми, уважаемми и обличенными даже определенной властью, но, правда, в более спокойных обстоятельствах. Так она боролась против попыток чиновников и экономистов, окружавших Германа Грефа, которые пытались закрепить за театрами несвойственные им коммерческие функции. Она очень боялась, что театры превратятся в сферу обслуживания наряду с ресторанами, кафе и ночными клубами. Она боялась и потому на собрании СТД вела себя бурно, выходила на трибуну и била наотмашь. Говорила, почти не выбирая выражений, почти кричала. Да, она была доведена до крайности. Она была готова драться.
А рассуждая о своей профессии, по-прежнему спокойно настаивала на том, что ей интереснее и важнее всего человек и его человеческая жизнь, а вовсе не политика. «Я не люблю политический театр, я не люблю политических высказываний на сцене. Мы занимаемся человеком, мы занимаемся тем, что внутри человека, из чего состоит человек и каким образом он входит во взаимоотношения с миром. Но впрямую отражать политическую ситуацию на сцене мне всегда казалось неинтересным»,–говорит Яновская.