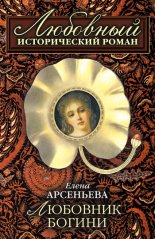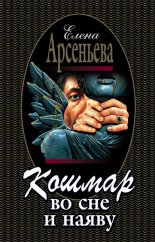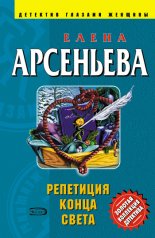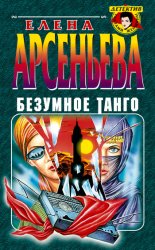Ужин Кох Герман

Не так давно Мишел написал сочинение по истории на тему смертной казни. Поводом к работе послужил документальный фильм про убийц, которые, отсидев положенный срок, возвращаются в общество и тут же совершают новое убийство. Свое мнение в фильме высказывали сторонники и противники смертной казни. Один американский психиатр утверждал, что некоторых людей вообще нельзя выпускать на свободу. «Нам следует принять тот факт, что среди нас есть настоящие чудовища, — сказал психиатр, — которым ни при каких условиях нельзя смягчать меру наказания».
Спустя несколько дней первые наброски сочинения Мишела лежали на столе. На обложку своей работы он поместил скачанную из Интернета фотографию кресла, на котором приговоренным к высшей мере наказания в некоторых американских штатах делают смертельную инъекцию.
— Если я чем-то могу тебе помочь… — бросил я, и через какое-то время он показал мне первый черновой вариант.
— Скажи, можно такое сдавать? — спросил Мишел.
— Почему нет?
— Не знаю. Иногда я думаю о таких вещах… я не уверен, что так вообще можно думать.
Черновик произвел на меня впечатление. Пятнадцатилетний Мишел смотрел свежим взглядом на различные аспекты преступлений и связанных с ними наказаний. Ряд моральных дилемм он продумал досконально. Я понял, почему он в принципе сомневался в допустимости некоторых своих мыслей.
— Очень хорошо, — сказал я, возвращая ему работу. — Я бы на твоем месте не волновался. Ты имеешь право на собственную точку зрения. Не следует уже сейчас жать на тормоза. Ты предельно ясно излагаешь свои соображения. Придраться не к чему.
С того дня он давал мне читать все последующие версии. Мы обменивались мнениями о нравственном выборе. О том периоде я сохранил наилучшие воспоминания.
Меньше чем через неделю после того, как Мишел сдал свою работу, меня вызвали к директору школы. Мне позвонили и пригласили прийти побеседовать о моем сыне, назначив день и час. По телефону я расспросил о подробностях предстоящей встречи, хотя, конечно, подозревал, что речь пойдет о сочинении Мишела, но директор не стал распространяться о причине вызова. «Я бы хотел кое-что с вами обсудить, однако это не телефонный разговор», — сказал он.
В назначенный день я нарисовался в директорской приемной. Директор пригласил меня сесть напротив него за письменный стол.
— Я бы хотел поговорить с вами о Мишеле, — начал он без обиняков.
Я подавил искушение ответить: «Ну о ком же еще!» — закинул ногу на ногу и принял позу внимательного слушателя.
На стене над его головой висел большущий плакат какой-то международной организации помощи, то ли Оксфордского общества помощи голодающим, то ли ЮНИСЕФ; на нем — сухой, потрескавшийся клочок земли, явно неплодородной, а в нижнем левом углу ребенок в лохмотьях протягивает воображаемому зрителю тощую ручонку.
Плакат заставил меня держать ухо востро. Директор наверняка противник глобального потепления и несправедливости в целом. Возможно, он не ест мяса млекопитающих и не любит американцев, во всяком случае Буша. Последнее обстоятельство дает право больше вообще ни о чем не заботиться. Если ты против Буша, значит, с тобой все в порядке и ты волен вести себя с окружающими как тебе заблагорассудится.
— До сих пор мы были весьма довольны Мишелом, — сказал директор.
В кабинете неприятно пахло — не потом, скорее мусором, точнее, пищевыми отходами, которые выбрасывают в «зеленый» контейнер. Я не мог отделаться от ощущения, что запах исходит от самого директора; может, он не пользуется дезодорантом, оберегая озоновый слой, или, может, жена стирает его одежду порошком, щадящим окружающую среду; как известно, белое белье от этого со временем становится серым — во всяком случае, белизну оно теряет навсегда.
— Однако недавно он написал сочинение по истории, которое нас немного обеспокоило, — продолжил директор. — Учитель истории, господин Халсема, обратил внимание на эту работу и попросил меня разобраться.
— О смертной казни, — уточнил я, чтобы разом прекратить это хождение вокруг да около.
Директор поднял на меня свои серые, лишенные всяческого выражения глаза — скучающий взгляд человека заурядных умственных способностей, полагающего, что он в этом мире уже все познал.
— Верно, — подтвердил он, принявшись листать какие-то бумаги. «Смертная казнь» — увидел я знакомые белые буквы на черной обложке с изображением кресла. — Речь идет в основном о следующих отрывках, — сказал директор. — Вот: «… учитывая, сколь бесчеловечно осуществление смертной казни государством, невольно задаешься вопросом, не лучше ли некоторых преступников гораздо раньше…».
— Вы можете мне не зачитывать, я знаю содержание этой работы.
По выражению лица директора можно было догадаться, что он не привык, чтобы его перебивали.
— Ага, значит, вы ее читали?
— Не только читал, но и помогал ее сочинять. Небольшими советами. Большую часть мой сын, разумеется, написал сам.
— Однако вы, очевидно, не сочли нужным дать ему надлежащий совет в отношении раздела, который я назвал бы «осуществление самосуда»?
— Нет. Но я возражаю против такого термина.
— Как же вы тогда это бы назвали? Ваш сын однозначно высказывается в пользу лишения жизни подозреваемых, не дожидаясь справедливого судебного процесса.
— Но он также говорит о бесчеловечности смертной казни. Бездушная медицинская процедура, приводимая в исполнение государством. С помощью инъекционной иглы или электрического стула. Об ужасающих подробностях последней трапезы смертника, которую он вправе выбрать сам. Любимое блюдо напоследок, будь то шампанское с черной икрой или двойной гамбургер из «Бургер Кинга».
Я оказался перед выбором, с которым рано или поздно сталкивается каждый родитель: в своем желании вступиться за собственных детей все же не следует их защищать слишком рьяно. Учителя выслушают все ваши доводы, а потом отыграются сполна на вашем же ребенке. Сколь бы ни были убедительны приведенные вами аргументы (что не так уж сложно), расплачиваться в конце концов придется ребенку — учителя выместят на нем свой гнев от поражения в дискуссии с вами.
— Мы все так считаем! — сказал директор. — Любой нормальный, здравомыслящий человек считает смертельную казнь негуманной. И Мишел очень хорошо это описал. Но меня волнует та часть, где он, вольно или невольно, оправдывает ликвидацию подозреваемых прежде, чем доказана их вина.
— Я считаю себя нормальным и здравомыслящим. Я тоже считаю смертную казнь жестокой карой. Но, к сожалению, в этом мире мы живем с жестокими людьми. Должны ли эти жестокие люди, после того как им скосили срок за хорошее поведение, возвращаться в общество? Вот что, по-моему, Мишел имеет в виду.
— Значит, их можно без суда и следствия расстреливать или, как тут написано, — он пролистал сочинение, — «выбрасывать из окна»? Из окна десятого этажа полицейского участка, по-моему. Такое обращение с человеком, мягко говоря, не принято в правовом государстве.
— Нет, вы вырываете его мысли из контекста. Речь идет о самой страшной человеческой породе, Мишел говорит здесь о насильниках-педофилах, об извращенцах, которые годами держат детей у себя в подвалах. Кроме того, есть и другие важные факторы. Во время суда вся эта грязь выплывает наружу во имя «честного судебного разбирательства». А кому это надо? Родителям этих детей? Этот ключевой момент вы упускаете. Нет, цивилизованные люди не выбрасывают друг друга из окон. И у них по чистой случайности не выстреливает пистолет во время перевозки преступника из полицейского участка в тюрьму. Но мы говорим здесь не о цивилизованных людях. Мы говорим здесь о людях, после смерти которых все с облегчением вздыхают.
— Да, так там и написано. Случайно пустить подозреваемому пулю в лоб. В полицейском фургоне. Теперь вспомнил. — Директор положил сочинение обратно на стол. — Это тоже был один из ваших «советов», господин Ломан? Или ваш сын дошел до этого своим умом?
Что-то в его тоне заставило меня вздрогнуть; в тот же миг я почувствовал покалывание в кончиках пальцев или, точнее, я вообще перестал их чувствовать. Я насторожился. Конечно, мне хотелось похвалить работу Мишела — ведь она куда умнее, чем этот вонючий субъект по ту сторону стола, однако я должен был оградить моего сына от издевательств в будущем. А его могли временно отстранить от уроков или вообще выгнать из школы. В то время как Мишелу нравилось в этой школе, здесь у него были друзья.
— Наверное, это я своими убеждениями частично спровоцировал его на подобные мысли, — сказал я. — Я обычно не стесняюсь в выражениях насчет того, как следует поступить с подозреваемым в том или ином виде преступления. Возможно, в какой-то степени, осознанно или нет, я навязал Мишелу свою точку зрения.
Директор посмотрел на меня изучающим взглядом, насколько можно назвать изучающим взгляд человека с низким уровнем интеллекта.
— Только что вы утверждали, что большую часть работы Мишел написал сам.
— Верно. При этом я имел в виду в основном те фрагменты, где рассказывается о бесчеловечности приводимых государством в исполнение смертных приговоров.
Исходя из опыта, я знал, что, беседуя с недалекими людьми, лучше всего врать напропалую, предоставляя этим тупицам возможность отступить, не потеряв лица. К тому же я действительно не помнил, что в работе о смертной казни было навеяно моими рассуждениями, а что сочинил сам Мишел. Помню наш разговор за столом об убийце, всего на несколько дней вышедшем из тюрьмы и уже, судя по всему, снова кого-то пришившем. «Таких вообще нельзя выпускать на волю», — сказал тогда Мишел. «Нельзя отпускать на волю или нельзя держать в тюрьме?» — переспросил я. С пятнадцатилетним Мишелом мы обсуждали любые вопросы, он проявлял интерес ко всему: к войне в Ираке, терроризму, ситуации на Ближнем Востоке — в школе эти темы обходят, считал он. «Что ты имеешь в виду? Как это нельзя держать в тюрьме?» — спросил он. «То и имею, — ответил я. — Именно то, что сказал».
Я посмотрел на директора. Этот слизняк, уверовавший в глобальное потепление и возможность полного прекращения войн и несправедливости на земле, скорее всего, полагает, что насильники и серийные убийцы поддаются лечению; что после нескольких лет болтовни с психиатром их можно аккуратно возвращать в общество.
Директор, до сих пор сидевший вальяжно развалившись в своем кресле, наклонился вперед, положив на стол обе ладони с растопыренными пальцами.
— Если я не ошибаюсь, вы тоже работали в системе образования? — спросил он.
Покалывания в пальцах меня не обманули: когда обладатели низкого интеллекта чувствуют, что терпят фиаско в споре, они обращаются к любым доступным им средствам.
— Я несколько лет преподавал в школе, — сказал я.
— Это было в… не так ли? — Он произнес название школы, до сих пор вызывающее во мне смешанные чувства, точно название болезни, от которой ты вроде бы излечился, но которая в любой момент может обнаружиться в другой части твоего тела.
— Да, — подтвердил я.
— Вас тогда отстранили от уроков.
— Не совсем так. Я сам взял тайм-аут. Я сказал, что вернусь, когда ситуация нормализуется.
Директор кашлянул и взглянул на листок бумаги на столе.
— Но вы так и не вернулись. По сути, вы уже десятый год как безработный.
— Временно безработный. При желании я уже завтра смог бы устроиться на работу.
— Согласно информации, присланной мне из… ваше трудоустройство зависит от психиатрического заключения. А отнюдь не от вашего желания.
И снова название той школы! Я ощутил, как дернулись мышцы под левым глазом, что другие запросто могли принять за нервный тик. Поэтому я притворился, будто мне что-то попало в глаз, и принялся отчаянно его тереть, тем самым лишь усугубив мышечные спазмы.
— Чушь, — сказал я. — Чтобы работать по профессии, мне не требуется разрешение психиатра.
Директор снова уткнулся в листок бумаги.
— Но здесь сказано обратное. Здесь написано…
— Можно мне взглянуть на этот документ? — Мой голос прозвучал резко, требовательно и недвусмысленно.
Тем не менее директор не сразу удовлетворил мою просьбу.
— Позвольте мне сперва договорить, — сказал он. — Несколько недель назад я случайно наткнулся на бывшего коллегу, в настоящее время работающего в… Точно не помню, почему речь зашла о вас — по-моему, мы говорили о колоссальной нагрузке в системе образования в целом. О переутомлении и связанных с этим нервных расстройствах типа синдрома эмоционального выгорания. Он упомянул имя, показавшееся мне знакомым. Сначала я не понял откуда. Но потом вспомнил о Мишеле. А затем и о вас.
— У меня никогда не было синдрома эмоционального выгорания. Это новомодная болезнь. И переутомления тоже не было.
Теперь директор принялся усиленно моргать, что при всем желании нельзя было назвать тиком — только признаком внезапной слабости. Или еще точнее — страха. Возможно, я неосознанно поменял интонацию — последние фразы я произнес нарочито медленно, медленнее, чем предыдущие, — и у директора замигали его сигнальные лампочки.
— Я и не говорю, что у вас был синдром эмоционального выгорания, — сказал он, барабаня пальцами по столу.
Он снова заморгал! Да, что-то изменилось. Менторский тон, которым он пытался навязать мне свои малодушные теории о смертной казни, исчез.
Теперь, помимо запаха пищевых отходов, я чуял еще кое-что: страх. Так же как собака чует, что ее боятся, я обонял едва уловимый кисловатый запашок, которого прежде не было.
Думаю, что именно в тот момент я поднялся — точно не вспомню, провал в памяти. Не помню, было ли еще что-то сказано. Я поднялся со стула и посмотрел на директора сверху вниз.
Все, что происходило потом, объяснялось исключительно разницей в высоте: директор по-прежнему сидел и был уязвим, я же стоял, возвышаясь над ним. Вернемся к собакам: долгие годы хозяин кормит их и ласкает, а они служат ему верой и правдой, но в один прекрасный день хозяин спотыкается на улице и падает, и тут собаки набрасываются на него, вонзают свои зубы ему в горло и загрызают намерть. Иногда еще и разрывают на мелкие кусочки. Это инстинкт: падение — признак слабости, то, что лежит на земле, — добыча.
— Я настоятельно прошу вас позволить мне взглянуть на этот документ, — сказал я исключительно для проформы, указывая на листок бумаги, прикрытый теперь рукой директора. Для проформы, потому что путь назад был отрезан.
— Господин Ломан, — успел произнести он.
После чего я ударил его кулаком в нос. Тут же хлынула кровь, много крови: она вытекала из его ноздрей, разбрызгиваясь по рубашке и столу, пачкая пальцы, которыми он ощупывал свой нос.
Между тем я обогнул стол и снова съездил ему по физиономии, чуть ниже, почувствовав боль в костяшках от его сломанных зубов. Он выкрикнул что-то неразборчивое, а я тем временем вытащил его из кресла. Несомненно, кто-то отзовется на его крик, через полминуты дверь директорского кабинета распахнется, но за полминуты можно учинить разгром, я полагал, что этой полминуты мне хватит с лихвой.
— Грязная, вонючая свинья, — прошипел я, очередной раз вмазав ему кулаком в лицо и коленом в живот. И тут я просчитался, никак не предполагая, что у директора еще остались силы; я не ожидал встретить сопротивление, планируя избивать его, пока не нагрянут учителя и не положат конец этому спектаклю.
Но он молниеносно вскинул голову, попав мне в челюсть, руками обхватил меня за ноги и с силой дернул, так что я потерял равновесие и рухнул на пол.
— Черт! — выругался я.
Директор побежал не к двери, а к окну, открыл его и прокричал:
— Помогите! На помощь!
Но я уже успел вскочить и подлететь к нему. За волосы я оттянул его назад и с силой шмякнул головой о подоконник.
— Мы еще не договорили! — крикнул я ему в ухо.
На школьном дворе толпилось много народу, в основном учащиеся. Наверняка была перемена. Все они смотрели наверх — на нас.
Я сразу заметил мальчика в черной шапочке; в этой толчее было приятно увидеть родное лицо. Он стоял чуть поодаль, у лестницы, ведущей к главному входу, в компании нескольких девушек и парня на скутере. На шее у мальчика в черной шапочке висели наушники.
Я помахал ему — это я хорошо помню — и попробовал улыбнуться. Я хотел дать ему понять, что потасовка наверху вовсе не так страшна, как может показаться со стороны. Просто у нас с директором возникли кое-какие разногласия по поводу сочинения Мишела, которые мы уже почти разрешили.
41
— Это был премьер-министр, — сказал Серж, садясь за стол и пряча мобильник в карман. — Он хотел уточнить содержание завтрашней пресс-конференции.
Один из нас мог бы сейчас спросить: «Ну? И что ты ему ответил?» Но все словно воды в рот набрали. Иногда, вопреки своему обыкновению, лучше промолчать. Если бы Серж рассказал анекдот, начинающийся, к примеру, с вопроса: «Почему китайцы никогда не ходят к парикмахеру вдвоем?» — то, скорее всего, повисла бы точно такая же тишина.
Мой брат взглянул на свой десерт, который, видимо, из вежливости до сих пор не унесли.
— Я ему ответил, что не хотел бы сегодня раскрывать содержание пресс-конференции. Он выразил надежду, что ни о чем серьезном речь не идет. Что я, например, не собираюсь отказываться от участия в выборах. Он так и сказал: «Мне было бы искренне жаль, если бы вы сейчас, за семь месяцев до выборов, сошли с дистанции».
Серж попробовал сымитировать манеру речи премьер-министра, но шарж получился неудачным.
— Я честно ответил, что еще обсуждаю этот вопрос с семьей и оставляю пространство для маневра.
Стоило премьер-министру вступить в должность, как он стал предметом шуток — по поводу его внешности, его суконных речей, его бесчисленных промахов. Однако постепенно к нему привыкли. Как привыкают к пятну на обоях.
— О, интересно! — сказала Клэр. — Значит, ты оставляешь пространство для маневра. А я-то думала, ты уже все решил. И за нас тоже.
Серж искал взглядом глаза жены, но та рассматривала свой мобильник, лежащий перед ней на столе.
— Да, я оставляю пространство для маневра, — вздохнул он. — Я хотел бы, чтобы мы приняли совместное решение. Как единая семья.
— Как мы всегда это делали, — сказал я.
Я вспомнил сгоревшие спагетти карбонара, кастрюлю, которой я запустил ему в голову, когда он попытался увезти от меня сына, но воспоминания Сержа были, по-видимому, не столь мрачными, потому что его лицо вдруг расползлось в приветливой улыбке.
— Да, — сказал он и посмотрел на часы. — Мне действительно… нам пора. Бабетта… счет еще не принесли?
Бабетта встала.
— Да, пошли, — сказала она и повернулась к Клэр. — Вы тоже идете?
Клэр подняла полупустую рюмку граппы.
— Идите. Мы вас догоним.
Серж протянул Бабетте руку. Я думал, что Бабетта проигнорирует этот жест, но она оперлась на его руку и даже предложила Сержу взять ее под локоть.
— Мы можем… — сказал он и улыбнулся. Он прямо-таки сиял, поддерживая жену за локоть. — Мы еще вернемся к нашему разговору. Пропустим в кафе по стаканчику и поговорим.
— Хорошо, Серж, — сказала Клэр. — Мы с Паулом допьем граппу и присоединимся к вам.
— Счет, — сказал Серж, похлопав по карманам пиджака в поисках кошелька или кредитной карточки.
— Не надо, — сказала Клэр. — Потом рассчитаемся.
И они ушли. Я смотрел им вслед, пока они двигались в сторону выхода. Мой брат под руку с женой. Лишь горстка гостей обернулась, когда они проходили мимо. Очевидно, к нему уже начали привыкать: после долгого здесь пребывания его лицо успело примелькаться.
Из открытой кухни вынырнул мужчина в белой водолазке — Тонио. Наверняка по паспорту он Антон. Серж и Бабетта остановились, чтобы раскланяться. Официантки торопились подать пальто.
— Ушли? — спросила Клэр.
— Почти, — ответил я.
Допив граппу, Клэр накрыла рукой мою ладонь.
— Ты должен что-то предпринять, — сказала она, легонько сжав мои пальцы.
— Да, — сказал я. — Мы должны его остановить.
Клэр обвила пальцами мою ладонь.
— Остановить его должен ты, — сказала она.
Я посмотрел на нее.
— Я? — спросил я, почувствовав, что не смогу отказать ей в просьбе.
— Ты должен ему помешать, — сказала Клэр.
Я не сводил взгляда с Клэр.
— Предприми что-нибудь, так чтобы завтра он не смог появиться на пресс-конференции, — сказала Клэр.
В этот момент где-то поблизости запищал мобильный телефон. Сначала едва слышно, а потом все громче и громче, так что писк перетек в мелодию.
Мы вопросительно переглянулись и одновременно покачали головами — наши телефоны молчали.
Под салфеткой на столе лежал мобильник Бабетты. Непроизвольно я бросил взгляд в сторону выхода: Серж и Бабетта ушли. Я протянул руку, но Клэр меня опередила.
Сдвинув крышку, она прочла на дисплее имя звонившего. Затем снова закрыла крышку. Мелодия оборвалась.
— Бо, — сказала она.
42
— Его маме сейчас не до него, — сказала Клэр и положила мобильник на прежнее место, даже снова прикрыв его салфеткой.
Я промолчал. Я ждал, что скажет моя жена.
Клэр вздохнула.
— Знаешь, что этот… — Она не закончила предложение. — О Паул! Паул…
Она запрокинула голову. Ее глаза увлажнились и заблестели, не от горя или отчаяния, но от злости.
— Знаешь, что этот?.. — повторил я.
Весь вечер я полагал, что Клэр ничего не известно о видеороликах. Я все еще надеялся, что окажусь прав.
— Бо их шантажирует, — сказала Клэр.
Я ощутил ледяной укол в грудь. На всякий случай я растер щеки, чтобы Клэр не заметила, как я покраснел.
— Каким образом? — спросил я.
Клэр снова вздохнула. Сжав кулаки, она забарабанила ими по столу.
— О Паул, — сказала она. — Я молила Бога, чтобы ты ничего не узнал. Мне не хотелось, чтобы ты снова… расстроился. Но сейчас уже поздно.
— Как это Бо их шантажирует? Чем?
Из-под салфетки раздался писк. На этот раз одиночный. С боковой стороны телефона Бабетты замигал голубой огонек — видимо, Бо оставил голосовое сообщение.
— Он утверждает, что был там. Он говорит, что сначала поехал домой, но потом передумал и вернулся. И застал их там. Он видел, как они выходили из кабины банкомата. Это его слова.
Лед в моей груди растаял. Теперь я испытывал почти радость и чуть не расплылся в улыбке.
— А теперь он требует от них денег. О, этот маленький мерзавец! Я всегда… Ты тоже? Ты когда-то признался, что он тебе отвратителен. Я это хорошо помню.
— А доказательства у него есть? Чем он докажет, что действительно их видел? Что именно Мишел и Рик бросили эту злосчастную канистру?
Я задал этот вопрос, чтобы окончательно себя успокоить: fi nal check.[15] В моей голове приоткрылась дверца, за которой забрезжил свет. Теплый свет. В комнату со счастливой семьей.
— Нет, у него нет доказательств, — сказала Клэр. — Да они и не нужны. Если Бо заявит на Мишела и Рика в полицию… Отснятые кадры хоть и нечеткие, но если сравнить зафиксированных на них людей с живыми…
«Папа ничего не знает. Вы должны сделать это сегодня вечером».
— Мишела ведь не было дома, когда ты ему звонила? — спросил я. — Когда ты все тормошила Бабетту насчет времени?
Клэр улыбнулась. В очередной раз взяла мою руку и сжала ее.
— Я ему звонила. Вы слышали, что я с ним разговаривала. Бабетта — мой независимый свидетель, слышавший, что в такой-то час я беседовала по телефону с моим сыном. В памяти моего телефона они могут проверить факт и даже длительность этого разговора. Единственное, что нам осталось сделать, — это стереть мои слова с автоответчика нашего домашнего телефона.
Я посмотрел на свою жену. В моем взгляде, несомненно, прочитывалось восхищение. Не показное. Я и в самом деле был восхищен.
— А сейчас он у Бо, — сказал я.
Она кивнула.
— Вместе с Риком. Но не у Бо дома. Где-то на нейтральной территории.
— А о чем они собираются с ним говорить? Постараются убедить его не заявлять в полицию?
Теперь Клэр держала мою руку в обеих своих руках.
— Паул, — сказала она. — Я уже сказала, что не хотела втягивать тебя в это дело. Но сейчас уже ничего не изменишь. Речь идет о будущем нашего сына. Я посоветовала Мишелу образумить Бо. А если не получится, то пусть сделает то, что считает нужным. Мне даже не надо знать, что именно. На следующей неделе ему исполняется шестнадцать. Ему не обязательно во всем слушаться мать. Он достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно.
Я уставился на свою жену. Возможно, мой взгляд снова вспыхнул восторгом. Но теперь это был восторг другого рода.
— В любом случае лучше стоять на том, что Мишел целый вечер просидел дома, — сказала Клэр. — И Бабетта сможет это подтвердить.
43
Я подозвал метрдотеля.
— Мы ждем счет, — сказал я.
— Господин Ломан уже все оплатил, — сказал метрдотель.
Может, мне показалось, но метрдотель произнес это с особенным удовольствием. Как бы насмехаясь надо мной.
Достав мобильник из сумки, Клэр взглянула на дисплей и положила его обратно.
— Невероятно, — сказал я, когда метрдотель удалился. — Он отбирает у нас наше кафе. Нашего сына. А теперь еще и это. То, что он может оплатить счет, еще ничего не значит.
Клэр взяла мою правую руку, а затем левую.
— Тебе стоит его всего лишь поранить, — сказала она. — Он не станет устраивать пресс-конференцию с разбитым лицом. Или со сломанной рукой в гипсе. Слишком многое придется объяснять. Даже Сержу это не по плечу.
Я посмотрел в глаза своей жене. Только что она попросила меня сломать руку моему брату. Или изуродовать ему лицо. И все это из-за любви. Из-за любви к нашему сыну. Ради Мишела. На память пришла одна немецкая мать, которая много лет назад застрелила убийцу своего сына прямо в зале суда. Такой же матерью была Клэр.
— Я не принимал таблетки, — сказал я.
— Да. — Клэр, похоже, не удивилась и провела кончиком пальца по тыльной стороне моей ладони.
— Уже давно. Уже несколько месяцев.
Это была правда. Сразу после передачи «Внимание: розыск!» я прекратил пить лекарства. Мне казалось, что я не смогу помочь моему сыну, если мои эмоции день и ночь будут снивелированы лекарствами. Мои эмоции и мои рефлексы. Если я хочу полноценно поддержать Мишела, то мне для начала следует обрести свое прежнее «я».
— Я знаю, — сказала Клэр.
Я снова в недоумении на нее уставился.
— Ты, наверное, думаешь, что никто этого не замечает, — сказала Клэр. — Но твоя жена заметила сразу. Кое-какие вещи… изменились. То, как ты на меня смотрел, как ты мне улыбался. А помнишь, как ты не мог найти свой паспорт? И начал колотить ногами по ящикам письменного стола. Когда ты уходил из дому, ты брал таблетки с собой, но потом выбрасывал их по дороге. Правда же? Однажды я вытащила из стиральной машины твои брюки, а карман в них окрасился в синий цвет. От таблеток, которые ты забыл выкинуть, — Клэр рассмеялась, но тут же снова приняла серьезный вид.
— И ты ничего не сказала, — вздохнул я.
— Вначале я спрашивала себя: чего он хочет добиться? Но в какой-то момент я снова увидела моего старого доброго Паула. И тогда я поняла, что хочу вернуть его окончательно. Пусть даже он и пинает ящики стола. Или мчится в погоню за скутером, если тот выныривает прямо перед его носом…
«Или калечит директора школы», — мысленно договорил я за Клэр. Но она этого не сказала. Она сказала другое:
— Это был Паул, которого я любила… Которого люблю. Больше всех на свете.
Я увидел, как блеснули уголки ее глаз, и едва не прослезился.
— Тебя и Мишела, конечно, — сказала моя жена. — В равной степени. Вы оба делаете меня счастливой.
— Да, — сказал я. Мой голос звучал хрипло. Я откашлялся. — Да, — повторил я.
Несколько секунд мы молча сидели друг напротив друга, мои руки все еще в руках моей жены.
— Что ты сказала Бабетте? — спросил я.
— В смысле?
— В саду. Во время прогулки. Бабетта, похоже, обрадовалась, завидев меня: «Паул, дорогой…» Что ты ей тогда сказала?
Клэр глубоко вздохнула.
— Я сказала ей, что ты сорвешь пресс-конференцию.
— И Бабетта не против?
— Она хочет, чтобы Серж победил на выборах. Но ее сильно обидело, что он поделился с ней своим решением лишь в машине по дороге в ресторан. Чтобы не оставить ей шанса его отговорить.
— Хотя только что за столом она еще заявляла…
— Бабетта умна, Паул. Серж не должен ничего заподозрить. Вполне возможно, что очень скоро Бабетта в качестве супруги премьер-министра будет разливать суп в приюте для бездомных. Но судьба одной конкретной бездомной ее не заботит — точно так же, как тебя и меня.
Я высвободил руки из рук моей жены и теперь взял ее руки в свои.
— Это не самая удачная мысль, — сказал я.
— Паул…
— Нет, послушай. Я вернул себе свое «я». Я не принимал лекарства. Пока об этом знаем только мы с тобой. Но этот факт обязательно выплывет наружу. Школьный психолог, мой уход с работы или директор школы Мишела… Кто угодно может засвидетельствовать мое состояние. Не говоря уже о моем брате. Серж первым заявит, что отнюдь не удивлен моим поведением. Ведь его младший брат уже и раньше покушался на его жизнь. У его младшего брата болезнь, от которой он должен принимать лекарства. А вместо этого он спускает их в унитаз.
Клэр молчала.
— Я не смогу заставить его отступиться, Клэр. Мои действия будут истолкованы превратно.
Вместо того чтобы подмигивать, я выдержал паузу.
— Мне не стоит этого делать, — сказал я после секундной паузы.