Музыка для богатых Рогоза Юрий
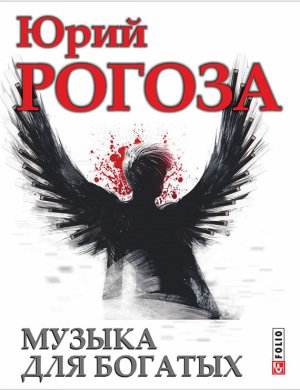
– Ага! Значит, он все-таки существует, старик Копейкин! Ты сам только что признал!..
– Ты сиськами-то не тряси на радостях! Одно слово – баба! Чему радуешься-то?.. Нет никакого Копейкина, я так, образно!..
Никите не очень хотелось показываться на глаза странным незнакомым людям, но коварный Циммершлюз куда-то пропал, а простоять весь вечер на лестнице, слушая малопонятные разговоры, было бы совсем дико. Он, сделав глубокий вдох, преодолел последние ступеньки и, выйдя на ровное место, интеллигентно кашлянул.
Вершина той самой огромной таблетки, на которую он поднялся, выглядела еще футуристичнее, чем все остальное в пентхаусе. Идеально круглая и подходящая совсем близко к круглой сфере застекленного купола, она была так похожа на нос звездолета, что здесь вполне можно было бы снимать фильмы о космических путешествиях будущего. Видимо, именно поэтому неизвестный дизайнер сделал все, чтобы ее очеловечить, – часть таблетки, отведенная под просторную кухню-гостиную, в которой, собственно, Никита и оказался, была обставлена старинной деревянной мебелью, мягкими креслами и большим столом под белой скатертью, отчего кухня теряла сходство с командным отсеком звездолета и становилась похожей на уютную ночную палубу роскошного парохода.
«“Титаника”…» – сразу невесело решил Никита. Сходство усиливалось тем, что остальная, неосвещенная, часть таблетки была скрыта мраком, и Никите даже показалось, что он услышал доносящийся оттуда плеск воды.
«Все еще глючит, зараза…» – с раздражением подумал он.
– А, привет-привет, – произнес бодрый антисемит-русофил, оказавшийся совсем молодым (ненамного старше самого Никиты) плечистым парнем с лицом русского витязя, сбрившего бороду. – А то жидяра сказал, что у нас новый сосед, а сам сгинул куда-то… – Он протянул Никите крепкую и широкую, как лопата, руку. – Иконников. Виктор Петрович. Для своих – просто Витек.
– Никита. Бугров… – ответил Никита и снова кашлянул. В горле першило – не то от волнения, не то от плохого микеринского кокаина.
– А по отцу тебя как?
– Иванович.
– Во! – искренне возликовал Витек. – Наш парень, расейский! Ты – Иваныч, я – Петрович, кто не с нами – Рабинович!! Присаживайся, Никита, в ногах-то правды нет. Хотя, – помрачнев, добавил он, – при нынешних жидовских порядках ее нигде не сыщешь…
«Интересно, как он при таких взглядах с Циммершлюзом уживается?» – успел удивиться Никита, стараясь выдавить из себя бледную улыбку.
Если внешне Витек, одетый в простую черную футболку и старые джинсы, выглядел вполне обычно, то его собеседница, сверлящая Никиту недобрым взглядом, была одновременно похожа и на похотливую дворовую девку, и на злую колдунью из американского фэнтези-фильма. Ее лицо казалось блеклым и бесформенным, крупное грудастое тело закрывало мышиного цвета рубище, спутанные пепельные волосы были кое-как стянуты грязной резинкой, а на почти мужском запястье красовались краснозвездные командирские часы на потертом ремешке. Она курила самую настоящую папиросу, а на столе перед ней стоял недопитый стакан чая в подстаканнике.
Загадочный третий продолжал что-то бормотать, согнувшись в углу около плиты. Никита только краем глаза видел его покатую спину.
«Все-таки нужно было еще разок нюхнуть…» – запоздало решил он.
– А тебе говорили, Иваныч, что ты на педика похож? – цикнув зубом, спросила деваха, и Никита мучительно покраснел – в который уже раз за этот бесконечный день.
– Он не педик, – раздалось от лестницы. – Совсем даже наоборот. За что и пострадал… Шолом, дамы и господа.
Появившийся на странной кухне Марик выглядел буржуазно до неприличия и напоминал мафиози в часы отдыха – на нем был короткий серо-бежевый халат с почти незаметным значком «Версаче» на нагрудном кармане, а под халатом – свободные домашние брюки такого же цвета. Дополняли картину чуть надменная белозубая улыбка, аккуратно зачесанные назад влажные черные волосы и едва уловимый, но несомненный аромат дорогого одеколона.
– И вообще, хватит на парня наседать, у него сложный день был, – продолжил Марик, приблизившись к столу. – Уже познакомились, нет? Тогда давайте по-быстрому, есть хочется. Никита Бугров, натурал-интеллигент, по профессии – музыкант. А это, – он положил одну руку Никите на плечо, а другую элегантно вскинул, обводя кухню, – наш маленький дружный кагал. Витя Иконников, черносотенец и тварь, но в глубине души – хороший парень. Или наоборот, я еще сам толком не разобрался…
К Никитиному удивлению, Витек ничего не сказал, лишь улыбнулся с благодушной иронией.
– Это, – Марик указал на хмурую мясистую девку в рубище, – Шон Эванс. Англичанка, выбравшая свободу…
– Я не англичанка, а валлийка, мог бы уже и запомнить, – выдохнула та вместе с едкой струей папиросного дыма. – А вообще-то я русская. И звать меня Шуркой…
– Язык и нравы изучала в Ивановском педучилище, – невозмутимо продолжал Марик. – Имени товарища Фурманова, между прочим. Хотя, судя по манерам, не так в самом училище, как в его общежитии на улице все того же товарища Фурманова… В Москве проживает по фальшивому молдавскому паспорту, выданному на фамилию Пештеряну, что в переводе значит «не рви занавеску»…
– Хоть бы ты не пиздел, Марик, – Шон Эванс сплюнула на пол и небрежно вытерла рот ладонью. – И без того тошно, вон Витька все настроение обосрал… А паспорт у меня – настоящий, ты не хуже меня знаешь. Я только фотокарточку переклеила…
Марик повернулся ко все еще согнутой над плитой спине третьего незнакомца.
– Уважаемый зарин, можно вас отвлечь на секунду?
– Та я вже йду, – прозвучало в ответ, и Никита увидел невысокого плотного дядьку с добрым круглым лицом, одетого в спортивный костюм с надписью «Байер Мюнхен». – Усе, як то кажуть, готовченко…
Голос Марика зазвучал почтительно и даже торжественно.
– А это, Никита, сам великий шаман средней и северной Бурятии Харалдай Ех-Анур Тэмдег-Зарин. Слышал, наверное? К нему пол-Москвы на прием ломится. Но позволить себе могут только избранные…
– Та ладно, шо ты, Марик, у самом деле… – благодушно смутился дядька и протянул руку. – Здоров, Никита, сидай, вечерять пора…
– В самом деле, нас сегодня кормить будут или как? – Марик произнес это с шутливой строгостью, но Шон Эванс вдруг, тряхнув грудями, сорвалась с места и начала суетливо, но очень умело накрывать на стол.
Совсем крохотная часть мозга, сохранившая способность трезво оценивать реальность, начала нашептывать Никите, что все происходящее: матерящаяся Шон Эванс, фашист Витек, похожий на прораба-украинца великий шаман с непроизносимым именем и Циммершлюз в пижаме от Версаче, сидящие за столом под стеклянным куполом небоскреба, – не что иное, как подлая и продуманная до мелочей мистификация, затеянная, чтобы окончательно свести его, Никиту, с ума, но сил сопротивляться не было.
– Между прочим, я обещал Никите виски с икрой, – аристократично сообщил присутствующим Марик.
– Да завязывай, Циммершлюз, – протянул Витек. – Давай поедим, как нормальные люди. У нас сегодня щи, каша демидовская, шаньги с мясом… Зря, что ли, Шурка горбатилась?
– Знаешь, Витек, давай ты это говно будешь у себя на слетах хлебать. Деревянной ложкой. Под победный звон балалаек. А в приличном доме и еда должна быть соответствующей…
– Ох и трудно с вами, жидами, – тяжело вздохнул Витек. – Ладно, Шон, икру тоже давай на стол, пища-то, в общем, русская, не потравимся. Только никакого виски, не на кагале!.. Я литруху «Смирновской» прикупил, в морозильнике стоит… – Он дружески хлопнул Никиту по плечу. – Не печалься, Никита Иваныч, сейчас по первой дерябнем – попустит…
По кухне, несмотря на огромное открытое пространство, уже носились удушливые капустно-мясные ароматы.
– Знаете, ребята, я что-то есть совсем не хочу, – с трудом произнес Никита. – Не обижайтесь…
Циммершлюз и Витек озадаченно переглянулись.
– Та шо ж цэ я, у самом деле… – вдруг виновато спохватился шаман в спортивном костюме. – Совсем сдурел! Я ж токо-токо свиженький бурхун-тэге сварганил! А цэ ж против стресса та других неприятностей – перше дело! – Он быстро встал, отодвинув стул. – Шон, доця, давай чашки. Оти, сами большие, ну, ты знаешь…
Шурка послушно поставила на стол несколько тяжелых глиняных пиал, но сама твердо сказала:
– Лично я водку буду. Много.
– А я подлечусь, – весело отозвался Витек. – Я твой бурхун-тэге, Харалдай, очень даже уважаю. Тем более – пятница, завтра на буржуя спину не гнуть… Да ты не напрягайся, Никит, это ж тебе не химия, которой негры славянский мир хотят извести! Народная медицина! От земли-матушки…
Бурхун, который Харалдай бережно разливал в пиалы, снова начав что-то тихо бормотать, был теплым, но не горячим, и уютно пах грибным супом и еще какими-то не то ягодами, не то неведомыми травами. Никита с минуту посидел, обхватив шершавые бока пиалы и вдыхая колдовской аромат.
«Дурман», – подумал он. Но не с опаской, а с радостным предвкушением чего-то доброго, а главное – очень нужного. Ну, дурман… И очень хорошо. Все лучшее, что успело случиться в его комканой, как старая газета, жизни, было дурманом – Настя, музыка… Бабушка – нет, она как раз дурманом не была, она была очень настоящая, его бабушка, маленькая аккуратная седая женщина с глазами озорной девчонки. Она – сомнений не было – сейчас сказала бы: «Пей, Никитушка, хорошие же люди угощают. Только гляди – потом расскажешь, как тебе было, договорились?..»
Циммершлюз и Витек уже сделали по большому глотку и задумчиво сидели, размышляя каждый о своем. Шон Эванс зажгла свечи в красивом старом подсвечнике и клацнула выключателем – лица сидящих за столом сразу сделались мудрыми и загадочными, а звезды за стеклянным куполом превратились в сплошной золотистый ковер, совсем как на заставке «Dolby Digial».
Никита сделал длинный тягучий глоток и закрыл глаза.
Но когда он их открыл, мир был прежним, ничего не изменилось. Марик и Витя по-прежнему задумчиво молчали. Украиноязычный шаман Харалдай вынул из кармана деревянные четки и, прикрыв глаза, медленно перебирал их пухлыми пальцами. Шон опрокинула очередную стопку водки и зачерпнула ложкой икры из стоявшей в центре стола хрустальной салатницы. Отблески свечей подрагивали на лицах и терялись во мгле пентхауса. Тихий шум воды стал еще слышнее, но теперь это не беспокоило Никиту, а наоборот – казалось очень понятным и естественным.
«Господи, как же все красиво…» – подумал Никита, чувствуя, что сейчас заплачет от благодарности – к Богу, к этим случайным, но таким родным людям, к бесконечному дню, который словно извинялся за все беды и боли, что принес с собой. Оказывается, мир только притворяется злым, а на самом деле он добрый, мудрый и красивый, и все будет хорошо – просто потому, что иначе и быть не может, это же так ясно…
Никита опустил глаза и увидел, что его пиала пуста, и это было странно, потому что он запомнил только первый глоток. Но даже будучи пустой, пиала была исполнена особого смысла. Этот смысл было очень просто понять, но невозможно объяснить. Да и зачем объяснять то, что всем ясно?..
– Вообще-то у нас здесь свои традиции, – негромко сказал Марик, закуривая свою черную сигарету и выпуская дым, который пламя свечей тут же превратило в облако золотой пыли, расползающееся над столом причудливым узором. – Каждый вечер посвящен одному из вас, по очереди…
– Сегодня вообще-то у нас игра в правду намечалась, – мягко возразил Витек. – Пятница же…
– Ой, я эту вашу правду, блядь, ненавижу!.. – рявкнула Шон, но – странное дело – Никита почувствовал не раздражение, а пронзительную, всепрощающую жалость к этой матерящейся, как уголовник, некрасивой тетке в рубище. И только сейчас заметил, что это самое рубище сплошь усыпано мелкой золотой пылью, словно оно сшито из мешка неведомого золотоискателя. В этом тоже не было ничего удивительного – тот же золотистый налет, оказывается, украшал все вокруг, причем Никита понял: так было всегда, он просто не замечал…
– Да, пятница, – согласился Марик. – Но сегодня с нами Никита, и это важнее, разве нет?
Никто не ответил, но все были согласны. Никита сам почувствовал это, как и то, что слова, оказывается, совсем не нужны, люди легко понимают друг друга без них.
– Расскажи нам свою жизнь, Никита, – Марик смотрел на него мудрыми добрыми глазами, в которых, подрагивая, жили огоньки свечей. – Ведь она стоит того, чтобы о ней рассказать…
К этой минуте мир открылся окончательно, стряхнув с себя пустоту и злобу, которые совсем недавно казались его сутью.
«Конечно же… Конечно, друзья… Спасибо, что попросили… Моему миру тесно во мне, да и зачем он вообще нужен, если его никому не показывать? Даже Господь создал закат лишь для того, чтобы люди любовались им. А звездное небо – чтобы мы не грустили, когда закат уходит… Того, чем мы не делимся, не существует. А зачем нужно то, что не существует?.. Конечно же я хочу вам рассказать себя… Слушайте…»
Никита вдруг понял, что не говорит вслух, а просто громко и отчетливо думает. И испугался, что не может произнести ни звука. Но испугался лишь на миг – так было даже лучше. Легче и честнее. Честнее и понятней. Почти как музыка…
И, сидя в абсолютной тишине погруженной в золотой полумрак кухни-палубы, Никита Бугров начал думать, думать, думать, думать свою жизнь…
***
Он не чувствовал себя сиротой.
Хотя после смерти родителей еще долго – лет до десяти – постоянно рисовал горящие самолеты на клетчатом небе школьных тетрадок.
Но эти рисунки были непроизвольной реакцией детской души, вдруг постигшей, что люди умирают, и не просто люди, а даже самые родные, и не от старости, а от страшных и неожиданных вещей, например, от загоревшейся в небе груды железа.
Но когда Никита склонялся над очередным листком с двумя карандашами – синим и красным (другие были ему не нужны), то чувствовал не тоску по жившим-жившим и вдруг исчезнувшим папе и маме, как, наверное, думали обеспокоенные учителя, а ту самую детскую смесь ужаса и восторга, которая каждый раз заставляла его вскидывать голову, когда он слышал гул очередного пролетающего высоко в небе лайнера. В такие минуты Никита с замиранием сердца мечтал о том, чтобы огромная летающая машина загорелась у него на глазах, беспомощно накренилась и с ревом полетела к земле, оставляя за собой черный дымный след…
Но об этом Никита не рассказывал никому, даже бабушке. Он был умным мальчиком.
А острого, ранящего душу сиротства он не чувствовал по причине вполне объяснимой – с самого раннего детства он жил с бабушкой, и родители – молодые, счастливые и свободные – приезжали к ним на выходные, как радостные ожидаемые гости – с кучей подарков, билетами в приехавший на гастроли цирк и неизменной стопочкой рублей, которую бабушка аккуратно прятала в верхний ящик старого комода.
Конечно, Никита помнил запах маминой кожи и блузки, помнил, какими могучими казались плечи отца, когда он, пятилетний и восторженный, сидел на них во время праздничного салюта, но, наверное, этого было мало, чтобы мир стал пустым и ненужным, когда папы и мамы не стало.
Другое дело – бабушка. Без нее, наверное, мир рухнул бы за одну секунду. Но бабушка – живая, добрая и любимая до слез – была рядом. Поэтому и с миром ничего не случилось.
Воспитывать Никиту – в привычном дурацком смысле этого слова – было не нужно. Он рос вежливым, сообразительным и в меру послушным мальчиком. Неплохо учился, пропадал с мальчишками во дворе, читал книжки и смотрел мультики.
Когда он учился в третьем классе, бабушка отвела его в музыкальную школу, и почти сразу выяснилось, что у мальчика «есть способности». Но даже сольфеджио, музыкальная грамота, нудные гаммы и этюды Шопена не смогли испортить детство Никиты, уютное, распахнуто-свободное, пахнущее листвой заросших палисадов и кострами на берегу Волги.
Только повзрослев, Никита смог оценить бытовой подвиг бабушки. Сразу после гибели родителей она продала их совсем новый «форд» (в те годы это была дорогая и престижная машина), а трехкомнатную родительскую квартиру в районе Юность разменяла на три однокомнатные, которые постоянно сдавала – то студентам, то командировочным, то переехавшим в Тверь молодым семьям. Поэтому Никита рос, чувствуя себя не беднее и не богаче своих друзей и одноклассников.
А потом он повзрослел. Произошло это в восьмом классе. Голос его, попускав несколько месяцев смешные петушиные трели, зазвучал низко и грубовато, под носом появилась полоска редких темных волос, а мысли все чаще и чаще приобретали совершенно определенное направление.
Тогда бабушка и решила едва ли не в первый раз поговорить с ним «серьезно». Вернее, говорила она как раз подчеркнуто несерьезно, то и дело со смущенной улыбкой запинаясь, как девочка, и понижая голос, словно их могли подслушать. Но этот разговор Никита запомнил на всю жизнь.
– Никита, родной, давай с тобой договоримся, – сказала тогда бабушка. – У тебя сейчас начнется самое интересное время в жизни – первые влюбленности, барышни, приключения… Ну, ты меня понимаешь… Давать тебе советы я не собираюсь – во-первых, юность не слушает старческих советов, и правильно делает, а во-вторых, откуда мне знать, как вы сейчас живете? У каждого поколения свои грешные радости… Поэтому я прошу тебя об одном, – золотистые глаза бабушки в этот миг были очень молодыми, девичьими, и в них прыгали озорные весенние огоньки. – Рассказывай мне все, что с тобой будет происходить, ладно? Я имею в виду – вообще все…
– Ба, да ты что! Я, наверное, не смогу… – пробасил потрясенный Никита и мучительно покраснел. Краснел он столько, сколько себя помнил, и сколько помнил, ненавидел себя за это.
– Нет, ну так не пойдет! – бабушка заговорщицки нагнулась к нему. – Послушай, должна же быть в мире хоть какая-то справедливость! Ты себе даже не представляешь, Никитушка, как много разных вещей прошло мимо меня. Твой дедушка, он… был очень строгим человеком. А сам взял и умер в сорок два года, совсем молодым, ты знаешь… И я осталась с твоей мамой. А потом появился ты… В общем, жуть – одни сплошные заботы и ответственные решения, представляешь? А ведь нам, девчонкам, хочется совсем другого!.. – Бабушка смущенно хохотнула, совсем как его одноклассницы, когда говорили что-то стыдное, но приятное. – Сама я уже ни на что не гожусь, это ясно. Зато смогу все почувствовать через тебя, понимаешь?..
Никита ничего не понимал. Онемевший от неожиданности, он слушал бабушку с пылающими щеками и глупо разинутым ртом.
– А что это ты так удивляешься? – улыбнулась она, тоже порозовев от радостного волнения. – Ведь обидно же прожить жизнь дурой, которая не испытала и половины всех радостей, которые положено!
– А кем положено, бабуль? – неуверенно спросил Никита.
– Как – кем? Господом Богом, конечно! – не задумываясь, ответила бабушка и протянула ему ладонь с красивыми длинными пальцами. – Ну что, слово?!
Чувствуя, что он делает что-то очень неправильное и глупое, о чем не раз пожалеет, Никита пожал протянутую руку. Бабушкины глаза сверкнули молодым огнем.
– Только не говори никому, – понизив голос, прошептала она и улыбнулась. – А то еще решат, что я – старая извращенка, а ведь это неправда… Я же не виновата, что у меня молодая нерастраченная душа!.. – И уже совсем по-другому, спокойно, добавила: – А насчет музыкальной школы, Никит, решай сам, ты уже взрослый…
О музыкальной школе бабушка упомянула не просто так. За два последних года Никита из лучших ее учеников превратился в законченного троечника и кандидата на отчисление. Его ругали за неправильную аппликатуру и нечеткое построение музыкальных фраз, несоблюдение нюансов и провисание рук. И это было особенно обидно, потому что ему казалось – он только начал по-настоящему понимать и чувствовать музыку. А главное – любить.
Самый жуткий скандал разразился, когда завуч Татьяна Максимовна застала Никиту за роялем в пустом вечернем классе. А ведь он оказался там совсем случайно. Ему просто вдруг захотелось прикоснуться к клавишам и подумать в одиночестве. Проходя по коридору, он увидел приоткрытую дверь, силуэт инструмента в полумраке класса, вошел, сел, поднял крышку и начал негромко играть одну из прелюдий Рахманинова. Как только прозвучали первые звуки, на душе стало легко и приятно, и Никита подумал об однокласснице Нине Шестаковой, которая вчера при расставании вдруг поцеловала его в щеку, вспомнил, как хорошо было на Волге, куда они с ребятами ездили в субботу вечером, затем начал представлять себе, как они пойдут на день рождения к Юрке Орлову из «Б» класса…
Вспыхнувший внезапно свет заставил его вздрогнуть и прищуриться. Пальцы на клавишах замерли сами собой.
– Что это?! Я спрашиваю: что это за мерзость?! – Обычно спокойную и даже приятную женщину крупно трясло, она не говорила, а орала, брызгая слюной.
– Да нет… Я просто… – попробовал объяснить Никита, но завуч не дала ему договорить, вдруг забившись в истерие.
– Молчать!! Прекратить!! Хам!.. Как ты вообще посмел!! Как ты мог?!! Вон отсюда!.. Из школы – вон!!
Двадцать минут назад Татьяна Максимовна, придя домой, застала своего мужа, подполковника в отставке, с молодой любовницей, стройной и бесстыжей продавщицей Наташкой, живущей по соседству, поэтому, собственно, не находя себе места, и вернулась в школу, бродя теперь по темным коридорам в злобно-истеричном состоянии. Но Никита-то этого не знал. Поэтому всерьез расстроился и вернулся домой задумчивым и грустным…
А через два дня, в пятницу, его вызвали на педсовет. Звучали слова «глумление», «надругательство», «вандализм»… Стоящий с виновато опущенной головой Никита не знал, что ответить сидящим за длинным столом неестественно серьезным взрослым людям, вдруг ставшим официальными и очень чужими. А потом ему велели подождать в коридоре…
Через минуту из-за двери вынырнул учитель сольфеджио Борис Анатольевич, не по возрасту быстрый, взлохмаченный. Схватил Никиту за рукав, оттащил в сторону, к окну, поднял прячущиеся за густыми бровями молодые глаза…
«Сейчас велит покаяться», – устало подумал Никита.
Но старик, пристально глядя ему в глаза, произнес совсем другое:
– Никита, дорогой, послушай меня, пожалуйста… Из всего, что наговорили, я понял только, что у тебя есть своя музыка… Так?
Никита неопределенно пожал плечами. Своя музыка? А что это значит?..
– Так вот, послушай… – радостно и энергично продолжил Борис Анатольевич и махнул слабой рукой в сторону двери. – Чем бы вся эта говорильня не закончилась, наплюй, слышишь!..
– В каком смысле? – спросил сбитый с толку Никита.
– В прямом! Наплюй и живи себе дальше! И обязательно играй! Играй!.. Даже если они тебя выгонят! Подумаешь… Музыкальные школы заканчивают миллионы людей. А своя музыка есть у нескольких десятков в мире! Да и то я не уверен…
Тогда, в школьном коридоре, Никита так ничего и не понял. Из школы его не исключили. А Борис Анатольевич через три месяца умер от инфаркта…
Никита все чаще и чаще садился за клавиши, когда никто не слышал. Но теперь у него появилась еще одна страсть – мотоцикл…
Странно, раньше он вообще не обращал внимания на эти отвратительно жужжащие машинки, летающие по старым тверским улицам. И не понимал гордо-снисходительных взглядов, с которыми их обладатели неторопливо снимали шлемы, остановившись около кафе или школы, в которой училась подружка. А теперь он провожал восторженным взглядом каждый из них, кожей чувствуя, что мотоцикл – это свобода и молодость, это волшебство, дающее крылья…
Ездить он научился очень быстро, за два дня. Старая «Ява» Кольки Романова, доставшаяся тому еще от отца, была разбитой, как фронтовой грузовик, и не умирала только потому, что на ней брали первые уроки двухколесного мужества все новые и новые поколения тверских пацанов. Сделав на ней, грохочущей полуоторванным железом, несколько больших кругов по окрестным улицам, Никита понял, что раньше, до того как сесть в седло, не вполне жил, сам того не осознавая…
Бабушке он рассказал о мотоцикле так сдержанно, как только мог. Потому что был уже большим мальчиком и понимал – это дорого. Очень дорого. Слишком дорого…
…Из салона позвонили в день его шестнадцатилетия. Утром, часов в десять.
– Ба, ну ты что?! – даже сквозь запредельное, нахлынувшее космической волной счастье в душе Никиты прорвалось чувство жгучей вины. – Зачем?.. Я бы сам… Через пару лет…
Бабушка, стоя на пороге, смотрела на него с улыбкой. И казалась очень молодой.
– Ты продала что-то, да?! А вообще, что я спрашиваю, конечно же продала!.. Что-нибудь очень свое, да, ба?.. Самое дорогое и личное?! Слушай, давай я прямо сейчас в салон позвоню, а? Ребята не обидятся…
– Даже не вздумай…
Бабушка подошла и положила свою мягкую ладошку Никите на грудь, она часто так делала.
– Во-первых, не обижай меня. Сегодня очень важный день, и я к нему долго готовилась. А во-вторых, я бы полмира продала, лишь бы увидеть тебя таким, как сейчас… Когда-нибудь – потом, не скоро – ты сам поймешь, что главное счастье на свете – это радовать тех, кого ты любишь…
Такой вот она была, Никитина бабушка.
Жизнь окончательно стала счастьем. Пролетев над километрами окрестных дорог на верном «корейце», Никита возвращался домой и садился за инструмент, чтобы рассказать миру о своих радостях и мечтах. Бабушка ему не мешала. Застывшая на старом стуле в углу комнаты, задумчиво-внимательная, она, бабушка, была не в счет. От нее у Никитиной души не было секретов…
Иногда она даже не входила, а слушала музыку из соседней комнаты, через приоткрытую дверь.
– Ба, а тебе вообще… ну… нравится то, что я играю? – как-то решился спросить Никита, все время робко откладывавший этот разговор.
– Даже не знаю, Никитушка… – бабушка виновато потупилась. – Ты только не обижайся, ладно? Я просто так к твоей музыке привыкла… Вот ты играешь – и словно мы с тобой разговариваем! И еще кажется, я при этом такая молодая-молодая…
Потом была Настя. Настя…
Однажды Никита, катаясь, остановил мотоцикл возле стоявшей у дороги девичьей фигурки. Зачем? Просто так…
День был не по-весеннему жарким. Теплое, как хлеб, русское небо казалось необъятным и чуть тревожным. Работающие вдали женщины-крестьянки что-то напевали.
У нее было простое открытое лицо и синие, под цвет неба, глаза. Горячий ветер развевал пшеничные волосы. Она не улыбалась, но и не отводила глаз…
Никита выключил двигатель и слез с мотоцикла. Протянул руку, и девушка тут же протянула навстречу свою – крепкую, но трепетную, как подобранная с земли ласточка. Не сказав друг другу ни слова, они пошли, держась за руки, в тот уголок мира, где никого не было.
Книги и фильмы любят описывать, как неопытные любовники путаются в одежде, двигаясь робко и суетливо. Никита не помнит, куда делась их одежда. Да и была ли она вообще?.. Когда два юных тела сплелись, на планете Земля одновременно ударило десять тысяч молний. Боль и наслаждение было одним и тем же, просто раньше почему-то казалось, что это – разные вещи. Танец их тел длился вечно. У него, танца, не было ни имени, ни меры. А потом они оба на миг ослепли от золотого счастья и долго плакали, обнявшись, навзрыд, не сдерживаясь и не стесняясь, таким невыносимым было их наслаждение…
Даже сегодня, угрюмый и проклятый, повзрослевший от мерзостей мира, Никита не нашел слов для того, что было у них с Настей. Любовь? Но они совсем не знали друг друга. Секс? Он тогда вообще не очень понимал, что значит это короткое иностранное слово…
Она была его первой женщиной. Он – ее первым мужчиной. Они жили, только обнимая друг друга. Все остальное время их тела ныли от боли, как плохо зажившие раны, и требовали друг друга.
Никита не помнил Настиного голоса. Разговаривали ли они вообще? Наверное, да. Откуда-то же Никита знал, что ее зовут Настя, что она старше его (ей было восемнадцать), знал село, в котором она жила, потому что каждый вечер лихо отвозил ее туда на мотоцикле по разбитой грунтовке.
Никита не скрывал того, что с ним случилось, от бабушки. Он же дал слово.
– Ба, у меня теперь есть Настя, – глупо сказал он в первый же вечер, стоя посреди темной комнаты и не зная, что добавить.
Оставалось надеяться на бабушку – все его мальчишеские объятия и поцелуи она любила обсуждать долго и подробно, с нежным любопытством. Но сейчас, наверное, что-то почувствовала. Потому что ни о чем не спросила Никиту, лишь улыбнулась и вышла из комнаты, на ходу прикоснувшись мягкой ладошкой к его груди.
Они с Настей встречались каждый день. Они любили друг друга в стогах сена, в теплой, как одеяло, волжской воде, на лужайках перелесков… Два юных благодарных существа, задыхающихся от наслаждения и не знающих, что его можно стыдиться. Они не говорили о любви, но знали, что всегда будут вместе. Они ничего не знали друг о друге, но знали все.
Среда тогда не отличалась от воскресенья, а ливень от жары. Музыка перестала быть главным на свете, а мотоцикл был нужен лишь для того, чтобы доехать до стоявшей у обочины Насти…
Их было девятнадцать. Девятнадцать дней жизни Никиты Бугрова были отдельными от всех остальных, они состояли из Настиного пахнущего летом и счастьем тела и пролетающих, как одна секунда, ночей расставания.
На двадцатый колхозный трактор, подпрыгнув на повороте, рассыпал по дороге пол-ящика крупных ярко-желтых яблок. Летящий на «корейце» с Настей за спиной Никита успел заметить эти золотые шары смерти, но тормозить было поздно, а обогнуть все до одного – нереально, яблоки устилали асфальт плотным душистым ковром…
У Никиты было двенадцать легких переломов и сотрясение мозга. Он глаза открыл лишь через две недели, а пролежал в больнице три месяца.
Настя умерла сразу. Ее голова разлетелась на части, ударившись о придорожный бетонный столб…
Выйдя на крыльцо больницы через три месяца, Никита отправился не домой, а на могилу Насти. Руки и ноги не то чтобы болели, нет, просто казались немного чужими. Но все равно он шел очень долго, и когда добрался до старой покосившейся ограды, уже начинало темнеть.
– Ты куда это на ночь глядя собрался, паря? – спросил его ветхий дедушка с выцветшими глазами и погасшей папиросой в углу морщинистого рта, единственный, кто встретился по дороге. – Гляди, того… Про наше кладбище люди вона какие страсти говорят!.. Не приведи Господь, малую ведьму встретишь… Эй, паря, ты чего? Я ж тебе по-серьезу говорю… Небось, слыхал про нее, ну, которая за девок, что до срока померли, месть выдает?.. Стой! Да стой ты!.. Завтра лучше придешь, с утреца… Не буди лихо, пока оно тихо! Слышь, чего говорю-то?.. Ну, гляди, как знаешь…
Никита не знал, зачем пришел сюда, на совершенно чужое ему сельское кладбище. А его тело и душа не знали, как будут жить без Насти.
Наступил май.
Остывающая земля бесновалась от молодой силы.
Никита хватал ртом весенний воздух, пахнущий сиренью, жасмином и горем. Кресты и обелиски призраками проступали сквозь молодые заросли. Луна над головой была огромной и темной, как отравленный апельсин…
Узкая тропинка петляла между рядами могил. И Никита послушно пошел по ней, лунной и зовущей. И не ошибся.
Оградки не было. Холмик на Настиной могиле скрывала мешанина мертвых цветов, чужая сирень тянула к нему непрошеные душистые ветви, девушка на фотографии была живой и не похожей на его Настю…
Никита сел на старую покосившуюся скамейку и решил, что никогда не уйдет отсюда. Но, просидев так неизвестно сколько, вдруг услышал в темноте легкие шаги и вскинул голову, вглядываясь в темноту.
Она была здесь – напряженная, как струна, фигурка в детском платье, замершая в проходе между могилами. Но как только Никита заметил ее, резко отвернулась и быстро зашагала по золотистой от луны тропинке прочь, в чернеющие заросли. Обезумевший Никита бросился следом. Он бежал быстро, но детская фигурка никак не приближалась, продолжая маячить далеко впереди, словно заколдованная. И все же он догнал ее, упав на колени, схватил за худые, обтянутые ситцем плечи, развернул…
У нее было лицо тридцатилетней женщины. Губы напоминали косой шрам. Злые глаза не знали, что такое прощение.
Голоса невидимых ночных птиц все носились над старым кладбищем, над огромным, задыхающимся от весны миром и знали все о жизни и смерти…
Никита не произнес ни слова. Он, все так же стоя на коленях, рванул незнакомку к себе, обхватил руками, прижался к худому детскому телу, крупно вздрагивая от слез. Оглушенный и нездешний, он не просил у нее пощады. Он просил жалости и защиты, как ребенок – потерявшийся, осиротевший и напуганный.
Она не оттолкнула его. Но и не пошевелилась. Маленькая статуя в ситцевом платьице. Фея украденного женского счастья.
«Конечно же… Она никогда не сможет простить меня…» – со спокойным горем подумал Никита.
И тут фигурка пошевелилась. И заговорила. Ладошка, гладившая Никиту по волосам, была детская-детская, а голос – наоборот, очень взрослый, со скорбной хрипотцой…
– Как же ты с этим жить собрался? А?..
И она, вдруг резко оттолкнув Никиту, развернулась и шагнула в ночь. А он, рухнув спиной на землю, заорал – хрипло и оглушительно, как не кричал еще никогда в жизни. Ему казалось: он ослеп и умер от обрушившейся на него боли – огромной, как мир, и слишком страшной, чтобы существовать на самом деле.
Все еще лежа и зайдясь в вопле, Никита провел ладонью по груди, ожидая нащупать кровавое месиво.
Раны не было. Даже рубашка была целой.
Но еще не перестав кричать, он уже знал, что произошло. За миг до того, как исчезнуть, маленькая девушка с лицом тридцатилетней женщины с хрустом вонзила в его дергающееся в кровавой муке сердце толстый и узловатый сучок вечного проклятия…
***
Никита проснулся от того, что его душат, при этом жестоко, до боли, выкручивая правую руку. Происходило это в абсолютной темноте и почему-то под ритуальный бой барабанов. Чувствуя, что в глазах темнеет, Никита собрался с силой, захрипев, рванулся и… перевернулся на спину. Минуту или две он судорожно хватал ртом воздух, словно вырвавшийся на поверхность ныряльщик, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. Еще не до конца придя в себя, он уже понял, что лежит совершенно голый на огромной удобной кровати и, скорее всего, его никто не душил – просто он спал, уткнувшись лицом в мягкую подушку и неудобно заломив ту самую руку, по которой сейчас бегали миллионы невидимых мурашек. Барабанный бой, правда, не исчез совсем, но перестал быть оглушительно грозным и превратился в далекий непонятный звук, не имеющий к нему, Никите, никакого отношения.
А затем он вспомнил все… Дикую ссору в студии, свое блуждание по сумеречной Москве, неизвестно откуда взявшегося Микерина, таинственного Марика Циммершлюза, его странных квартирантов и ужин, вместо которого он выпил пойло, приготовленное хохлом – шаманом с непроизносимым именем, скорее всего – шизофреником.
Сейчас, по всем законам здравого смысла, ему следовало вскочить и немедленно бежать отсюда куда глаза глядят. Но – странное дело – бежать совершенно не хотелось. Наоборот, Никиту захлестнула волна давно забытых им чувств – покоя и уюта, и хотелось ему не бежать, а нежиться под одеялом, ощущая доброе послевкусие колдовского напитка, нашептывающее, что все очень хорошо и бояться в этом мире попросту нечего.
«Мне давно не было так хорошо, – неожиданно для самого себя сформулировал Никита. – С чего бы это?..»
И вдруг замер от радостного ужаса. Ему показалось, что проклятие, с которым он жил долгие годы, исчезло. Но это длилось лишь миг – он почти сразу же почувствовал, что проклятие, вросшее в душу колючим осиновым колом, никуда не делось, только загадочным образом сжалось и теперь было не больше карандаша. Но сидело на месте крепко. Мертво.
Никита, не вылезая из-под одеяла, огляделся. «Президентский люкс» при свете дня казался еще просторнее и буржуазней. Одежды нигде не было видно, поэтому Никита завернулся в тонкое одеяло и, встав, прошлепал босыми ногами по фигурному паркету. День был серым и угрюмым, но вид из окна все равно завораживал: бушующая Москва далеко внизу, словно фатой, была укрыта дымкой тумана и от этого непохожа на себя, казалась нежной и загадочной.
Посетив огромный, вымощенный мрамором туалет, Никита хотел было принять душ и почистить зубы, но подумал, что, не имея во что одеться, делать это нелепо. О том, кто его раздел и как именно это происходило, он старался не думать.
Поколебавшись еще пару минут, он приоткрыл незапертую дверь в коридор. Гул барабана стал заметно громче, только теперь к нему примешивались глухие выкрики. Стараясь двигаться бесшумно, Никита пошел н эти странные звуки по изгибающемуся коридору, но вскоре замер, увидев впереди огромного амбала в белой рубашке и черном костюме. Было совершенно непонятно, кто это такой и что он делает в пентхаусе Марика Циммершлюза, но спросить напрямую у Никиты не хватило смелости. Вместо этого он тихо прохрипел:
– Здрасьте…
Амбал не ответил, только без всякого удивления осмотрел завернутого в одеяло Никиту маленькими внимательными глазами и поправил полу расстегнутого пиджака. Никита малодушно побрел в обратную сторону. Пройдя метров двадцать, он снова остановился – из-за ближайшей двери доносились звуки, как ему показалось, оживленного разговора. Никита постучал. Не дождавшись ответа, постучал еще раз и деликатно приоткрыл дверь. А приоткрыв, окаменел на пороге.
За дверью была точно такая же квартира, как и та, в которой он проснулся, только мебель, кажется, была расставлена чуть по-другому. Впрочем, мебель как раз была ни при чем – Витек и Шон расположились прямо на полу в центре комнаты. Абсолютно голая Шон стояла раком (Никита с детства вздрагивал, слыша это отвратительное вульгарное слово) и, закатив помутневшие глаза, издавала восторженные утробные вопли, а бодрый Витек, победно взвившийся над ее телом, двигался азартно и весело. Он даже вскинул молодое румяное лицо и подмигнул Никите, прежде чем тот опомнился и шарахнулся назад, в коридор, захлопнув дверь. Сердце его снова бешено билось о грудную клетку, а от щек, наверное, можно было прикуривать. Поддернув сползающее с тела одеяло, он побрел назад, твердо решив отсидеться в «своей» комнате, но навстречу ему уже двигалась по коридору грозная фигура с рогами на голове, похожая обликом на беспощадного самурая из кровавого японского фильма.
«Господи, да что ж меня второй день глючит-то так?..» – обреченно подумал Никита, но по-настоящему испугаться не успел – фигура остановилась и стащила с головы огромную рогатую маску. Без нее шаман с прилипшими ко взмокшему лбу темными волосами выглядел трогательно, как актер провинциального ТЮЗа, вышедший в антракте перекурить, не снимая костюма.
– О, прывит, Никита, – как ни в чем не бывало произнес он и шмыгнул носом. – А шо цэ ты в одеяли бигаешь? Токо проснулся?
– Доброе утро, Харул… Извините, никак не могу запомнить ваше имя, трудное очень… – промямлил Никита.
– Харалдай, – без обиды подсказал шаман. – Но ты, пока то да се, зови меня Анатолий Макарович, так оно легче будет. Чи просто – Анатолий… – добродушно добавил он.
– Скажите, Анатолий, – Никита прокашлялся. – Вы случайно не знаете, где моя одежда?
– А шо, Шурка не постирала? – искренне возмутился Харалдай. – От ледачая девка! Тьфу… Ну ничого, пойдем, я тебе якись треники знайду, бо в одеяле ж – не дело…
– Нет, что вы, спасибо, не нужно… – торопливо пробормотал Никита.
Он с детства был болезненно брезгливым, но очень не хотел обидеть шамана Анатолия, который, несмотря на всю дикость происходящего, сейчас казался ему хорошим и очень добрым человеком.
– Ну як знаешь, – не стал настаивать тот. – А у меня прямо зранку цэй… клиет був. Фамилию говорить не буду, так, миллионер один… – Шаман тяжело вздохнул и сокрушенно покачал головой. – От бедолага… Зовсим душу занапастил! Сами астральни дыры… Хорошо хоть, шо до меня вовремя прыйшов…
– А вы что… помогли ему? – с робким недоверием спросил Никита.
– Ну а як же! – удивленно пожал плечами шаман. – Такэ скажешь, прости, Господи! Якый же зарин отпустит чоловика, шоб не помочь!.. Такого глава тридцати трех духов Утэ – Бабай ни за шо не простит! Ладно, выбачай, я это, до душа схожу, бо так бесов гонял, шо аж мокрый весь… А ты йди наверх, кофе попей, зараз, думаю, уси подтянутся…
И он, смешно переваливаясь, пошел по коридору, а Никита зашлепал вверх по знакомой лестнице.
От золотого ночного уюта наверху не осталось и следа. Из-за свинцового неба над столицей стеклянный купол казался выкрашенным грубой серой краской. А сама верхняя площадка оказалась намного больше, чем показалось Никите ночью. Уже знакомая ему огромная кухня занимала десятую ее часть, не больше. В нескольких метрах за кухней начинался большой бассейн. «Вот почему, оказывается, вода плескала!..» – с облегчением понял Никита. Рядом с бассейном возвышалась вешалка с кучей одинаковых махровых халатов, стояло несколько дорогих тренажеров, по виду которых почему-то сразу было ясно, что на них никто не занимается спортом, и несколько сиротливых пляжных шезлонгов.
Остальная поверхность «таблетки» зияла космической пустотой, хоть и была неизвестно зачем обнесена по периметру невысоким заборчиком с деревянными перилами.
Было странно, что Циммершлюз не соорудил там поле для гольфа с настоящей травой и маленькими электромобилями, было бы вполне в его духе.
Ходить в одеяле было очень неудобно, и Никита подошел к бассейну, надеясь найти хотя бы относительно чистый халат. К его удивлению, они все были нетронутыми и пахли химической свежестью прачечной. Он уже снял один, приблизительно подходящий по размеру, с никелированного крючка, как вдруг ему непреодолимо, резко и, главное, непонятно отчего захотелось врезаться всем телом в неподвижную поверхность воды. Таких простых и одновременно сильных желаний в Никитиной душе не возникало давно, поэтому он, не до конца осознавая, что делает, бросил халат прямо на пол и прыгнул в бассейн. Вода не обожгла его холодом, но и не была противно подогретой. Никита быстро доплыл до стенки, оттолкнулся и размашисто поплыл в другую сторону, недоумевая, откуда взялось это неудержимое ощущение свободы и счастья – бесконечного и лишенного тревог, какое бывает только в детстве. Он плыл все быстрее и быстрее, и не чувствовал усталости, и улыбался неизвестно чему, и вода пахла не хлоркой, а волжскими плесами, летом и дружбой, и с берега, размахивая руками и подпрыгивая, что-то кричали пацаны-соседи…
Чудо исчезло так внезапно, что Никита чуть не утонул, глотнув воды и мучительно закашлявшись. Все снова было прежним. Он, совершенно голый, застыл в центре чужого бассейна на чужой крыше, залитой отвратительным светом хмурого дня, а с кафельного берега ему махали руками не друзья из залитого солнцем детства, а Витек и Шон. Оба явно приготовились купаться. Витек – худой и жилистый, как уголовник, был в похожих на семейные трусы плавках. Полное и упругое тело Шон прикрывал допотопный ситцевый купальник с перекрученными лямками.
Никита попытался неловко прикрыть интимное место, снова глотнул воды и закашлялся. Квартиранты-любовники рассмеялись.
– Не парься, братан, что естественно – не безобразно, – цикнув зубом, выдал Витек и со скрипом потянулся, раскинув мускулистые руки. – Эх, мать моя женщина!.. – И он, подняв алмазную груду брызг, рухнул в бассейн, тут же вынырнув и по-собачьи отфыркиваясь.
– Шон, извините, – торопливо заговорил Никита, вдруг испугавшись, что англичанка проделает то же самое. – Вы случайно не знаете, где моя одежда? Анатолий Макарович сказал, что…
– Тьфу, блядь… – благодушно выдохнула девушка и с животной нежностью посмотрела на Витька. – А все он, козлина! Мозги мне задурил с самого утра… Не переживай, паря, все постирано-посушено, я мигом…
И она куда-то направилась, вильнув напоследок мощной задницей.
Никита так лихорадочно выбирался из бассейна, что ударился коленом о кафельный угол. Он быстро захромал к брошенному халату.
– Эх, водичка волшебная! – фыркнул вновь вынырнувший Витек.
– В каком смысле? – напрягся Никита.
– Да в прямом, – удивленно пожал плечами Витек. – А ты че, не заметил? Ну, когда купался…
– Наоборот!.. То есть… Я заметил, просто решил… – Никита вконец растерялся и покраснел.
– Это Харалдай, дай ему Бог здоровья, постарался. – Витек выбрался из бассейна и запрыгал на худой ноге, вытряхивая из ушей воду. – Еще в среду… Ну, типа освятил ее. На свой шаманский манер, естественно. А то, говорит, бассейн есть, а никто не купается, не по-хозяйски… Нас всех отсюда попросил, надел свою хламиду бурятскую, кричал чего-то, в бубен колбасил… Часа два, не поверишь… Я, честно говоря, думал, так, понты для приезжих, а оно работает!.. Эх, жрать хочется…
Никита очень хотел спросить, что именно чувствовал Витек, когда купался, но не успел.
Шон, несущая одежду Никиты, сложенную аккуратной стопкой, появилась вместе с шаманом. В спортивных штанах, вьетнамках и свежей, но застиранной футболке, тот еще больше, чем вчера, походил на непьющего бригадира гастарбайтеров.
– Доброе утро, – вежливо сказал он. – Уже позавтракали, чи як?
– Здорово, Харалдай, – бодро поздоровался Витек, набрасывая на широкие худые плечи халат. – Какой там позавтракали!.. Вот сидим, жрать хотим!.. Ну чего, Шурка, кормить-то мужиков будешь? Или, может, не заслужили?..
И он с похабно-заговорщицким видом подмигнул Никите, который снова густо покраснел.






