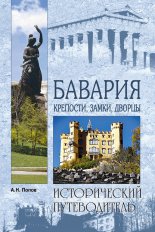Источниковедение Коллектив авторов

Иногда встречаются историографические источники, изданные под псевдонимом: например, «О мнимой древности, первобытном состоянии и источниках наших летописей, сочинение Сергея Скромненко» (СПб., 1835) или «О недостоверности древней русской истории и ложности мнения касательно древности русских летописей» (СПб., 1834), подписанный «С. Скромненко». В данном случае Сергей Скромненко – это псевдоним историка С. М. Строева. Однако чтобы установить авторство (и по ошибке не указать «С. Скромненко»), необходимо как минимум познакомиться с исследованиями, в которых анализируется историографический процесс первой половины XIX в.
При изучении личности автора историографического источника необходимо кроме общих для изучения личности автора характеристик обратить внимание на его профессиональные интересы, его профессиональную деятельность и круг научного общения.
Изучение обстоятельств создания историографического источника – исследовательская процедура, не просто логично следующая за изучением личности автора, но и дополняющая его. Она аналогична процедуре изучения обстоятельств создания любого исторического источника. Конкретные условия создания историографического источника связаны с обстоятельствами жизни создавшего его историка. Так, изучение обстоятельств появления вышеприведенных произведений С. М. Строева дает возможность предположить их полемический характер. Историк как представитель «скептической школы» вел в этих произведениях полемику с ее противниками. Таким образом, знакомство с условиями, вызвавшими конкретную практику историописания, помогает установить целеполагание автора работы «О мнимой древности, первобытном состоянии и источниках наших летописей…», а значит, на уровне гипотезы определить видовую принадлежность изучаемого историографического источника (в данном случае это материалы историографических дискуссий). Окончательно видовая принадлежность может быть установлена при проведении анализа содержания историографического источника.
2.3. Анализ содержания историографического источника
Анализ содержания историографического источника направлен в первую очередь на выявление представленного в нем исторического знания, его типа (научный или социально ориентированный), его парадигмальных оснований и связей с историографической культурой своего времени.
Анализ содержания историографического источника имеет некоторые особенности и нюансы, внимание к которым позволяет решить задачи этого этапа источниковедческого исследования наиболее корректным образом. Следует обратить внимание на задействованные в историческом произведении исторические источники и литературу (ссылки и библиографический список, если они есть), на отношение автора к трудам его предшественников, обоснование им актуальности и новизны собственного исследования, а также на характер дискурса. При анализе содержания статьи следует обратить внимание на соотношение избранного для изучения вопроса / научной проблемы и тематической направленности сборника статей или журнала.
Как правило, анализ этих составляющих труда историка позволяет сделать окончательный вывод о видовой природе историографического источника и принадлежности его к научной истории или социально ориентированному историописанию.
Например, анализ содержания произведения А. П. Щапова (1831–1876) «Великорусские области и Смутное время (1606–1613 г.)», опубликованного в журнале «Отечественные записки» в 1861 г.[741], позволяет определить, что его видовые признаки соответствуют историческому очерку, так как отсутствуют библиографические ссылки и в тексте встречаются нарративные приемы, недопустимые для научной статьи (например, замечание Щапова: «Не знаю, как смотрят на смутное время гг. Костомаров и Погодин»[742]). Кроме того, современный исследователь не может пройти мимо авторского замечания о своем произведении, помещенного в самом конце теоретического обоснования концепции: «…предлагаю читателям“ Отечественных записок” <…> общий очерк [выделено мной. – С. М.] политической самодеятельности великорусских областных общин в смутное время (1606–1613 г.)»[743].
Проведенная процедура совершенно не лишняя, так как авторы историографических работ иногда, следуя за редакторским указанием в октябрьском и ноябрьском номерах журнала («статья первая», «статья вторая»), называют произведение Щапова статьей[744] (деконструкцию произведения А. П. Щапова мы проведем ниже).
Исследователь может столкнуться с ситуацией, когда анализ содержания историографического источника позволит ему выявить признаки сразу нескольких видов историографических источников. В качестве примера приведем опубликованную в «Вестнике Европы» работу М. Т. Каченовского «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке» (1811). Зная, что в это время публиковался переведенный на русский язык известный труд «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Л. Шлёцером» (в 3 ч. СПб., 1809–1819), можно предположить, что статья Каченовского (под таким же названием) есть не что иное, как рецензия на произведение А. Л. Шлёцера. Однако анализ содержания историографического источника позволяет установить, что он имеет характер скрытой дискуссии (не названы оппоненты) с теми, кто считает, что историческая критика, подвергающая сомнению не подтверждаемые историческими источниками конструкции прошлого, не нужна русскому читателю[745]
При изучении такого научного исследования, как монография, важно предварительно проанализировать заголовок издания, аннотацию, оглавление, библиографический список, а затем следует познакомиться с введением к работе. Данная процедура очень важна для выявления авторской рефлексии о собственном научном исследовании. Во втором разделе учебного пособия мы уже приводили примеры некорректного определения автором или издательством классификационных характеристик научных исследований. В связи с этим историку на основании анализа научного исследования следует подтвердить его принадлежность к монографии как виду историографических источников или уточнить его иную видовую принадлежность.
Данная процедура применяется ко всем видам историографических источников, но еще раз повторим: в первую очередь к тем, в отношении видовой принадлежности которых у историка имеются сомнения.
2.4. Процедура деконструкции историографического источника
Более глубокий анализ историографического источника достигается при проведении процедуры деконструкции. Деконструкция (фр. dconstruction) – понятие, введенное в современную философию Ж. Деррида[746].} (1930–2004). В нашем случае это не направление постмодернистского критицизма, а процедура расслоения, разборки структур историографического источника: исторических (построенных на данных исторических источников), теоретических, риторических для уточнения места изучаемой работы в историографической культуре ее времени.
Применяя данную процедуру, историк исходит из того, что прочтение текста (даже специалистом) может быть лишено глубины, необходимой для анализа, так как автор историографического источника пытается быть убедительным и навязывает читателю свое понимание, старается с помощью большей или меньшей доказательности вести его за собой.
Следует заметить, что вопрос об этапах работы историка над текстом, следовательно, и о процедурах анализа текста сегодня остается открытым, и мы выделим несколько мнений. Л. Ж. Голстейн полагает, что историописание – это двухэтапный процесс: исследование и литературная обработка[747]. По мнению П. Рикёра (1913–2005), для анализа работы историка подходит понятие «историографическая операция» (operation historiographique)[748]. Она состоит из трех фаз: документальной, объяснения (объяснения/понимания) и литературной[749]. Указанные П. Рикёром фазы не означают самостоятельность и расчлененность выстроенных в вертикальной проекции трех процедур, произведенных историком, текст которого мы изучаем, например: сначала первая «оперативная фаза», затем вторая и только потом третья. Вот как об этом пишет сам Рикёр:
Термин «фаза» предлагается для характеристики трех частей историографической операции. Использование этого термина не должно порождать двусмысленности: речь идет не о хронологически различных стадиях, а о методологических моментах, как бы наслаивающихся друг на друга: достаточно указать на то, что никто не обращается к архиву, не имея предварительно собственного проекта объяснения, собственной гипотезы.
Точно так же никто не возьмется объяснять ход событий, не прибегнув намеренно к литературной форме, будь то нарративного, риторического характера – либо заведомо из разряда вымысла. Понятие «оперативная фаза» не должно предполагать какой-либо хронологической последовательности. Фазы становятся стадиями, последовательными этапами линейного развития лишь тогда, когда мы здесь говорим о моментах развертывания историографической операции[750].
Таким образом, каждая оперативная фаза в работе историка связана с двумя другими, зависит от них и довольно часто накладывается на них. Однако при анализе историографического источника, а в данном случае – его деконструкции как исторического текста, рефлексия о фазах историографической операции историка предоставляет возможность проведения процедуры разделения этих фаз и тем самым обеспечивает корректность понимания цели порождения исторического текста и авторской специфики работы.
Например, обратив внимание на документальную фазу работы Б. А. Рыбакова (1908–2001) «Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв.» (М., 1982), особенно в той части произведения, где автор исследует вопросы возникновения ранней формы государственности и градостроительства у восточных славян (V–VI вв. н. э.), историк придет к выводу, что советский ученый привлек материалы археологических раскопок в Приднепровье, труды римских и византийских писателей, а также древнерусские летописи. Но его отношение к сообщениям последних оказалось зависимым от авторской идеи о раннем происхождении города Кия в V в. Процедура деконструкции текста Б. А. Рыбакова дает возможность обнаружить, что если сообщение киевского летописца, подкреплявшее его идею, он сопроводил словами: «Научная добросовестность [sic! – С. М.] летописца не позволила ему фантазировать на эту тему», то древнерусских книжников (новгородских), писавших иначе, он назвал «провинциальными комментаторами»[751].
Таким образом, выделив в единой связке две оперативные фазы историографической операции – документальную и литературную, мы можем отметить, что риторический прием, демонстрирующий отношение историка к сообщениям авторов исторических источников («научная добросовестность» – «провинциальные комментаторы»), призван утвердить читателя в правильности интерпретации Б. А. Рыбаковым исторических источников и в итоге сделать более убедительным празднование 1500-летия города Киева в 1982 г.
Другой пример позволяет увидеть при деконструкции зависимость документальной фазы историографической операции от идеологии, которая была заложена в основу оперативной фазы объяснения. В книге «Край наш Ставрополье: очерки истории» (1999), автор главы (Д. В. Кочура), посвященной событиям 1917–1920 гг., постарался придать тексту качество максимальной надежности, однако деконструкция текста позволяет обнаружить осознанно выбранную автором стратегию ненаучной работы с историческими источниками. В книге читаем: «По признанию командующего Доброармией, многие офицерские полки, в частности, полки им. Корнилова, Маркова и другие, имевшие по 5 тыс. человек, выходили из боя при наличности от 200 до 500 человек». После этого дана сноска на «Очерки русской смуты» А. И. Деникина (1872–1947) в журнале «Вопросы истории» (правда, без указания страницы, указан лишь номер журнала)[752]. Найдя это место в опубликованном произведении русского генерала, мы обнаруживаем иной смысл сообщения. «Особенно тяжкие потери легли на старые Добровольческие части, – пишет Деникин, – 1й Офицерский генерала Маркова полк и Корниловский полк. Известно ли вам, господа, что Корниловский полк, насчитывающий сегодня едва 500 бойцов, провел черезсвои ряды свыше 5 тысяч!» Эти потери, как отметил генерал, следовали не после каждого боя (как представлено в книге «Край наш Ставрополье»), а «за два похода на Кубань»[753]. В данном случае, рассказывая о событиях гражданской войны на Северном Кавказе, историк старался представить победы Красной армии более существенными, чем о них мог сообщить привлеченный им исторический источник.
Конечно, процедура деконструкции данного текста не может ограничиться этим примером; чтобы лучше понять не только целеполагание автора, но и специфику конкретной практики историописания, желательно продолжить разбор документальной фазы его историографической операции и обратить внимание на работу с другими историческими источниками, в частности с материалами делопроизводства. Так, автор в качестве доказательства усиления летом 1917 г. революционного настроя крестьянских масс, который «определенно» нес на себе печать активной деятельности местных большевиков А. А. Пономарева, М. Г. Морозова и др., привел слова из доклада комиссара Временного комитета Государственной думы и Временного правительства по Ставропольской губернии Д. Д. Старлычанова
06 ухудшении дел в губернии и об открытых заявлениях сельских жителей «о ненужности Временного правительства» и сделал сноску на документ, хранящийся в Государственном архиве Ставропольского края[754]. Однако в указанном докладе мы не найдем упоминания о деятельности большевиков и заявлений о ненужности Временного правительства. Губернский комиссар указывал, что «сложная сеть взаимоотношений, возникающая на почве всякого рода аграрных и торговых отношений, осложненных многочисленными затруднениями в снабжении населения продуктами обрабатывающей промышленности, дает многочисленные поводы к возникновению беспорядков»[755].
Современный исследователь, конечно, вправе указать на грубую ошибку, подмену сообщений исторических источников, меняющую их смысл, после чего сделать заключение о низком качестве исследовательской работы и вывод, что с такими практиками в исторической науке следует бороться и вообще искоренять их. Но, придя к такому выводу, будет ли исследователь прав?
Начиная с эпохи Просвещения научная история пыталась вытеснить из исторического мышления все, что не подпадало под стандарты рациональности и научности. До сих пор в научном сознании остается не изжитым желание остановить тех, кто «злоупотребляет прошлым»[756], нам продолжают напоминать, что научная история должна бороться с практическим использованием прошлого[757], и, даже признавая множественность моделей исторического сознания, историки ставят задачу «по разоблачению искажений и мифов»[758]. Нет, деконструкция предполагает конечной целью не столько поиск ошибок, неточностей, заблуждений авторов исторических сочинений, сколько приближение к пониманию цели конкретной практики историописания, ее объяснение.
Возвращаясь к примеру ставропольского историка, мы можем заключить, что он проводил презентацию сконструированного им прошлого именно таким образом не от незнания правил научной работы, а от того, что цель, которую он ставил перед написанием истории, была другой – не связанной со строгой научностью. Этот историк презентировал социально ориентированный тип исторического знания.
Процесс деконструкции исторического текста, в частности выявление оперативной фазы объяснения, позволяет анализировать теоретическую конструкцию, при помощи которой историк объясняет исторический процесс.
Например, В. С. Борзаковский (1834–?), автор «Истории тверского княжества» (это издание магистерской диссертации Борзаковского было удостоено Уваровской премии), создавая объяснение процесса появления древнерусских городов, сослался на мнения В. В. Григорьева (1816–1881), И. Д. Беляева (1810–1873) и К. Н. Бестужева-Рюмина о причине градообразования[759], но совершенно не учел, что указанные им известные ученые были сторонниками разных взглядов на этот вопрос. Первый историк – ориенталист – был сторонником торгового происхождения городов (городские укрепления строились уже после)[760], второй вел их происхождение от нужд обороны[761], а третий – от поселений славянских общин-жуп и княжеской политики[762]. То есть Борзаковский не предусмотрел, что в исторической науке не существовало единого теоретического объяснения причины градообразовательного процесса. Произведение вышеприведенного историка отвечает видовой характеристике такого историографического источника, как монография, однако, как показывает анализ, знание автором российской историографии второй половины XIX в. оказалось поверхностным.
Обратимся еще к одному примеру – произведению Д. И. Иловайского (1832–1920) «Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю» (1876). Этот труд представляет интерес уже тем, что предварительный анализ его названия и структуры дает основание для вывода о неоднозначности такого исторического произведения как историографического источника. В названии автор употребил слово «разыскания», позволяющее предположить, что перед нами научное исследование. Согласно толковому словарю В. И. Даля (1801–1872), слова «разыскать», «разыскивать» означают в том числе «исследовать, доискиваться истины»[763]. Однако в структуре интересующего нас произведения современный историк найдет не только «исследование» («Болгары и Русь на Азовском поморье. Историческое исследование»), но и «очерк» («Эллино-скифский мир на берегах Понта. Историко-этнографический очерк»), и даже «Записки и ответы». Сам автор предваряет книгу словами, что это начало большой работы по русской истории, «по возможности соответствующей научным требованиям настоящего времени [выделено мной. – С. М.]». Деконструкция произведения Иловайского позволяет выявить очерковый характер не только того раздела, в котором есть указание на «очерк», но и того, который назван «исследованием», кроме того, в книгу включены ранее публиковавшиеся в журналах статьи полемического характера, относящиеся к материалам историографических дискуссий как виду историографических источников.
Разбор литературной фазы историографической операции произведения Иловайского укрепляет уверенность в том, что данное произведение не имеет отношения к научному исследованию. Например, говоря об историографии одного из выясняемых вопросов, историк замечает: «Что касается до пособий [произведений историков. – С. М.], то предмет наш имеет весьма обширную литературу. Назовем только те издания, которые мы имели под рукой…»[764]. То есть, проводя исследование, Иловайский не стал утруждать себя изучением историографии вопроса. Или такой риторический ход автора: «Открытие новых исторических источников [здесь и далее выделено мной. – С. М.] и особенно местные изыскания, может быть, дадут впоследствии более подробные сведения о судьбах этой Азово-Черноморской Руси»[765]. Для Иловайского важен последний риторический прием, он призван убедить читателя в репрезентативности источниковой базы проведенного исследования, в исчерпанности (по крайней мере, на сегодня) изученной им темы. Но это совсем не так, автор выбирал только подтверждавшие его гипотезу исторические источники, на которые даже не всегда давал указания.
Дополнить проведенный источниковедческий анализ можно включением произведения Иловайского в историографический процесс последней четверти XIX – начала XX в. В год издания Иловайским труда «Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю» и первого тома «Истории России»[766] ведущий рубрику «Библиографический листок новых русских книг» в журнале «Русская старина» историк В. С. Иконников (1841–1923) отметил присущие Иловайскому как художественность, так и научность подачи материала, написав: «Простота и художественность изложения, свойственные вообще трудам автора, и строго научное направление – отличительные качества его нового сочинения»[767]. Но уже в 1891 г., когда кроме «Разысканий о начале Руси» выйдут из печати уже три тома «Истории России» Иловайского, другой русский историк, С. Ф. Платонов, укажет именно на их ненаучный (художественный) характер, подчеркнув: «Мы отрицательно отнеслись к той мысли, что труд г. Иловайского может влиять на развитие нашей историографии или отражать во всей полноте ее современные успехи. Но мы далеки от того, чтобы отрицать назидательное значение „Истории“ г. Иловайского для среды не-специалистов, для читающей публики…»[768].
Отметив некоторые существенные моменты историографической деконструкции, теперь предложим пример систематической деконструкции одного историографического источника. Приступая к изучению произведения А. П. Щапова «Великорусские области и Смутное время (1606–1613 г.)» (1861)[769], исследователь предварительно знакомится с историографическими работами, авторы которых анализировали творчество этого историка. Надо сказать, что на данном этапе исследователь сталкивается с необычной ситуацией. Интересующий нас историк существует в трех ипостасях: Щапов-краевед[770] / Щапов-историк[771] / Щапов – социальный мыслитель[772]. В аннотации к одному из произведений о А. П. Щапове можно прочитать, что оно «посвящено деятельности и взглядам знаменитого сибирского историка [здесь и далее курсив мой. – С. М.] и активного политического и общественного деятеля, краеведа А. Щапова»[773].
Выше мы уже уточнили видовую принадлежность указанного историографического источника, отметив, что произведение А. П. Щапова представляет собой исторический очерк. Теперь можно переходить к деконструкции текста и, в частности, к выявлению оперативной фазы объяснения, так как подобная процедура позволит установить, в какой ипостаси в нем выступил историк.
В историческом очерке Щапова фазу объяснения выделить несложно, так как суть концепции «областности» в структуре очерка автор постарался представить до начала рассказа о событиях Смуты. Следует также отметить, что историк, обращаясь к сюжетам вхождения в состав Московского государства тех или иных княжеств и земель, выяснял их взаимоотношения с Москвой, и, таким образом, в каждом случае его объяснения выполняли задачу реконструкции прошлого посредством принятой концепции. Крупномасштабное описание, охватывающее значительный период истории (не только начало XVII в.), позволило Щапову поставить проблему, объяснение которой было противоположно концепциям истории государственного строительства, предложенным русскими историками. Не случайно автор упоминает Н. М. Карамзина (красочно описавшего трагедию Смуты), Н. Г. Устрялова (с его приторным патриотизмом, торжеством православия и единодержавия) и С. М. Соловьева (с концепцией «борьбы государственного наряда с родовым, противогосударственным началом»)[774].
В процессе деконструкции текста, выявляя в историографическом источнике фазу объяснения, мы должны решить три задачи: найти в произведении Щапова основания, позволяющие связать автора с практикой местной истории; выявить в историографическом источнике идеологический фактор, нарушающий научность работы; установить тип презентируемого в произведении исторического знания.
Оперативная фаза объяснения (в данном случае нам важна концепция «областности») начинается с «программного заявления» автора, актуализирующего произведение. У Щапова читаем:
В настоящее время, кажется, уже утвердилось убеждение, что в истории главный фактор есть сам народ, дух народный, творящий историю, что сущность и содержание истории есть жизнь народная. Эту идею начали уже проводить в науке русской истории. Но вот другое начало, на которое еще не обращено должного внимания в нашей исторической науке [выделено мной. – С. М.]: начало провинциализма, областности [выделено автором. – С. М.], если можно так выразиться. У нас доселе господствовала в изложении русской истории идея централизации; развилось даже какое-то чрезмерное стремление к обобщению, к систематизации разнообразной областной истории. Все особенности, направления и факты областной исторической жизни подводились под одну идею правительственно-государственного, централизационного развития… Русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа – до централизации и после централизации[775].
Мы не встретили здесь упоминания местной истории. Более того, Щапов утверждает: «У нас доселе господствовала в изложении русской истории…». Подобным образом выражая идею научного прогресса, он дает понять своевременность/новизну своего исследования, но при этом историк совсем не обратил внимания на столетнее существование в Российской империи местной истории. Он проигнорировал эту практику историописания (как мы отмечали в третьей части второго раздела настоящего учебного пособия, практика местной истории в России предшествовала историческому краеведению, появившемуся в начале XX в.); не случайно автор написал, что на начала провинциализма и областности «еще не обращено должного внимания в нашей исторической науке».
Нашу гипотезу о том, что концепция «областности», предложенная Щаповым в очерке «Великорусские области и Смутное время», не имеет отношения к местной истории, подкрепляет мысль историка, которой он закончил обоснование нового подхода к изучению русской истории, предложив свое видение как научного, так и практического его значения:
Если когда, то особенно в наше время, науке русской истории [выделено мной. – С. М.] необходимо уяснить историю, дух, характер и этнографические особенности областных масс народных. <…>
В высшей степени желательно, чтобы у нас, по возможности, в каждой провинции возникла своя историческая, самопознавательная литература, и обогащалась областными сборниками, в роде «Пермского», историко-статистическими описаниями губерний и провинций, в роде, например, описания оренбургского края Черемшанского, и под., изданием областных памятников и актов, в роде южно-русской «Основы».
Ниже мы находим у Щапова пояснение того, в чем заключается важность «самопознавательной литературы». Ничего не сказав о науке, цель «самопознавательной литературы» он увидел в воспитании областного гражданского сознания:
Областные сборники, историко-этнографические и статистические описания провинций могут служить не только руководствами нашего областного самопознания, но и органами возбуждения в провинциальных массах идеи политического самосознания и саморазвития в составе целого государственного союза[776].
Теперь мы можем отметить, что Щапов развел цели, которые, по его мнению, должны преследовать научная история и «историческая, самопознавательная литература». Концепция «областности», позволяющая уяснять «историю, дух, характер и этнографические особенности областных масс народных» отнесена им к науке русской истории (научной истории). «Самопознавательная литература» – это руководства самопознания, возбуждающие «в провинциальных массах идеи политического самосознания и саморазвития». Такая историческая литература позиционирует социально ориентированный тип исторического знания.
Мы не будем выяснять возможную мотивацию краеведов, связывающих «Великорусские области и Смутное время (1606–1613 г.)» с разработкой А. П. Щаповым концепции местной истории или даже исторического краеведения, это не входит в нашу задачу.
Следующий этап процедуры деконструкции призван уточнить правомерность распространения на исследуемый историографический источник практики, традиционно включающей исторические взгляды Щапова не столько в научный, сколько в общественно-политический процесс третьей четверти XIX в. По иронии научной судьбы, справедливо отмечает Е. А. Вишленкова, Щапов стал историком революционно-демократического направления[777].
Действительно, современному исследователю уже трудно избавиться от навязанного литературой взгляда на историка как выразителя определенной идеологии, поэтому, продолжая процедуру деконструкции историографического источника, следует отделить идеологию от концепции «областности». Сразу поясним: на идеологию мы смотрим не как на «ложное» сознание (и не придаем ей никакой отрицательной коннотации), понимая под ней желание индивида социализировать других[778]. Наша задача – отделить от фазы объяснения литературную фазу историографической операции Щапова, обратить внимание на пару «идеология – риторика», которую можно отнести к его общественно-политическим взглядам.
Такие пары мы находим, однако в интересующем нас произведении их немного. Например: «результатов великого вопроса освобождения крепостного народа», «силен, неугомонен был в областных общинах дух протестации», «На Волге собирались демократические борцы – казаки», «тяжким тяглом тянули <…> к Москве», «тяжелыми оковами, цепями централизации»[779] и др.
Риторика, порожденная идеологией Щапова, не доминирует в тексте, но усиливает восприятие его концепции читателем. Выдвинем гипотезу, что в данном историографическом источнике автор удачно совместил историю и идеологию (не забываем, что это исторический очерк). Радикальной оказалась сама концепция Щапова, поэтому очерк имеет радикальный характер. Однако этот радикализм не выходит за рамки науки в поле общественной мысли. Подход Щапова направлен не столько против современного ему политического режима, сколько против ставшей уже традиционной модели национально-государственной истории классической европейской историографии. Радикализм операционной фазы объяснения так отчетливо проявляет себя потому, что Щапов в своей истории актуализировал дуализм (воспользуемся терминологией Ф. Ницше) «пользы» и «вреда» истории: «пользу» истории, основанной на концепции «областности», и «вред» традиционной концепции национально-государственной истории. Он обратил внимание на «вред», таящийся в самом становом хребте последней – истории государственной централизации. Историк отказался искать точку равновесия, у него получились только «польза» и «вред».
Завершить анализ исторического очерка «Великорусские области и Смутное время (1606–1613 г.)» нам поможет применение метода компаративной историографии[780], который можно использовать при изучении историографических традиций, генеалогии научных школ, типов исторического знания в национальных историографиях и в рамках европейской научной модели[781], а также при анализе мировой[782] и глобальной историографии[783].
Анализируя историографический процесс второй половины XIX в., мы отмечаем, что национально-государственная история в рамках классической модели исторической науки уже в третьей четверти столетия перестает удовлетворять некоторых историков. Через несколько лет после публикации Щаповым своего исторического очерка Н. И. Костомаров (1817–1885) издает «Северорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки)» (в 2 т. СПб., 1863). В данном случае мы можем говорить о начавшейся тенденции, так как уже в 1862 г. французский историк Э. Семишон (1813–1881) выступил против привычной концепции истории Франции. Он актуализировал вопрос о государственной централизации, противопоставив ей историю «подавления» местных коммунальных обычаев разрастающимся государством[784]. По мнению американского исследователя Е. К. Л. Голда, высказанному в начале 1880х годов, традиции истории государственной централизации оказались настолько сильными в науке, что внимание ученого склонно концентрироваться на федеральной, а не на местной истории, и эту тенденцию нужно преодолевать[785].
Начиная с 80х годов XIX в. в Российской империи выделяется особое поле научной историографии под названием «областная история» (В. Г. Ляскоронский, Д. И. Багалей, П. В. Голубовский и др.), исследовательская модель которой напоминает возникшее в начале XX в. во Франции известное направление неклассической исторической науки – региональную историю (А. Берр, Л. Февр, М. Блок и др.).
Краткий компаративный анализ позволяет сделать вывод о начале тенденции, ведущей к утрате интереса к национально-государственной истории и кризису классической модели исторической науки. Одним из первых исторических произведений, маркирующих ее начало, стал исторический очерк «Великорусские области и Смутное время (1606–1613 г.)» А. П. Щапова.
Историками отмечается такая деталь, как весьма вольное обращение Щапова с историческими источниками[786], это относится и к выбранному нами историческому очерку. Однако данный историографический источник мы все же отнесем к научной истории. Он занимает особое место в историографическом процессе XIX в. Концепция «областности» не только стала протестом против традиционной европейской модели исторической науки, но и, что самое важное, способствовала выработке теоретической базы областной истории (а не местной истории или краеведения), а затем и региональной истории в России[787].
Рефлексия о фазах историографической операции при проведении процедуры деконструкции историографических источников оберегает исследователя от того, чтобы приписать изучаемому произведению историка лишний смысл, отличный от задуманного автором. На первый взгляд кажущееся ошибочным и/или иррациональным конструирование прошлого, производимое тем или иным автором, относительно научной практики историописания должно нами рационализироваться в процессе деконструкции историографического источника.
Глава 3
Источниковая база исторического исследования
От исследования исторического источника как самодостаточного социокультурного феномена вернемся к «вспомогательной» составляющей источниковедения – формированию источниковой базы исторического исследованию и анализу вовлеченных в исследование исторических источников.
Необходимо различать понятия «источниковая база исторического исследования» и гораздо реже встречающееся – «источниковедческая база исторического исследования»: о последней можно говорить, когда историк не проводит сам все процедуры источниковедческого анализа, а привлекает к исследованию результаты специальных источниковедческих работ.
3.1. Рефлексия источниковой базы как атрибут научного исследования
Осознанное/отрефлексированное формирование источниковой базы – непременная характеристика строгого научного исследования. В последние годы очевидным образом на второй план отходят исследования монографического характера, предполагающие строгое отношение к формированию источниковой базы с обязательным обоснованием ее репрезентативности и последовательным выявлением информационных возможностей вовлекаемых в исследование исторических источников. Все ольшее распространение получают работы эссеистского характера, в которых излагаемая автором идея подкрепляется, а чаще – иллюстрируется отдельными примерами из исторических/историографических источников[788]. Но и в этом случае осознанное отношение к вовлекаемым в исследование историческим источникам не помешает, но будет способствовать большей убедительности предлагаемых автором построений и выводов.
Далее речь пойдет об источниковой базе квалификационной работы, поскольку, во-первых, в ней предъявляются наиболее строгие и отчасти формализованные научным сообществом требования к описанию и анализу источниковой базы, а во-вторых, именно этот вид исследования должен будет выполнить каждый студент (магистрант) на завершающем этапе обучения.
Описание путей формирования и характеристика источниковой базы исследования, наряду с анализом историографии, обычно помещается во введении к работе. Необходимо помнить, что введение – чрезвычайно важная часть работы, имеющая первостепенное значение при презентации результатов проведенного исследования, и отнестись ответственно к его написанию[789]. В отдельных случаях характеристика источниковой базы и анализ историографии могут быть вынесены в отдельную главу, что не избавляет от необходимости их краткой характеристики во введении, поскольку именно оно создает первое впечатление о степени фундированности работы.
Если мы обратимся к квалификационным работам разного уровня: от курсовых и дипломных работ студентов (выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров) до диссертаций (и их авторефератов) на соискание ученых степеней кандидата и доктора исторических наук, – то обнаружим несколько вариантов наименования той части введения, где речь идет об источниках. Весьма часто встречается «Обзор источников». Такое наименование нельзя признать корректным и, соответственно, его следует избегать: оно неверно передает суть осуществляемой исследовательской операции, поскольку ваша задача не обозреть попавшие в поле вашего зрения источники, а целенаправленно сформировать источниковую базу для решения поставленной в исследовании проблемы.
Продумать смысл реализуемой исследовательской процедуры и точно выразить его в названии чрезвычайно важно. В подкрепление этой мысли можно вспомнить афоризм из известного мультфильма: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».
Наиболее точным образом суть проделываемой работы выразит наименование «Формирование источниковой базы исследования и ее характеристика». Впрочем, при отчетливом понимании смысла исследовательских процедур это наименование может быть редуцировано до «Источниковая база исследования».
3.2. Формирование источниковой базы исследования и обоснование ее репрезентативности
Формирование источниковой базы – один из наиболее важных этапов работы, поскольку от него зависит все последующее исследование. В самом деле, если некорректно подобраны источники, т. е. пропущены важные для решения поставленной в работе проблемы и привлечены лишние, не дающие информации для ее решения, а только создающие информационный шум, то и все дальнейшее исследование пойдет в уже заданном подбором источников направлении.
При формировании источниковой базы можно выделить две стратегии: первая – стремление привлечь как можно больше исторических источников (в идеале – все), имеющих (могущих иметь) отношение к проблематике исследования; вторая – строгий отбор источников в зависимости от целей исследования при соблюдении принципа необходимости и достаточности.
Конечно, второй подход выглядит более привлекательным, поскольку очевидным образом позволяет сэкономить исследовательские усилия, но первый по-прежнему остается весьма востребованным. Давайте попытаемся разобраться в причинах.
Для осмысленного отношения к формированию источниковой базы исследования необходимо понимать его парадигмальные основания. Мы не случайно в первом разделе при определении понятия «исторический источник» уделили столь много внимания не только парадигмальным, но и мировоззренческим различиям в подходах к базовому понятию источниковедения: эти различия проявляются на каждом этапе исследования, в том числе и при формировании его источниковой базы. Стремление вовлечь в исследование как можно больше источников обусловлено представлением о самоценности любого «добываемого» из этих источников исторического факта, который при таком подходе расценивается как устойчивый «кирпичик» как актуального, так и потенциального исторического построения.
Еще в середине XVIII в. Г. Ф. Миллер (1705–1783) утверждал необходимость вовлечения в исследование всей информации источников, даже той, которая, на взгляд историка, не заслуживает доверия:
Я сам себе насилие делаю, когда все в Тобольском летописце описуемые чудеса объявляю: однако ж оных совсем оставить не можно. Должность истории писателя требует, чтоб подлиннику своему в приведении всех, хотя за ложно почитаемых приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается и здравое рассуждение у читателя вольности не отнимает[790].
Но наибольшее распространение такой подход получил в связи с так называемым позитивизмом в исторической науке. Характеризуя исследовательскую программу позитивизма, британский историк Р. Дж. Коллингвуд (1889–1943) пишет:
С энтузиазмом включившись в первую часть позитивистской программы, историки поставили задачу установить все факты, где это только можно. Результатом был громадный прирост конкретного исторического знания, основанного на беспрецедентном по своей точности и критичности исследовании источников. Это была эпоха, обогатившая историю громадными коллекциями тщательно просеянного материала <…>. Лучшие историки этого времени <…> стали величайшими знатоками исторической детали. Историческая добросовестность отождествлялась с крайней скрупулезностью в исследовании любого фактического материала. Цель построения всеобщей истории была отброшена как пустая мечта, и идеалом в исторической литературе стала монография[791].
Напомним, что другой британский историк А. Тойнби (1889–1975) видел в этой тенденции наследие «духа индустриализма», когда деятельность по добывания исторического сырья рассматривается как ценная сама по себе[792]. В советской исторической науке этот подход достиг своей вершины в 1970х годах, когда развернулась дискуссия на тему, означает ли сформулированное В. И. Лениным (1870–1924) в статье «Статистика и социология» (1917) требование «привлечения всей совокупности фактов без единого исключения» необходимость привлечения всей совокупности исторических источников «без единого исключения»[793]. С позиции нынешнего дня эта дискуссия выглядит как историографический казус, впрочем весьма наглядно представляющий некоторые особенности советской исторической науки.
Так как же грамотно сформировать источниковую базу исследования, сэкономив при этом исследовательские усилия?
И снова возвращаемся к определению понятия «исторический источник» и основной классификационной единице источниковедения – виду исторических источников. Исторический источник объективирует автора, действующего в определенной культуре, а саму культуру презентирует система видов исторических источников. Исследователь, отчетливо понимающий, какой вид деятельности он собирается изучать, при формировании источниковой базы ориентируется в первую очередь на те виды исторических источников, которые порождены в соответствующей сфере деятельности. Например, выше уже отмечалось, что в случае законодательных источников их видовые характеристики наиболее полно реализуются в официально опубликованном тексте закона, но если мы изучаем законотворческий процесс, то нам потребуются черновые варианты, тексты с редакторской правкой и т. д.
Такой подход к ормированию источниковой базы призван также обеспечить ее репрезентативность, т. е. достаточность для корректного решения поставленной проблемы. Естественно, что источниковая база исторического исследования почти никогда не исчерпывается источниками того вида, которые мы признали основным. Но вовлечение в исследование дополнительных источников обусловливается уже не столько постановкой проблемы, сколько намеченными историком путями ее исследования.
3.3. Характеристика источниковой базы исследования
Характеристика источниковой базы исследования проходит в два этапа: структурирование источниковой базы и выявление информационного потенциала формирующих ее исторических источников.
При структурировании источниковой базы важно четко различать понятия классификации и систематизации. Напомним, что классификация – системообразующая научная процедура распределения объектов познания по группам (таксонам) по присущему самому объекту классификации значимому признаку. Систематизация – распределение исследуемых объектов (исторических источников) по группам по признаку, выбранному исследователем в соответствии с целями и задачами исследования, или нескольким таким признакам.
К все еще часто встречающимся, но уже явно устаревшим стереотипам при описании структуры источниковой базы относится деление исторических источников на архивные и опубликованные или на опубликованные и неопубликованные. Нахождение исторического источника в архиве или наличие публикации совершенно очевидно не выступают имманентными характеристиками самого источника. С этим стереотипом тесным образом связано дискурсивное клише при характеристике новизны исследования: новизна исследования состоит в том, что в научный оборот вводятся хранящиеся в архиве, ранее не публиковавшиеся исторические источники. Когда предметом особой гордости исследователя становится то, что он вовлек в исследование «новые», «архивные» источники, и именно в этом он видит свою заслугу, хочется задать вопрос: а что изменилось в науке от того, что привлечены новые источники, и если десятки, а то и сотни лет эти источники никто не востребовал, то что за необходимость обращаться к ним именно сейчас, в современной социокультурной ситуации, при актуальном состоянии науки?
В исторических исследованиях по-прежнему весьма распространена систематизация исторических источников по социальной (классовой) принадлежности их авторов или по их мировоззрению. Эту проблему мы затрагивали, рассматривая характеристику автора при изучении происхождения исторического источника в ходе источниковедческого анализа. Здесь же подчеркнем редко осознаваемую историками опасность такого подхода: применяя этот критерий систематизации, историк рискует попасть в замкнутый круг. Например, при изучении общественно-политической направленности российских газет исследователь систематизирует их на дворянские и буржуазные или на демократические, либеральные и консервативные, а потом начинает изучать взгляды, которые выражали эти издания, и неизбежно приходит к «неожиданному» выводу: демократические издания выражали демократические взгляды, либеральные – либеральные, консервативные – консервативные… Чтобы этого избежать, систематизацию источников необходимо продумывать самым тщательным образом, соотнося с целями и задачами исследования.
Но в любом случае при характеристике источниковой базы исторического исследования необходимо провести классификацию исторических источников по типам и видам, что позволит наиболее корректным образом выявить их информационные возможности, в том числе и за счет экспликации социокультурного контекста, представленного системой видов исторических источников. Второй этап – выявление информационного потенциала формирующих источниковую базу исторических источников – проходит по правилам источниковедческого анализа, изложенным в первой главе этой части учебного пособия.
Часть II
Исторический источник в эдиционных практиках
Археография (от др.греч. – древний и – пишу) – дисциплина, изучающая историю, методику и практику публикации исторических источников. Этот термин был заимствован из западноевропейской исследовательской литературы, в которой, однако, понимался в более узком смысле – как систематическое описание рукописей. Ныне соответствие археографии видится в западноевропейском понятии «публикациеведение» (dition, publication, Editionskunde).
Изучение истории археографии, методики и практики публикации исторических источников реализуется как в специальных исследованиях, так и в виде разработки правил, методических рекомендаций. Часто самостоятельный научный интерес представляют археографические предисловия к публикациям источников.
Дореволюционный опыт археографии был обобщен в «Правилах издания Сборника грамот Коллегии экономии» (1922), разработанных А. С. Лаппо Данилевским. В дальнейшем издавались правила и методические рекомендации, реализованные в наиболее масштабных публикациях исторических источников и имеющие самостоятельное научное значение: «Проект правил издания трудов В. И. Ленина (1926, сост. С. Н. Валк), «Правила издания исторических документов» (1955), «Методика издания древнерусских актов (1959, сост. А. А. Зимин), «Правила издания документов советского периода» (1960), «Проект инструкции для подготовки к изданию“ Писем и бумаг Петра Великого”» (1962, 1975, сост. Т. С. Майкова), «Принципы издания эпистолярных текстов» (1964), «Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики» (1985, сост. А. Л. Хорошкевич, С. М. Каштанов), «Методические рекомендации по изданию“ Актов Русского государства”» (1987, сост. С. М. Каштанов), «Правила издания исторических документов в СССР» (1956, 1969, 1990) и др.
Масштабные публикации исторических источников, как правило, сопровождаются археографическими предисловиями, содержащими специально разработанные для них модифицированные, часто оригинальные археографические подходы, – такими как предисловия Л. В. Черепнина (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI в. М.; Л., 1950; Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI вв. М., 1951. Ч. 1), А. Н. Насонова (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.
М.; Л., 1950; Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2), М. Н. Тихомирова (Полное собрание русских летописей. М.; Л., 1949, 1959. Т. 25, 26; Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1953), И. А. Голубцова (Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952. Т. 1), А. А. Зимина (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI вв. М., 1956. Ч. 2), А. В. Арциховского (Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953–1954 гг.). М., 1958), И. А. Булыгина (Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975), Е. А. Мельниковой (Скандинавские рунические надписи: новые находки и интерпретации. М., 2001), Л. А. Кириченко и СВ. Николаевой (Кормовая книга Троице-Сергиев а монастыря 1674 г. М., 2008).
Специально археографические практики анализировались в трудах Н. П. Лихачева, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Н. Валка, СМ. Каштанова, Б. Г. Литвака, Г. И. Королева. Вопросы предмета, задач, понятийного аппарата археографии разрабатывались в трудах С. Н. Валка, М. С. Селезнева, СО. Шмидта, А. Д. Степанского, В. П. Козлова, Е. В. Старостина, В. А. Черных, Е. М. Добрушкина и других авторов.
Глава 1
Бытование источников в рукописной и книгопечатной традициях
Репертуар рукописной книжности был весьма широк; кроме литературы религиозного содержания в обиходе средневекового читателя находились приключенческие романы, научные трактаты, исторические сочинения и т. д. Единственной возможностью распространения сочинений до изобретения книгопечатания была их переписка. Скриптории действовали при монастырях, но кроме таких крупных центров рукописной книжности размножение рукописей былодоступно для всякого, обладающего соответствующими возможностями и способностями.
Формы бытования источников в пределах рукописной традиции: копирование, редактирование, сведение, составление сборников – были обусловлены насущными политическими, экономическими, религиозными, культурными потребностями общества, его структур и ячеек. Летописные своды были призваны изложить историю с точки зрения того или иного феодального центра, либо, напротив, с общерусской позиции. В актовые копийные книги вносились документы о феодальном землевладении, призванные в случае необходимости подтвердить права церковного или светского феодала. Разрядно-родословные сборники содержали документы, подтверждающие высокий статус того или иного рода, древность его службы государю.
Именно такие потребности снимали вопрос о подлинности вводимых в культурную среду источников. Служилые люди изготавливали и представляли фальсификаты, которые должны были подтвердить древность их службы, монастыри – поддельные грамоты о своем землевладении: вкладные, данные, жалованные грамоты. Широко был востребован на Руси «Константинов дар», вошедший в 60ю главу Стоглава. Фабрикация таких подделок не была любовью к искусству, как у антикваров XVIII–XIX вв. (А. И. Бардина, И. И. Сулакадзева) или у писателей-романтиков, приверженцев неоязычества (впрочем, бескорыстность такой любви остается недоказанной). К историческим источникам средневековые переписчики относились в основном утилитарно.
Возникший в Европе и получивший распространение на Руси типографский способ размножения текстов (который не отменил рукописной репродукции) уже вполне соответствует современному пониманию публикации (в буквальном значении – приведения в известность народу, публике).
Он стал новым способом решения тех же насущных для общества задач, а также возможностью распространения нужных государству идей, часто путем публикации исторических источников.
Важно подчеркнуть, что как до изобретения книгопечатания, так и после размножение (публикация) источников долго не решало научных задач, а было подчинено задачам практическим. Эти практические задачи, продиктованные универсальными, отмечаемыми у различных цивилизаций в разное время потребностями общества, актуальны и сейчас и, вероятно, сохранятся в перспективе.
Так, незадолго до принятия Петром I императорского титула царь инициировал издание на русском и немецком языках грамоты 1514 г. императора Максимилиана I великому князю московскому Василию III[794]. Интерес к этому акту понятен – в ней московский великий князь титулуется «великим государем цесарем», «божиею милостью цесарем», т. е. оказывается на равных с императором Священной Римской империи. Публикация доказывала, что «высокое достоинство за толко уже лет всероссийским монархам надлежит». Тираж изданной грамоты составил 310 экземпляров, но и подлинник Петр I показывал, по словам ганноверского резидента Х. Ф. Вебера, «всем и каждому», предоставляя возможность снять с него копии[795]. Таким образом общественное мнение, как внутри страны, так и за рубежом, готовилось к преобразованию России в империю. Публикация исторического источника стала элементом пропаганды.
Изобретение книгопечатания никак не изменило отношения к фальсифицированным источникам: государственная или иная целесообразность не только не исключала, но, скорее, предполагала влияние на общественное сознание посредством заведомых подделок[796]. Уже упоминавшийся «Константинов дар», разоблаченный на Западе в качестве фальсификата в 1517 г., перешел в печатную Кормчую. Борьба со старообрядчеством, которая, по мнению иерархов Петровской эпохи, оправдывала любые средства, вызвала к жизни четыре (две в 1718 и две в 1720 г.) публикации известного подлога – «Соборного деяния, бывшего в Киеве 1157 г., на армянина Мартина Мниха»[797]. Вероятно, своеобразно понимаемое теми или иными энтузиастами общественное благо служит продолжению этой традиции – уже в век компьютерных технологий тиражируются доказанные подделки: от «Влесовой книги» до «Протоколов сионских мудрецов» и «Плана Даллеса».
Глава 2
Развитие научных подходов к публикации источников
Публикация источников для решения собственно научных задач ознаменовала появление археографии как вспомогательной исторической дисциплины. Так, В. Н. Татищев подготовил первые научные публикации Русской Правды и Судебника 1550 г. В дальнейшем публикациями исторических источников активно занимались Академия наук, Общество истории и древностей российских при Московском университете, Комиссия печатания государственных грамот и договоров, Археографическая комиссия, Русское историческое общество, отдельные специалисты-историки.
В XVIII–XIX вв. сложилось расширительное понимание археографии. Под таковой стали подразумевать не только и не столько публикацию, но и поиск, собирание и описание письменных источников. В таком широком смысле термин «археография» вошел в название Археографической экспедиции Императорской академии наук (1829–1834), затем – аналогичных экспедиций ряда университетов и музеев, Археографической комиссии (с 1834 г. при Министерстве народного просвещения, в дальнейшем в качестве самостоятельного научного учреждения, в 1922–1926 при РАН, с 1956 г. при Отделении истории АН СССР) и ряда аналогичных по уставным функциям структур в столицах и на периферии (Киевская, Виленская, Кавказская археографические комиссии). Уже в XX в. широта и разнородность задач археографии потребовали осмысления структуры этой дисциплины. Стали выделять полевую археографию (практическая деятельность по поиску документов «в поле», т. е. у населения той или иной территории, в провинциальных архивохранилищах), камеральную археографию (описание письменных источников, составление перечней, описей) и собственно археографию, для которой, чтобы отличать ее от вышеназванных, был введен термин «эдиционная археография». Сейчас такое членение археографии не представляется особенно удачным. Задачи, стоящие перед полевой и камеральной археографией, либо исключительно практические, либо совпадают с задачами архивной эвристики и архивоведения. Вычленение из археографии полевой и камеральной потребовало введения непереводимого на европейские языки понятия «эдиционная» – такое определение для европейских понятий dition, Editionskunde становится тавтологичным.
Для этого этапа развития археографии характерен подход к источнику как к своего рода резервуару для извлечения фактов, необходимых для историописания. Это диктовало внимание к событийной канве, представленной в публикуемых источниках, и равнодушие к иным их свойствам. Отсюда отличительная черта археографии XVIII–XIX вв. – модернизация графики и грамматического строя публикуемых источников.
Потребовался определенный уровень развития филологии, источниковедения, текстологии, вспомогательных исторических дисциплин, чтобы эти отрасли знания начали задавать свои собственные вопросы источнику, а значит – предъявлять свои собственные требования к его публикации.
Уже в самом конце XIX в. в интересной (и крайне нелицеприятной[798]) дискуссии между А. И. Юшковым[799] и Н. П. Лихачевым[800] были подняты вопросы об отборе источников для публикации, необходимости и степени вмешательства археографа в текст публикуемого источника, способе обозначения такого вмешательства и т. д.
С конца 1940х годов и до конца XX в. развитие археографии все больше диктовалось потребностями источниковедения, что повысило интерес публикаторов к внешней стороне рукописи. В основу разрабатываемых археографических принципов легла необходимость максимально представить возможности источника при его публикации для развития широкого спектра исторических дисциплин и филологии. Таким образом стандарт публикации стал включать описание иидентификацию филиграней и почерков, кодикологическое исследование рукописи, развернутый научно-справочный аппарат. Вышедшие из употребления буквы воспроизводились, а не заменялись современными, вмешательство публикатора в текст источника обозначалось условными знаками либо в примечаниях. Это делало публикацию источника достаточно трудоемким процессом, однако образцы реализации таких подходов составили золотой фонд отечественной археографии.
Между тем такой скрупулезный подход, делавший публикацию источника «штучным товаром» и требовавший серьезной профессиональной подготовки археографов, шел вразрез с идеологически ориентированными запросами к исторической науке. От историков требовалось оперативно и в больших количествах готовить разнообразные сборники источников по истории гражданской войны, истории освободительной или классовой борьбы и т. д., которые должны были издаваться солидными тиражами и широко использоваться в пропаганде. «Переведенные» с дореволюционной на современную орфографию источники должны были быть понятны максимально широкому кругу потенциальных читателей.
Следствием этих разнонаправленных тенденций стало разделение археографических подходов к публикации источников Средневековья и более поздних. В качестве условной грани в правилах, разработанных в 1948–1949 гг. И. А. Голубцовым, был выбран 1505 г. – дата смерти московского великого князя Ивана III. Произвольность этой даты (в «Правилах издания исторических документов…» 1958, 1969 и 1990 гг. она заменяется «началом XVI в.») вполне признана и, как показывают опыты последующего времени, не всеми учеными она безоговорочно принята в качестве границы, оправдывающей смену подходов.
Дело в том, что в ряде случаев вышедшие из употребления буквы важны не только для адекватной передачи грамматического строя источника и его палеографических особенностей, но и для понимания его смысла. Хрестоматийный пример этому – название «Война и мiръ», но не романа Л. Н. Толстого, а поэмы В. В. Маяковского (1916). В русском языке до его реформы в 1918 г. одинаково звучащие слова различались написанием и значением: «мiръ» («общество, окружающий мир» – делать что-либо «всемъ мiромъ», «съ мiру по нитке», «на мiру и смерть красна»), «миръ» («противоположность войне, спокойное состояние» – «лучше худой миръ, чемъ добрая ссора»), «мръ» (ароматическое масло, употреблявшееся с религиозных обрядах – «мропомазание»). Если Л. Н. Толстой, вопреки распространенной мифологеме, имел в виду противопоставление «война / не война», то В. В. Маяковский использовал здесь игру слов; при модернизации графики замысел автора совершенно не ясен читателю.
Таким образом, проблема сохранения вышедших из употребления букв или замены их современными вряд ли может быть соотнесена лишь с археографией источников Средневековья и раннего Нового времени. Принципиальное значение она приобретает при публикации источников, возникших после петровской реформы кириллического алфавита (1710)[801]. Не менее важное значение имеет сохранение вышедших из употребления букв и при публикации источников 1918–1950х годов – времени, когда активно действовали (сначала в России, затем в эмиграции) противники советской власти. Как известно, реформа русской орфографии 1918 г., хотя она и готовилась еще в дореволюционный период, воспринималась представителями политической и духовной оппозиции большевизму как инициатива советского правительства и лично наркома просвещения А. В. Луначарского. Реформа принципиально не была принята на территориях, контролируемых белогвардейскими правительствами, отвергнута и русским зарубежьем. Кроме политически мотивированного неприятия реформы (И. А. Бунин) она критиковалась с позиций лингвистики (Н. С. Трубецкой), защиты национальной культуры (И. А. Ильин), эстетики (В. И. Иванов).
Получается, что воспроизведение знаменитого высказывания И. А. Бунина («По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкаго правописанiя. Ужъ хотя бы по одному тому, что никогда человческая рука не писала ничего подобнаго тому, что пишется теперь по этому правописанiю»[802]) по нормам собственно «большевицкаго» правописания делает это высказывание нелепым и совершенно лишает его смысла.
Модернизация орфографии при публикации источников послереволюционного периода, придерживающихся дореформенных норм орфографии, – прямое насилие публикатора над источником, навязывание автору, сделавшему свой политический, культурный и т. д. выбор, представления публикатора о проблеме. В этом случае вопрос переносится из собственно научной в этическую плоскость, хотя и с точки зрения соответствия публикуемого текста оригиналу такой подход приближается к прямой фальсификации. Ведь понятно, что ни П. Н. Врангель, ни А. И. Деникин, ни иные деятели антибольшевистского движения попросту не могли в такой форме демонстрировать свою поддержку советской реформы орфографии. Таким образом, публикация документов деятелей белогвардейских правительств и русской эмиграции по нормам реформированной орфографии в качестве общего правила недопустима; оправдана она лишь тогда, когда на это «уполномочивают» источник и его автор.
Другим следствием легализации упрощенных подходов к публикации исторических источников, кроме разделения на «археографию до 1505 г.» и «археографию после 1505 г.», стало обособление с 1950х годов крупных разделов археографии на основе вида или групп видов письменных источников (в основном средневековых), выступающих объектом публикации (актовая археография, археография древнерусской литературы, летописная археография)[803]. Собственные принципы разработали археография берестяных грамот и филология – они весьма далеки от упрощения принципов публикации.
В ситуации постмодерна наблюдался отход от академических принципов археографии, сформировавшихся к середине 50х годов XX в. и совершенствовавшихся впоследствии. Характерно, что критика сложившихся подходов находится во вненаучном поле, оперируя трудностями набора, увеличением сроков подготовки публикации, возрастанием возможности ошибки при передаче текста «усложненным» способом и т. п. К аргументам, претендующим на научный характер, с определенной натяжкой можно отнести интересы некоего историка «общего профиля» – обобщенной фигуры «специалиста», которого вслед за историописателями XVIII–XIX вв. интересует лишь «фактическая сторона», «смысловое содержание» источников[804]. Тем самым предполагается (а часто и довольно агрессивно навязывается) возврат к археографии периода историописания XVIII–XIX вв. либо даже более раннего времени. Между тем историческая наука (и источниковедение в частности) прошла с тех пор большой путь. Современных историков и источниковедов как раз интересуют те особенности источников, которые предлагается игнорировать. Именно эти особенности способны содействовать приращению исторического знания средствами палеографии, дипломатики, кодикологии, филиграноведения и иных отраслей исторического знания.
Обращение к фактической стороне источника представляется тем более архаичным, что само понимание факта, как оно представлено в историографии прошлых веков, претерпело значительные изменения. Характерно, что именно теоретик и практик археографии специально обратился к изучению факта, придя, во-первых, к выводу о «невозможности чисто механического выделения отдельного факта из потока реальности», во-вторых – к осознанию его многогранности[805]. Для С. М. Каштанова факт не монолитен; исследователь выделяет «факты-поступки», «факты-стремления», «факты-стереотипы», «факты-процессы» и т. д. Не оценивая размышления автора с точки зрения науковедения (похоже, что факт в построении С. М. Каштанова коррелирует с исследовательской задачей), следует взглянуть на них с позиции археографии в ее «упрощенном» варианте. Какой же факт ожидают получить из источника, опубликованного по «упрощенным» правилам, историки «общего профиля»?
И тенденция к упрощениюархеографических подходов, и тенденция к их совершенствованию выступают хоть и разнонаправленными, но магистральными направлениями археографии. Оба направления сосуществуют в тех же познавательных полях, в которых находятся социально ориентированное историописание и научная история.
«Правила издания…» 1990 г. заслуживают отдельного рассмотрения как очевидный итог развития археографии в советский период, обобщивший опыт публикации исторических источников и во многом заложивший существующие сегодня подходы.
«Правила…» различают три типа издания источников, определяемых их целевым назначением. Цель научных изданий – не только представить текст, но и исследовать историю источника, внешние особенности рукописи, словом, представить результат источниковедческого, палеографического, текстологического, эвристического и т. д. исследования публикуемого текста. Все стороны такого комплексного исследования должен отражать научно-справочный аппарат публикации. Научно-популярный тип издания как в принципах передачи текста, так и в построении научно-справочного аппарата адаптирован для широкого круга читателей; издания учебного типа подчинены целям преподавания – они должны соответствовать учебной программе, предусматривающей выработку навыков самостоятельной работы учащихся с историческими источниками. «Правила…» подчеркивают, что не только первый, научный, тип издания, но и научно-популярный, учебный типы издания основаны на научных принципах.
Помимо типов изданий «Правила…» определяют их виды: пофондовые, тематические, издания документов одной разновидности или одного лица. Пофондовые публикации «Правила…» относят исключительно к изданиям научного типа, другие виды публикаций могут быть как научными, так и научно-популярными, учебными.
В «Правилах…» издания систематизируются также по формам и способам публикации. Они называют такие формы, как корпус (свод), серия, сборник, моноиздание, альбом, буклет, плакат, публикация в периодических и продолжающихся изданиях, публикация в приложениях к научным или научно-популярным работам либо в их тексте. По способу издания публикации разделяются на типографские (наборные) и факсимильные.
Основной объем «Правил…» посвящен технологии подготовки публикации. Они детально регламентируют такие операции, как выявление и отбор источников для публикации, выбор текста с учетом его редакций, изводов и вариантов, передача текста публикуемого источника. Важный момент публикации – правильное археографическое оформление документа, включающее составление заголовка (он должен включать указания даты, разновидности, автора и адресата, кратко характеризовать содержание) и легенды, задача которой – представить поисковые данные, архивную и археографическую судьбу, а также внешние признаки источника.
Особые требования «Правила…» предъявляют к научно-справочному аппарату издания. Он включает в себя предисловие (с исторической и археографической частями), примечания (текстуального характера и «по содержанию»; сейчас их принято называть комментариями), указатели (именной, географический, предметный), терминологический словарь, список сокращений, перечни публикуемых документов и используемых источников, оглавление.
«Правила…» 1990 г., составленные союзными научными учреждениями СССР буквально накануне распада Союза, недолго существовали в качестве нормативно-методического документа. Однако они несомненно заслуживают изучения и применения: научные принципы, на которых они основывались, высокие стандарты, задаваемые ими, делают «Правила…» актуальным ориентиром при подготовке публикаций исторических источников.
Компьютерные технологии еще кардинально не повлияли на развитие археографии, но, разумеется, предоставили широкие возможности для реализации обоих (научного и «упрощенного») подходов. В интернет-пространстве можно найти публикации исторических источников. Это страницы публикаций прошлых лет, отсканированные в форматах pdf, djvu или переведенные в формат html. Редкому и крайне дорогому в прошлом фототипическому способу публикации в Интернете соответствуют отсканированные страницы рукописей, представленные главным образом на сайтах архивохранилищ. Развитие этой практики следует приветствовать: она вводит в оборот ценные источники, труднодоступные для исследователей в регионах и за рубежом. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что задачи археографии в таком виде, в каком они были сформулированы к началу века компьютерных технологий, о чем было сказано выше, не сводятся только к воспроизведению и тиражированию рукописи.
Вместо заключения
Видовая принадлежность данного историографического источника – учебное пособие, что не предполагает наличия заключения, в котором подводятся итоги и предлагаются выводы из всего вышеизложенного.
Но в завершение курса все же надо сказать несколько слов о тех перспективных направлениях и актуальных проблемах источниковедения, которые авторам пока еще не удалось представить целостно и системно. Причина этого – скудость имеющейся исследовательской практики, не дающей возможностей для обобщений. Очевидным образом эти направления и есть «точки роста» источниковедения в ближайшей перспективе.
В учебном пособии показано, что источниковедение традиционно развивалось как источниковедение письменных исторических источников, что было обусловлено присущим европейской культуре историческим типом социальной памяти, письменным по механизму фиксации информации. Однако существенные социокультурные трансформации последней трети XX – начала XXI в., визуальный и вещный повороты в гуманитарном знании заставляют обратить специальное внимание на иные, нежели письменные, типы исторических источников. И если вовлечение в исследовательскую практику визуальных источников уже началось, и началось успешно, то вещественные источники задействованы слабо, способы вовлечения их в научный оборот не разработаны; отдельные наработки можно обнаружить лишь в сфере музейного источниковедения и в новых направлениях археологии.
Еще одна область, которая требует источниковедческой разработки и нетривиальных исследовательских подходов, – это источники на электронных носителях (в том числе доступные в Интернете). И здесь стоит выделить несколько проблем: типологические характеристики и видовая природа виртуальных источников, способы порождения и сохранения исторических источников этого типа; и отдельная проблема – введение в научный оборот и социальные практики, публикация исторических источников через Интернет.
И наконец, на методологическом уровне необходимо компаративное изучение развития источниковедения и конституализации его дисциплинарного статуса в российской/советской историографии и теории исторического дискурса и практик деконструкции текста в европейской исторической науке второй половины XX в., после лингвистического поворота. В разделе по истории источниковедения мы показали, что в начале XX в. специальное внимание к объекту исторического изучения – историческому источнику – в русской версии неокантианства, в отличие от сосредоточенности неокантианства немецкого (Баденского) на логике исторического построения, на многие десятилетия, практически на век, предопределило существенные характеристики российской/советской исторической науки. Очевидно, что после периода рецепции европейских методологических идей пришла пора более глубокой интеграции и синтеза методологических достижений российской/советской и западной исторической науки, в том числе и в сфере источниковедения.
Источники и литература
Учебники и учебные пособия
Журавлев С. В. Современные методы и новые источники изучения истории России XX века: учеб. – метод. пособие. – М.: Издво РАГС, 2010. – 196 с.
Источниковедение. Проблемные лекции: учеб. – метод. модуль / сост.: Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; отв. ред. О. М. Медушевская. – М.: Издво Ипполитова, 2005. – 526 с. – (Я иду на занятия…).
Источниковедение. Программы курсов и планы семинарских занятий: учеб. – етод. модуль / сост.: Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; отв. ред. О. М. Медушевская. – М.: Издво Ипполитова, 2004. – 286 с. – (Я иду на занятия…).
Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РГГУ, 1998. – 701 с. – Переизд.: 2000; 2004.
Источниковедение истории СССР: учебник / под ред. И. Д. Ковальченко. – М.: Высш. шк., 1973. – 559 с.
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / под общ. ред. А. К. Соколова. – М.: РОССПЭН, 2004. – 743 с.
Кабанов В. В. Источниковедение истории советского общества: курс лекций. – М.: РГГУ, 1997. – 385 с.
Курс источниковедения истории СССР: учебник / ред. Ю. В. Готье. – М.: ОГИЗ, 1940. – Т. 1: Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. / М. Н. Тихомиров. – 256 с.; Т. 2: Источниковедение истории СССР XIX в. (до начала 90х годов) / С. А. Никитин. – 227 с.
Румянцева М. Ф. Теория истории: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 319 с.
Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в.: учеб. пособие. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 495 с.: ил.
История источниковедения
Источники
Бернгейм Э. Введение в историческую науку / пер. с нем. В. А. Вайнштока; под ред. В. В. Битнера. – 2е изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 71 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).
Бернхейм Э. Введение в историческую науку / пер. с нем. В. А. Вейнштока; под ред. В. В. Битнера. – СПб.: Вестн. знания (В. В. Битнера), 1908. – 71 с.
Бернхейм Э. Введение в историческую науку / пер. с нем. под ред. С. Е. Сабинина. – М.: М. Н. Прокопович, 1908. – 139 с.
Бернхейм Э. Философия истории, ее история и задачи / пер. с нем. А. А. Рождественского. – М.: Н. Н. Клочков, 1910. – 114 с.
Бестужев-Рюмин К. Н. Методы исторических занятий // Журнал Министерства народного просвещения. – 1887. – № 2. – С. 291–319.
Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. – СПб.: тип. А. Траншеля, 1872–1885. – 2 т.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр. Е. М. Лысенко; примеч. и ст. А. Я. Гуревича. – М.: Наука, 1986. – 256 с. – (Памятники ист. мысли).
Дройзен И. Г. Очерк историки // Дройзен И. Г. Историка / пер. с нем. Г. И. Федоровой; под ред. Д. В. Скляднева. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – С. 449–580.
Дройзен И. Г. Энциклопедия и методология истории // Дройзен И. Г. Историка… – С. 39–448.
Источниковедение: теоретические и методические проблемы: сб. ст. / отв. ред. С. О. Шмидт. – М.: Наука, 1969. – 511 с.
Кареев Н. И. Из лекций по общей теории истории. – СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1913. – Ч. I: Историка (Теория исторического знания). – VI, 320 с.
Кареев Н. И. Историка (Теория исторического знания). – 2е изд. – Пг.: тип. М. М. Стасюлевича, 1916. – VI, 281 с.
Ключевский В. О. Источниковедение: источники русской истории // Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 7. – С. 5–83.
Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой. – СПб.: О. Н. Попова, 1899. – 280 с. – (Образоват. б-ка; сер. 2).
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. – СПб.: Студ. изд. ком. при Ист. – филол. фак., 1910–1913. – 2 вып. – 802 с.: ил.
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2 т. / подгот. текста: Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РОССПЭН, 2010. – 2 т. – (Б-ка отеч. обществ. мысли с древнейших времен до начала XX века).
Фриман Э. Методы изучения истории / пер. с англ. П. Николаева. – 2е изд. – М.: К. Т. Солдатенков, 1893. – 344 с.
Фриман Э. Методы изучения истории / пер. с англ. П. Николаева. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 199 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).
L'Histoire et ses mthodes / sous la dir. de Ch. Samaran, de l'Institut. – Nouv. d. – Paris: Gallimard, 1961. – XIII, 1771 p.: ill.
Литература
Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин / редкол.: М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. – М.: РГГУ, 2010. – 434 c.
Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: ст. и материалы / отв. ред.: М. Ф. Румянцева, Р. Б. Казаков. – М.: РГГУ, 2011. – 506 с.: ил.
Медушевская О. М. История источниковедения в XIX–XX вв. – М.: МГИАИ, 1988. – 71 с.
Медушевская О. М. Источниковедение в России XX века: научная мысль и социальная реальность // Советская историография / под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. – М.: РГГУ, 1996. – С. 42–77.
Медушевская О. М. Источниковедение в системе гуманитарного образования: концепция и программа курса / О. М. Медушевская, В. А. Муравьев // Труды Историко-архивного института / редкол.: Старостин Е. В. (гл. ред.) и др. – М.: РГГУ, 1996. – Т. 33. – С. 114–131.
Медушевская О. М. Современное зарубежное источниковедение. – М.: Высш. шк., 1983. – 147 с.
Медушевская О. М. Феноменология культуры: концепция А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени // Исторические записки. – М.: Наука, 1999. – Т. 2 (120). – С. 100–136.
Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Эпоха капитализма. – Ростов н/Д: Издво Ростов. ун-та, 1991. – 664 с.
Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Эпоха феодализма. – Ростов н/Д: Издво Ростов. ун-та, 1989. – 414 с.
Простоволосова Л. Н. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин: учеб. пособие / Л. Н. Простоволосова, А. Л. Станиславский; предисл. Ю. Н. Афанасьева; отв. ред. О. М. Медушевская. – М.: МГИАИ, 1990. – 71 с.: ил.
Румянцева М. Ф. Эпистемологическая концепция А. С. Лаппо-Данилевского и современная источниковедческая парадигма // Источниковедение: поиски и находки: сб. науч. тр. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2000. – Вып. 1. – С. 3–13.
Теория источниковедения
Источники
Вопросы методологии исторической науки: сб. ст. / редкол.: Б. А. Белый и др. – М.: МГИАИ, 1967. – 199 с. – (Труды / Моск. гос. ист. – арх. ин-т; т. 25).
Грицкевич В. П. Теория и история источниковедения: пособие для студ. / В. П. Грицкевич, С. Б. Каун, С. Н. Ходин. – Минск: БГУ, 2000. – 221 с.
Источниковедение: теоретические и методические проблемы: сб. ст. / отв. ред. С. О. Шмидт. – М.: Наука, 1969. – 511 с.
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – 2е изд., доп. – М.: Наука, 2003. – 486 с.
Ковальченко И. Д. Исторический источник в свете учения об информации (к постановке проблемы) // История СССР. – 1982. – № 3. – С. 129–148.
Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. – М.: Наука, 1975. – 281 с.
Литература
Беленький И. Л. Разработка проблем теоретического источниковедения в советской исторической науке (1960–1984 гг.): аналит. обзор. – М.: ИНИОН, 1985. – 69 с. – Библиогр.: с. 43–69 (350 назв.).
Вжосек В. Культура и историческая истина / пер. с пол. К. Ю. Ерусалимский. – М.: Кругъ, 2012. – 334 с.
Казаков Р. Б. Я иду на занятия… по методологии и теории истории: учеб. – метод. модуль / Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РГГУ: Ипполитов, 2002. – 199 с.
Медушевская О. М. А. С. Лаппо-Данилевский и современное гуманитарное познание // Археографический ежегодник за 1994 год. – М.: Наука, 1996. – С. 238–255.
Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. – М.: РГГУ, 2008. – 361 с.: ил.
Медушевская О. М. Теория исторического познания: избр. произведения / сост. И. Л. Беленький. – СПб.: Университетская книга, 2010. – 572 с.: ил.
Теория и метдология исторической науки: терминол. слов. / отв. ред. А. О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014. – 575 с.
Источники российской истории XI–XVII веков
Источники
Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. / под ред. Д. С. Лихачева и др. – СПб.: Наука, 1997–2013. – 17 т.