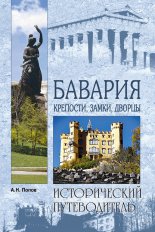Источниковедение Коллектив авторов

Возражают против слова «свадьба». Это возражение серьезнее. Но уверяю Вас, что Муха венчалась в Загсе. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба. А что такое свадьба для ребенка? Это пряники, музыка, танцы. Никакому ребенку фривольных мыслей свадьба не внушает.
«Где гарантия, – возмущался детский писатель, – что в следующий раз тот же Гублит не решит, что клоп – переодетый Распутин, а пчела – переодетая Вырубова?»[478]
Цензорским эксцессам способствовал низкий культурный уровень сотрудников Главлита, при подборе которых основное значение имело не образование, а рекомендации партийных органов. Опытные авторы и редакторы, со своей стороны, вырабатывали чутье на будущие придирки, сознательно обходя политически неоднозначные сюжеты, а те, кому такая самоцензура претила, прекращали всякое взаимодействие с официальными издательскими структурами Советского Союза, пополняя своими сочинениями пласт неофициальной литературы и публицистики, распространявшейся в копиях, изготовленных на печатной машинке (самиздат).
Итогом продолжительного цензурного вмешательства в журналистику и литературу стало выхолащивание их содержания. Официальная печать и подцензурная литература Советского Союза реагировали на общественно значимые события, может, и «взвешеннее», но существенно медленнее и осторожнее, чем это делали журналисты и писатели на Западе. Многие болевые точки в жизни страны оставались не замеченными вплоть до последних лет существования СССР.
Формирование новой творческой интеллигенции
Цензура была инструментом подавления. Однако советская власть не ограничивалась сугубо репрессивными мерами по отношению к творческой интеллигенции. Напротив, наряду с системой подавления действовала разветвленная система привлечения новых кадров и поощрения «прогрессивных» авторов за лояльность.
В области журналистики основным инструментом привлечения новых кадров было движение рабочих и сельских корреспондентов, сокращенно – рабселькоров. Рабселькорами назывались рядовые рабочие и крестьяне, которые в порядке собственной инициативы, на безвозмездной основе принимали на себя обязанность сообщать в те или иные периодические издания о событиях и проблемах в жизни своего города, села, завода, колхоза и т. п. Этот феномен зародился еще до революции, когда партийная (в том числе большевистская) пресса широко использовала в своей работе сообщения с мест, под которые отводились специальные рубрики («письма с фабрик и заводов»). Практика была высоко оценена В. И. Лениным и сохранилась после прихода большевиков к власти. Центральные и местные газеты неоднократно получали указания расширять рабселькоровское движение, развитие которого пользовалось вниманием первых лиц государства[479]. Для руководства деятельностью рабочих и сельских корреспондентов систематически организовывались их совещания и слеты – всесоюзные (в 1923, 1924, 1926, 1928, 1931 гг.) и местные. Издавались специальные журналы, посвященные развитию рабселькоровского движения, – «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Селькор», «Красная печать».
Пережив бурный рост в 1920е годы, рабселькоровское движение пришло в упадок в 1930е, что очевидным образом было связано с изменением политической обстановки в стране. Критическая составляющая, характерная для материалов рабселькоров в 1920е годы, уже не пользовалась таким благоволением руководства страны, как раньше, а новые функции рабселькоров как «организаторов масс для дела социалистического строительства, выполнения производственных планов и развернутого наступления на классовых врагов»[480] требовали иного личностного склада. Вошла в практику публикация статей, подписанных именами местных ответственных работников – руководителей фабрик и отдельных цехов, председателей колхозов и т. п.
Попытка оживить институт рабселькоров была предпринята во второй половине 1950х годов. ЦК КПСС принимал постановления «Об улучшении руководства массовым движением рабочих и сельских корреспондентов советской печати» (1958), «О дальнейшем развитии общественных начал в советской печати и радио» (1960), «О повышении роли районных газет в коммунистическом воспитании трудящихся» (1968) и т. д. В местных газетах для рабселькоровских заметок отводились порой целые полосы. До известной степени активность рабселькоров заменяла слабо развитую в советской административной системе обратную связь между населением и властью. Однако официозная и идеологическая составляющая журналистики все равно превалировала над непосредственными наблюдениями с мест, снижая авторитет рабочих и сельских корреспондентов.
Более сложной была история взаимоотношений власти и сообщества литераторов. В советском литературоведении полагалось связывать мысль о создании «партийной литературы» со статьей В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», опубликованной в ноябре 1905 г. в газете «Новая жизнь». Лидер большевиков действительно сформулировал взаимоотношения партии и писателей с исчерпывающей точностью:
Литераторы должны войти непременно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами – все это должно стать партийным, подотчетным. За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее контролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить живую струю живого пролетарского дела, отнимая, таким образом, всякую почву у старинного, полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает[481].
Однако практической работой по созданию партийной литературы занимались не только большевики, но и другие революционные партии. Так, в 1912 г. по инициативе одного из лидеров партии эсеров В. М. Чернова был создан журнал «Заветы», в котором печатались М. Горький, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. А. Блок, Е. И. Замятин, А. М. Ремизов и другие крупные литераторы того времени. Сотрудничество фигур такого масштаба превращало эсеровское издание в заметное явление на литературной карте страны. В то же время В. М. Чернов называл «Заветы» «идеологическим журналом» и рассматривал его как один из инструментов обновления «партийного миросозерцания» и средство воспитания «молодых побегов от старых корней эсеровства»[482]. Иными словами, идея о политическом содержании литературного творчества была вообще характерной для революционных партий начала XX в.
Первой организационной формой большевистского партийного искусства стал Пролеткульт, представлявший собой сеть «пролетарских культурно-просветительных организаций». История Пролеткульта началась еще в сентябре 1917 г., когда по инициативе профсоюзов была созвана Первая конференция пролетарских культурно-просветительских организаций. Неудивительно, что уже к 1919 г. по всей стране действовало около 100 местных пролеткультов, в работе которых участвовало порядка 70–80 тыс. человек. Идеологическую основу этой деятельности составляло разработанное Г. В. Плехановым и А. А. Богдановым представление о классовой природе всякой культуры, а целью, соответственно, была «выработка самостоятельной духовной культуры» рабочего класса путем «организации коллективного опыта» трудящихся. Средствами для достижения этой цели стали театры, клубы, изобразительны и поэтические студии, а также литературные журналы («Пролетарская культура», «Грядущее», «Горн», «Гудки» и др.), которые должны были дать площадку для свободного творчества пролетарских масс. Пользуясь этими новыми возможностями, массы, как считалось, породят новое по форме и содержанию искусство. Исследователи часто характеризуют эстетическую позицию организаторов Пролеткульта как огульное отвержение всей предшествующей культуры. В значительной степени подобные оценки опираются на то, как писали о себе сами лидеры пролеткультовского движения. В частности, в стихотворении «пролетарского поэта» В. Т. Кириллова «Мы» (1918) есть такие строки:
- Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
- Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»;
- Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
- Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
Однако такое самопозиционирование было связано не столько с «варварством» и недостатком образования, сколько с представлением о несоответствии прежней культуры изменившимся социальным условиям (как написано в следующей строфе того же стихотворения В. Т. Кириллова: «Девушки в светлом царстве Грядущего / Будут прекрасней Милосской Венеры…»). Эстетическая программа Пролеткульта представляет собой радикализированную версию футуризма, представители которого также говорили об устаревании прежнего художественного языка в новой исторической обстановке.
Важным элементом идеологии Пролеткульта было представление о независимости рабочей культуры от каких-либо внешних воздействий, включая воздействие со стороны государства. Новое должно было органически вырастать «снизу» и не нуждалось в руководстве каких-либо официальных структур, включая Народный комиссариат просвещения. Требования автономии вызывали неприятие у руководства страны, видевшего в Пролеткульте прежде всего орудие «классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры» и считавшего недопустимой тенденцию пролеткультовцев «замыкаться в свои обособленные организации»[483]. Следствием этого концептуального расхождения стала критика, которой подвергались деятельность Пролеткульта и воззрения его лидеров в публицистике и официальных документах РКП(б), в том числе в письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах», опубликованном в газете «Правда» 1 декабря 1920 г. Виднейшие деятели Пролеткульта, со своей стороны, разочаровались как в политике советской власти (особенно после введения нэпа, воспринятого ими как возвращение к буржуазному обществу), так и в собственной эстетической программе. Часть литераторов откололась от движения, образовав литературную группу «Кузница», а оставшиеся не смогли спасти Пролеткульт от стагнации. В 1925 г. оставшиеся организации Пролеткульта были переподчинены профсоюзам, чтобы вплоть до своей ликвидации в 1932 г. служить центрами организации художественной самодеятельности рабочих.
Следующая попытка сплотить литераторов вокруг «дела революции» была связана с созданием Ассоциаций пролетарских писателей.
Первая такая ассоциация возникла на базе группы «Кузница» в ходе I Всероссийского съезда пролетарских писателей, состоявшегося в октябре 1920 г. Однако сформированная съездом организация оказалась недолговечной и большой роли в литературном процессе не сыграла.
В марте 1923 г. в Москве прошла Первая Московская конференция пролетарских писателей, на которой было объявлено о создании их Московской ассоциации (МАПП). Ключевым органом МАПП стал литературно-критический журнал «На посту», редакционная программа которого, оглашенная в первом номере издания, сочетала унаследованный от Пролеткульта классовый подход к литературе с нападками на так называемых попутчиков, т. е. тех писателей и поэтов, кто не противопоставлял себя революции, но и не присоединялся решительно к партии, отстаивая независимость искусства от политики. «Напостовцы» обличали «попутчиков» в преклонении «перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы»[484] и требовали административным путем лишить их доступа к печатном станку, расчищая пространство для нового, подлинно пролетарского творчества. По образцу московской создавались аналогичные ассоциации в других городах, также издававшие свои журналы. С июня 1924 г. у МАПП появился еще один печатный орган – журнал «Октябрь», а в 1925 г. были образованы Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей (ВАПП) и ее наиболее мощный российский «отряд» – Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), взявшие на себя руководство работой региональных и городских писательских ассоциаций, а также рабселькоровским движением и рабочими литературными кружками. В руководство ВАПП и РАПП в разные годы входили Л. Л. Авербах (долгое время – генеральный секретарь Всесоюзной ассоциации), Д. Бедный, А. А. Фадеев, Д. А. Фурманов, Ф. В. Гладков и др.; повседневная жизнь МАПП послужила прототипом писательской организации МАССОЛИТ, фигурирующей в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. Активность рапповских критиков в деле обличения разного рода «врагов» быстро привела к тому, что понятия «рапповец» и «рапповский» стали нарицательным обозначением вульгарно-социологического подхода к литературе.
Радикальная позиция журнала «На посту» пользовалась определенной поддержкой в руководстве большевистской партии, в частности у Л. Д. Троцкого. В то же время рапповская критика писателей-«попутчиков» (И. Э. Бабеля, Б. А. Пильняка, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского и др.) имела откровенно уничижительный характер. Более того, журнал «На посту» атаковал и литераторов-коммунистов, у которых не сложились отношения с руководством ВАПП; в частности, объектом критики оказался В. В. Маяковский. В ответ на перегибы рапповцев 18 июня 1925 г. было принято постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», где объяснялось, среди прочего, что многих «попутчиков» можно назвать «квалифицированными“ специалистами” литературной техники», вследствие чего устанавливалось следующее:
Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии[485].
Постановление вызывало пересмотр позиций РАПП. Наиболее экстремистски настроенные критики образовали так называемое левое меньшинство организации, остальные, включая А. А. Фадеева и Д. А. Фурманова, приняли новые политические установки. Однако работа РАПП оставалась неэффективной: организация объединяла лишь часть литераторов, ее идеология была слабо проработана в философском отношении, а по художественным достоинствам сочинения рапповцев, как правило, уступали творчеству прозаиков и поэтов, занесенных в «попутчики». Весной 1928 г. состоялся I Всесоюзный съезд пролетарских писателей, на котором была осуществлена структурная реформа системы писательских ассоциаций. Каждая союзная республика получила свою ассоциацию, а общая координация литературной работы была возложена на Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП). Но и в реформированном виде ассоциации пролетарских писателей не справлялись со своими задачами, которые становились особенно сложными в связи с провозглашенным партией курсом на индустриализацию и коллективизацию. 23 апреля 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», в соответствии с которым все ассоциации пролетарских писателей были ликвидированы и началась работа над созданием писательской организации нового типа – Союза писателей СССР. Эта работа завершилась созывом I Всесоюзного съезда писателей, прошедшего в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 г. На съезде был утвержден устав и сформировано первое правление новой организации, просуществовавшей вплоть до распада СССР в 1991 г. Главным докладчиком Съезда и первым председателем правления СП СССР стал вернувшийся в 1932 г. из эмиграции знаменитый русский писатель М. Горький.
Характерной чертой нового писательского объединения была гибкость его идеологической основы. Участники I Съезда писателей провозгласили верность творческому методу, получившему название социалистический реализм. Однако содержание этого метода было сформулировано в предельно общих категориях:
Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью[486].
Таким образом, сущность метода можно было перетолковывать в зависимости от изменявшихся политических обстоятельств.
Решительному пересмотру подверглась позиция прежних писательских организаций по отношению к классическому наследию, к шедеврам мировой и русской литературы. Нигилистическое отвержение предшествующих достижений, характерное для Пролеткульта и РАПП, сменилось требованием учиться у великих реалистов прошлого в том, как они изображали героя и окружающую его социальную среду. Манера делить писателей на «реакционных» и «прогрессивных» сохранялась, однако критерием выступала уже не классовая принадлежность, а соответствие творчества текущим идеологическим установкам. Эта гибкость дополнительно расширяла кадровую базу Союза, в который входило и подавляющее большинство членов расформированных ассоциаций пролетарских писателей, и недавние мишени рапповской критики – уже упомянутый М. Горький, А. Н. Толстой, а также М. М. Зощенко, Б. Л. Пастернак, И. Э. Бабель и др.
Важнейшей чертой Союза писателей была его разветвленная управленческая структура. При правлении СП СССР действовали Литературный институт, где можно было получить высшее образование, издательство «Советский писатель», Литературная консультация для начинающих авторов, Всесоюзное бюро пропаганды художественной литературы, а при местных организациях существовали «секции молодых писателей», работа в которых становилась первым шагом на пути в сообщество пишущих. Органами Союза писателей либо его республиканских или региональных организаций были ведущие литературно-критические журналы – «Новый мир» (с 1947 г.), «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Наш современник», «Вопросы литературы», «Сибирские огни» и др. Таким образом, союз брал на себя обеспечение всех этапов творческого цикла – от формирования замысла до публикации и последующей защиты авторских прав. Более того, Союз писателей сохранил и расширил все достижения предшествующих литераторских организаций в плане обустройства писательского быта. При его правлении был создан Литературный фонд, по линии которого велось жилищное строительство, создавались дачные кооперативы, действовали медицинские, санаторно-курортные учреждения и пансионаты («дома творчества писателей»). Аналогичные структуры существовали на республиканском и региональном уровнях. В результате членство в Союзе писателей гарантировало получение определенного уровня достатка, а исключение влекло за собой автоматическую потерю доступа к сопряженным со статусом писателя материальным благам. Таким образом, лояльность писателей подкреплялась мощными финансовыми стимулами, что превращало писательство в престижную форму карьеры.
В целом, несмотря на неудачные эксперименты 1920х годов, советской власти удалось создать эффективную структуру управления «пишущим сословием», позволявшую привлекать к «делу строительства социализма» людей с самыми разнообразными творческими установками. Обращение к жанровой структуре и содержанию возникавших в результате произведений позволит понять, каковы были результаты столь плотного управляющего воздействия на творческий процесс.
3.4.2. Советская периодическая печать: группы изданий и особенности содержания
Борьба большевиков с оппозиционной печатью привела к закрытию множества авторитетных периодических изданий. Наряду с уже упоминавшимися основными газетами в конце 1917 или в течение 1918 г. прекратили свое существование журналы «Нива», «Вестник Европы», «Русские записки» (как в последние годы издания назывался журнал «Русское богатство»), «Русская мысль» и др. Те немногие из газет и массовых журналов, которые пережили революцию, либо имели преимущественно досуговую направленность («Вокруг света»), либо сохранились постольку, поскольку перешли под контроль большевиков («Известия»), либо с самого начала существовали в качестве партийных изданий большевистской фракции РСДРП («Правда», «Работница»). Традиции дореволюционной журналистики в какой-то степени сохранялись на территориях, находившихся под властью белых правительств, однако по мере уничтожения последних монополия большевиков на печатное слово распространилась на всю страну. Попытки изменить ситуацию и возродить независимую периодику предпринимались уже в 1960–1970е годы, когда в рамках самиздата появился информационный бюллетень «Хроника текущих событий», а также ряд журналов – «Часы», «Вече» и др. Однако эти издания распространялись только в копиях, изготовленных кустарным способом на печатных машинках, и только среди узкого круга доверенных лиц. Полномасштабное освобождение от партийно-государственной монополии на средства массовой информации наступило только в конце 1980х.
В отсутствие частной периодики издателями газет и журналов выступали органы власти, центральные и местные комитеты КПСС и Коммунистического союза молодежи, другие общественные организации, научные учреждения, а также администрации предприятий. Административная принадлежность периодических изданий служит наиболее естественным основанием для их классификации. С этой точки зрения выделяются восемь основных групп[487].
К первой группе – центральной партийной печати – относятся газеты «Правда», «Беднота», «Рабочая газета» (первоначальное название – «Рабочий»), «Крестьянская газета», «Культура и жизнь», «Сельская жизнь», «Социалистическая индустрия», «Советская культура», журналы «Коммунист» (до 1952 г. – «Большевик»), «Партийная жизнь», «Агитатор», «Вопросы истории КПСС», «Огонек», «Работница», «Крокодил», «Крестьянка»[488] и ряд других, выходивших в издательстве ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС «Правда». Формальный статус перечисленных изданий неодинаков. Некоторые («Правда», «Беднота», «Рабочая газета») считались изданиями ЦК, некоторые выходили под эгидой отделов ЦК (газету «Культура и жизнь» выпускал отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС), некоторые были органами структур, действовавших при ЦК (в частности, журнал «Вопросы истории КПСС» был органом Института марксизма-ленинизма), а некоторые создавались как приложения к печатным органам ЦК, а затем обрели самостоятельность. Читательская аудитория центральной партийной печати также была исключительно широкой – от «ответственных работников», которым адресовались аналитические журналы, до широких слоев населения, читавших «Правду», «Огонек», «Работницу» или «Крестьянку». Разнообразие и миллионные тиражи партийных изданий должны были обеспечить идеологическую обработку всех граждан страны, а яркий состав авторов (особенно в 1930–1940е годы, когда в партийной печати выходили статьи М. Е. Кольцова, Б. Н. Полевого, К. М. Симонова, И. Г. Эренбурга и др.) сделал публицистику «Правды», «Огонька» и других подобных изданий значимым явлением советской культуры. Однако официальный статус флагмана советской журналистики ограничивал партийные издания в выборе сюжетов и стилистических средств. Тематика «Правды» и родственных ей изданий была ограниченной, а язык постепенно выхолащивался. К концу советского периода популярность партийной периодики ощутимо упала.
Вторую группу периодических изданий образовывали издания центральных органов советской власти. Основным из этих изданий была массовая общественно-политическая газета «Известия советов народных депутатов СССР» (о 1923 г. – «Известия ВЦИК», в 1923–1938 гг. – «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», в 1938–1977 гг. – «Известия советов депутатов трудящихся СССР»). Находясь в подчинении у высшего органа государственной власти, «Известия» выступали в роли официального периодического издания, публикуя тексты важнейших законодательных актов[489]. В то же время на страницах газеты публиковались и «обычные» журналистские материалы – аналитические статьи, очерки, заметки и т. п. Более того, в определенные периоды (в частности, в конце 50х – первой половине 60х, когда газету возглавлял А. И. Аджубей) «Известия» выгодно отличались от официозной «Правды» в тематическом и стилистическом отношении. В 1960 г. у газеты появилось иллюстрированное воскресное приложение «Неделя», ставшее первым представителем данного формата периодических изданий в послесталинской журналистике. С ноября 1917 г. наряду с газетой «Известия» выходил журнал «Власть Советов», в дальнейшем существовавший под названиями «Советы депутатов трудящихся» и «Советы народных депутатов». На страницах этого издания, адресованного прежде всего профессиональным управленцам, размещались аналитические статьи о теории и практике советского государственного строительства, а иногда и законопроекты, выносившиеся на широкое обсуждение. Наконец, в систему изданий органов советской власти входили отраслевые периодические издания, выпускавшиеся при Совнаркоме (Совмине) или отдельных министерствах и ведомствах, – газеты «Экономическая жизнь», «Торгово-промышленная газета» (другие названия – «За индустриализацию», «Индустрия»), «Сельскохозяйственная газета», «Красная звезда» и т. п. Содержание отраслевых газет и журналов воплощало в себе специфику работы издававших их ведомств.
К изданиям органов власти тесно примыкали издания профессиональных союзов, представляющие собой третью группу периодических изданий советского периода. Органами ЦК ВЦСПС были газета «Труд» и журнал «Вестник труда». Кроме того, издавались газеты и журналы по отраслям – «Гудок» (газета ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта), «Учительская газета» (орган ЦК профсоюза работников просвещения), или, например, газета «Пищевик» (орган ЦК профсоюза работников пищевой промышленности). Характерной и едва ли возможной вне специфического советского контекста тенденцией в развитии профсоюзной прессы было ее постепенное превращение в совместные издания ЦК отраслевых профсоюзов и соответствующих министерств. Так, «Гудок» превратился в объединенный орган ЦК профсоюза железнодорожников и Министерства путей сообщения, «Учительская газета» издавалась одновременно под эгидой профсоюза и Министерства просвещения и т. д. В силу своей специфики профсоюзные газеты публиковали прежде всего материалы, посвященные жизни курируемых ими отраслей.
Четвертая группа советских периодических изданий – это издания центральных органов Коммунистического союза молодежи. Наиболее известное из периодических изданий комсомола – газета «Комсомольская правда», впервые вышедшая в свет 24 мая 1925 г. Наряду с этой основной газетой ЦК ВЛКСМ выпускал ряд журналов: общественно-политических («Молодой коммунист»), литературно-художественных («Смена», «Юность») и научно-популярных («Знание – сила», «Техника – молодежи»), а также комплекс изданий, адресованных детям и подросткам: газеты «Пионерская правда» (совместно с Центральным советом Всесоюзной пионерской организации), журналы «Пионер», «Костер» (одно время совместно с Союзом писателей СССР), «Юный техник», «Юный натуралист», «Мурзилка» и др. Основную тематику перечисленных газет и журналов составляла, выражаясь языком эпохи, «борьба советской молодежи на всех фронтах социалистического строительства»[490]. Вместе с тем молодежный статус и ориентация на соответствующую аудиторию требовали предоставлять слово начинающим авторам и знакомить читателя с новыми тенденциями в общественной жизни, науке и искусстве. На страницах «комсомольской» печати 1960–1970х годов публиковались лучшие образцы отечественной и переводной фантастики (К. Булычев, А.Н. и Б. Н. Стругацкие, Ф. Дик, А. Кларк, С. Лем), познавательные очерки об интересных явлениях природы и технических новинках. Относительно широкая жанровая и стилистическая палитра делала молодежную периодику популярной среди читателей всех возрастов.
К пятой группе советской периодики относятся периодические издания общественных организаций – Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (Советского Красного Креста), Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Союза воинствующих безбожников, Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим) и его преемника Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и т. п. Тематика такого рода изданий определялась сферой деятельности курирующей их организации: так, Общество политкаторжан выпускало историко-революционный журнал «Каторга и ссылка», Союз воинствующих безбожников публиковал антирелигиозную газету «Безбожник» и спектр атеистических журналов, рассчитанных на все слои населения, и т. п. Особое значение для массовой культуры приобрели журналы, выпускавшиеся ДОСААФ, в частности автомобильный журнал «За рулем», где наряду с неизбежными пропагандистскими статьями о задачах советских автомобилистов накануне очередного съезда партии публиковались полезные сведения о новинках автомобильной промышленности, советы по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также редкие материалы по истории автомобильного дела. В свою очередь, читателям из интеллигенции адресовались газеты и журналы, выпускавшиеся творческими союзами – Союзом писателей и его региональными организациями, Союзом художников, Союзом кинематографистов, театральными обществами. Эти издания (журналы «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Наш современник», «Литературная газета» и др.) заняли нишу, в дореволюционное время принадлежавшую общественно-литературным журналам вроде «Отечественных записок» или «Современника». Как и профсоюзная периодика, издания советских общественных организаций часто перерастали в совместные с отраслевыми ведомствами, в частности журнал ДОСААФ «Радио» издавался совместно с Министерством связи, а журналы Союза кинематографистов «Искусство кино» и «Советский экран» – вместе с Государственным комитетом по кинематографии при Совмине СССР.
Шестую группу советской периодики составляют издания научных учреждений и обществ[491]. Научные издания – нетипичная разновидность периодической печати. Их материалы ориентированы на узкое сообщество специалистов в той или иной области знания и подаются в труднодоступной для массового читателя форме. Как следствие, аудитория научных изданий по определению ограничена, тиражи невелики, а влияние за пределами малочисленных академических сообществ незначительно. Этот специфический статус несколько затормозил советизацию российской научной периодики, выведя данную задачу из разряда первоочередных для новой власти. Некоторые научные журналы, основанные и получившие признание еще в царской России («Журнал Русского физико-химического общества» и др.), продолжили выходить как минимум до конца 1920х годов и в дальнейшем были не ликвидированы, а реорганизованы с сохранением преемственности[492]. Отдельные журналы, приостановленные во время Гражданской войны, возобновили выход по ее завершении («Бюллетень Московского общества испытателей природы»). Те же из дореволюционных научных изданий, которые закрылись в первое десятилетие советской власти, сделали это скорее из-за тягот разрухи и эмиграции значительной части авторов, чем под непосредственным давлением властей. Задача формирования коммунистической науки, способной противостоять «объективизму» старой профессуры, возлагалась в 1920е годы на вновь созданные печатные органы, выходившие под эгидой Социалистической (с 1924 г. – Коммунистической) академии, Института К. Маркса и Ф. Энгельса,Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б), – журналы «Пролетарская революция», «Под знаменем марксизма», «Вестник Коммунистической академии» и т. п.
К началу 1930х ситуация изменилась. От политики постепенного замещения дореволюционных исследовательских кадров новыми власть перешла к планомерному уничтожению «буржуазной науки» вместе с ее институтами, в числе которых оказалась и научная периодика. Поиск оптимальной для новых условий структуры научной периодической печати занял несколько десятилетий, а результатом его стала своеобразная иерархия изданий, оформившаяся к концу 1950х годов. Академия наук СССР выпускала собственные «Известия» (в ряде серий, разграниченных по дисциплинарному признаку), адресованные специалистам, и «Вестник», имевший более популярный характер. Научно-исследовательские институты публиковали журналы по профилю своей деятельности (в гуманитарных науках, в частности, выходили журналы «Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Вопросы языкознания», «История СССР», «Народы Азии и Африки», «Новая и новейшая история», «Советская археология», «Советское славяноведение» и др.). Отличительной чертой советской научной периодики была ее слабая вовлеченность в международный информационный обмен, особенно заметная в гуманитарных областях знания. В то время как на Западе научная периодика почти полностью утратила национальный характер, отбирая авторов со всего мира, советские издания предоставляли свои страницы почти исключительно местным специалистам, статьи которых не всегда сопровождались аннотациями на каком-либо из иностранных языков. В совокупности с идеологическим контролем, осуществлявшимся уже на этапе отбора материалов редколлегией, такая изоляция негативно сказывалась на содержании отечественных журналов, снижая их авторитет в и без того ограниченной читательской среде.
Седьмую группу советской периодической печати составляют местные издания, к числу которых относятся газеты и журналы республиканского, краевого, областного (губернского), районного (уездного), а в крупнейших городах – и городского уровней. С формально-правовой точки зрения местные издания представляли собой, как правило, объединенные органы партийных и советских организаций соответствующего региона, с чем связано другое название этой группы изданий – объединенные[493]. К числу объединенных принадлежат, например, газеты «Московская правда», «Полярная правда» (Мурманск), «Красноярский рабочий» и т. п. В содержательном отношении местная периодика отличалась от центральной существенно бльшим вниманием к вопросам транспорта, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения; принципиальные идеологические статьи, материалы по вопросам общегосударственной значимости и сведения о международной жизни публиковались в такого рода изданиях в ограниченном числе и с учетом местной специфики. В союзных и автономных республиках, а также в автономных областях и национальных (автономных) округах наряду с русскоязычными выходили периодические издания на языках народов, населяющих эти территориальные единицы. На уровне союзных республик число изданий на языках местного населения могло достигать десятков названий[494], а видовая структура напоминала видовую структуру общесоюзной периодической печати (центральные партийные и советские, профсоюзные, комсомольские издания и т. д.); если же народ был малочисленным и не мог обеспечить спрос хотя бы на одно издание, то под публикации на национальном языке отводились отдельные номера, полосы или колонки в изданиях на русском языке. В ряде случаев региональные издания, созданные по инициативе партийных и советских структур, становились важнейшими центрами кристаллизации национальной литературы. В частности, в конце 40х годов в газете «Советская Чукотка» началась творческая карьера известного чукотского писателя Ю. С. Рытхэу.
Наконец, восьмая группа советской периодики – это многотиражные издания, или, в просторечии, многотиражки. Многотиражные издания (в большинстве случаев это были газеты) выпускались средствами оперативной полиграфии на предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях и учебных заведениях. Соучредителями многотиражек выступали администрация, первичные партийная и комсомольская организации, а также местный комитет отраслевого профсоюза. Основными авторами такого рода изданий должны были быть сами работники издающего их предприятия, но практиковалось и привлечение профессиональных журналистов, в обязанности которых входило обучение корреспондентов «от станка» и литературная правка поступающих статей. Содержание многотиражек определялась их статусом как изданий, выходящих на производстве и для нужд производства: наряду со статьями о важных событиях в жизни предприятия, о передовиках производства и новых методах работы, написанными в обычном публицистическом ключе, многотиражки периодически публиковали технически точные описания и чертежи рекомендованных к внедрению новинок, авторами которых выступали специалисты с необходимой технической подготовкой. Предполагалось, что такая практика ускорит распространение технологических новшеств. Характерной чертой советских многотиражек (отличающей их от современной корпоративной периодики) была развитая критическая составляющая: помимо материалов об успехах публиковалась критика «отстающих участков», призванная бичевать отдельные недостатки и способствовать скорейшему изживанию таковых. Очевидно, что в условиях рыночных отношений подобная публичная самокритика скорее повредила бы развитию предприятия, создавая ему негативный имидж. Однако в советском контексте публикация критической статьи в многотиражке была инструментом воздействия на нерадивых. В целом многотиражные газеты были звеном в управлении предприятиями и одним из множества существовавших в советское время неформальных способов стимулирования труда.
Отсутствие частных газет и журналов сказалось не только на составе разновидностей, но и на содержании советской периодической печати. Поскольку все периодические издания были прямо или косвенно аффилированы либо с государством, либо с правящей партией, появилась возможность публиковать в периодических изданиях официальные документы – международные договоры и дипломатические ноты, речи руководителей страны, стенограммы партийных съездов и громких политических процессов. В практике частной прессы получить доступ к официальным документам – событие чрезвычайное. Для этого нужны надежные информаторы во властных кругах, готовые делиться «эксклюзивом» и делающие это обычно лишь в той степени, в какой грядущая утечка соответствует их политическим интересам. Советские газеты и журналы печатали официальные документы по разнарядке, выполняя решения власти о всестороннем освещении значимых событий в истории страны. Избрание очередного состава руководящих органов сопровождалось публикацией в центральных изданиях галереи официальных портретов, представлявших населению вновь назначенных функционеров. Фотографии вождей в неформальной обстановке, напротив, публиковались в ограниченных объемах. Обилие официальных материалов, представленных в бюрократической манере, было одним из важнейших факторов, определявших стилистическую специфику советских газет и журналов.
Существенные трансформации претерпела публицистическая составляющая периодических изданий. Социальная функция публицистики состоит в том, чтобы структурировать общественное мнение вокруг известного комплекса идей, и если указанные идеи провозглашаются от имени частного лица или даже общественной организации, то соглашаться с высказанными оценками или нет – дело добровольное. Однако когда публицистическое по форме сочинение выходит в периодическом издании, имеющем статус государственного или издаваемого под эгидой правящей партии, ситуация меняется радикально: несогласие превращается в жест нелояльности, а сам текст приобретает черты распорядительного документа. Управленческая функция совтской публицистики особенно ярко проявила себя в сталинскую эпоху, когда статьи в центральной печати обозначали поворотные моменты в политике. Так, появление в «Правде» от 2 марта 1930 г. статьи «Головокружение от успехов: к вопросам колхозного движения», подписанной именем самого вождя, знаменовало собой существенные изменения в партийной политике на селе; редакционная статья той же газеты «Сумбур вместо музыки» (28 января 1936 г.) запустила кампанию против формализма в искусстве, и в частности против Д. Д. Шостаковича, а публикация под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» (28 января 1949 г.) дала официальный старт так называемой борьбе с космополитизмом. Смерть Сталина и последовавшее разоблачение «культа личности» смягчили тональность и ослабили прямое действие газетных и журнальных выступлений. Вместе с тем в рамках «восстановления партийной демократии» была возрождена предусмотренная Уставом Коммунистической партии практика «общепартийных дискуссий» по разнообразным общественно значимым вопросам, и периодическая печать оказалась важнейшей площадкой для такого рода обсуждений. В частности, широкая полемика развернулась в 1962–1964 гг. после публикации в «Правде» статьи профессора-экономиста из Харькова Е. Г. Либермана «План, прибыль, премия». Итоги обсуждения дали старт «косыгинской реформе» в экономике СССР, а сама дискуссия на страницах печати оказалась паллиативом невозможной в советских условиях полемики парламентских фракций.
Своеобразной заместительной практикой стало и то, как в советской периодической печати обходились с письмами читателей. Письмо в редакцию – простейшая и наиболее демократичная форма публицистики, с которой может выступить любой достаточно смелый для такой активности человек. Однако в советской ситуации, где не существовало ни независимой судебной власти, ни культуры отстаивания собственных интересов через суды, а обратная связь через процедуру выборов только провозглашалась, письмо в газету оказалось одним из немногих способов добиться какой-то реакции со стороны властей предержащих. Не все обращения в газету писались от чистого сердца. Напротив, периодически публиковались более или менее откровенно инспирированные письма, в которых «простые советские люди» – рабочие, крестьяне и представители трудовой интеллигенции – «гневно осуждали» «врагов народа» или «очередную провокацию израильской военщины». В то же время в газетные отделы писем поступали и вполне искренние обращения от граждан, которые видели в журналистах потенциальных заступников и защитников от несправедливости; иногда самого факта публикации письма или статьи по его материалам могло хватить для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую для отправителя сторону. Рубрики, посвященные письмам читателей, и статьи, написанные по мотивам таких писем (в частности, статьи Ф. А. Вигдоровой, О. Г. Чайковской, Е. М. Богата и др.), представляют собой наименее формализованную и наиболее «живую» часть советской периодической печати.
В целом структура, содержание и стилистика советских периодических изданий соответствуют их статусу в качестве государственных или партийных органов. Если западные журналисты XX в. были окончательно признаны свободными художниками, продающими свое умение видеть и формулировать, то их советские коллеги – это прежде всего функционеры, встроенные в систему управления государством. Потребности власти накладывали отпечаток на все аспекты деятельности советских журналов и газет.
3.4.3. Художественная литература советского периода
Художественная литература есть повествование о вымышленных объектах, лицах и происшествиях, и даже если рассказ перекликается с реальностью, то претензий на документальность автор не предъявляет; опознаваемые детали быта и вкрапления исторического материала (в том числе подлинные документы и известные по источникам реплики персонажей) вводятся не для точности в ее научном понимании, а для обеспечения необходимого антуража. «Фикциональность, т. е. то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным» рассматривается филологами как «один из основных признаков повествовательного художественного текста», отличающих «повествование в художественном произведении от повествования в житейском контексте, например от повседневного рассказа, от сообщения последних известий по телевизору, от протокола, составленного полицией, или от репортажа спортивного корреспондента»[495]. Сказанное не следует понимать в том смысле, что художественную литературу в принципе нельзя изучать с точки зрения отмеченных автором исторических обстоятельств; в определенных ситуациях (например, при изучении современной автору повседневности или массовых представлений о прошлом) такого рода работа перспективна и полезна. Однако использовать художественную литературу только как особой конфигурации линзу для разглядывания специфических «фактов», ускользающих от прочих «наблюдательных инструментов» историка, – значит безосновательно ограничивать собственные познавательные возможности. Специфический социальный статус литературных произведений придает изучению последних универсальный характер, ставя их в один ряд с «классическими» для нашей науки видами источников – законодательством, делопроизводством, периодической печатью и т. п.
Социальная функция художественной литературы определяется тем, что читающей публике свойственно примерять на себя изображаемые авторами характеры, взгляды и поступки. Встретив в тексте что-либо для себя интересное, читатель начинает сопереживать персонажу повествования или лирическому герою стихотворения, и это сопереживание обогащает духовный опыт или как минимум позволяет на время отвлечься от повседневных забот. Таким образом, литература может играть в жизни человека воспитательную, развлекательную, а зачастую и своего рода психотерапевтическую роль. В свою очередь, историк может использовать литературу как индикатор общественных настроений. То, о чем повествуют писатели, и то, чего от них ждут читатели, способно многое рассказать о «состоянии умов» в момент появления произведения. Иначе говоря, значение художественной литературы для исторической науки определяется тем, что написание и чтение такого рода произведений – важная социальная практика. Художественная литература интересна историку постольку, поскольку она есть социальный феномен, воплощающий чаяния и надежды как отдельных людей, так и общества в целом.
Художественная литература в ее описанном выше понимании существует далеко не во всяком обществе: так, социальная функция «памятников древнерусской литературы» (летописей, житий, проповедей и т. п.), о которых шла речь в первой главе, может быть выполнена и без сопереживания со стороны читателя, поэтому можно говорить о художественной составляющей древнерусской книжности, но не о древнерусской художественной литературе. Видимо, появление художественной литературы в узком смысле следует трактовать как примету наступления Нового времени и датировать (применительно к корпусу источников российской истории) XVII–XVIII вв. В свою очередь, в Новейшее время российская литература оказывается объектом беспрецедентного интереса со стороны властей предержащих, что оказало деформирующее воздействие на литературный процесс.
В принципе, сообщество русских литераторов[496] было в значительной степени подготовлено к революционным событиям:
- Где глаз людей обрывается куцый,
- главой голодных орд,
- в терновом венце революций
- грядет шестнадцатый год.
Мысль о неизбежности социальных потрясений диктовалась как развитием реалистических и социально-критических традиций русской литературы XIX в., так и убеждением в скорой гибели культуры, характерным для f n de cicle в общеевропейском масштабе. В российском контексте предчувствие кризиса было дополнительно усиено травматическим опытом русско-японской войны и революции 1905–1907 гг. В частности, один из ключевых поэтовсимволистов писал:
- Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
- Наш царь – кровавое пятно,
- Зловонье пороха и дыма,
- В котором разуму – темно.
- Наш царь – убожество слепое,
- Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
- Царь-висельник, тем низкий вдвое,
- Что обещал, но дать не смел.
- Он трус, он чувствует с запинкой,
- Но будет – час расплаты ждет.
- Кто начал царствовать – Ходынкой,
- Тот кончит – встав на эшафот.
Давно (как минимум с лермонтовского «Предсказания») знакомая русской литературе тема падения монархии наполняется в этом стихотворении новым содержанием за счет перечисления конкретных неудач и ошибок царского правительства.
Подавляющее большинство пишущих с восторгом приняло Февральскую революцию и взялось поддержать ее словом. Например, тот же К. Д. Бальмонт написал текст для проекта нового государственного гимна, сочиненного композитором А. Т. Гречаниновым:
- Да здравствует Россия, свободная страна!
- Свободная стихия великой суждена!
- Могучая держава, безбрежный океан!
- Борцам за волю слава, развеявшим туман!
- Да здравствует Россия, свободная страна!
- Свободная стихия великой суждена!
- Леса, поля, и нивы, и степи, и моря,
- Мы вольны и счастливы, нам всем горит заря!
Исторический оптимизм сочетается в этих строках с уверенностью в правоте революционного дела. Получи приведенный текст официальный статус, образы неназванных «борцов за волю» легли бы в основу нового национального пантеона.
Но революционная повседневность 1917 г. и тем более октябрьский переворот вызвали резкое изменение настроений в среде литераторов. Сотрудничество с советской властью было относительно естественным для поэтов-футуристов, литературный радикализм которых хорошо сочетался с политическим радикализмом большевистского правления. Воплощением революционных настроений наиболее радикальных представителей русского литературного спектра стали, в частности, стихотворение В. В. Маяковского «Левый марш» (1918) и серия текстов, написанных поэтом для агитационных плакатов (окон) Российского телеграфного агентства (1919–1921)[497]. Представители других направлений литературы встретили большевиков настороженно (М. Горький), а иногда и прямо враждебно (И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, А. М. Ремизов).
Власть не была полностью закрыта для сотрудничества со сложившимся сообществом пишущих. Напротив, и известные, и начинающие литераторы активно привлекались для издательской и культурно-просветительской работы по линии Наркомпроса, Госиздата или Пролеткульта (М. Горький, В. Я. Брюсов, А. А. Блок, В. Ф. Ходасевич, А. Белый, О. Э. Мандельштам и др.). Однако интеграция в структуры, подконтрольные большевистскому режиму, требовала компромиссов, становившихся особенно тяжелыми в условиях «красного террора» (в августе 1921 г. был арестован и расстрелян Н. С. Гумилев). Некоторые известные писатели принимали активное участие в белом движении (И. А. Бунин, А. И. Куприн), и очень многие крупные деятели русской литературы предпочли или были вынуждены покинуть страну. Эмиграция значительной части интеллектуальной элиты не могла не нарушить естественного развития русской литературы.
Развитие литературы в 1920е годы характеризовалось сосуществованием противоречивых тенденций. С одной стороны, власть пытается вмешиваться в литературный процесс, оказывая поддержку «идеологически правильным» авторам и направлениям (интенсивно возвеличивался, в частности, «пролетарский поэт» Демьян Бедный). Обозначается тенденция к героизации революционной борьбы, Гражданской войны и «восстановления промышленности», воплощенная романами Ф. В. Гладкова «Цемент», А. С. Серафимовича «Железный поток», А. А. Фадеева «Разгром», Н. А. Островского «Как закалялась сталь», повестью А. П. Гайдара «Р.В.С.» и др. Художественные решения, найденные в этих произведениях, станут в дальнейшем образцами советского «большого стиля», а упомянутые авторы займут прочное место в первом ряду классиков советской литературы.
С другой стороны, в печати появляются сочинения, написанные отнюдь не в романтико-героическом ключе, – циклы И. Э. Бабеля «Одесские рассказы» и «Конармия», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» М. А. Булгакова, «Чевенгур» и «Котлован» А. П. Платонова, рассказы М. М. Зощенко, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. А. Ильфа и Е. П. Петрова и многие другие. Специфическим явлением стало творчество А. Грина («Бегущая по волнам», «Алые паруса»). Эти произведения либо вообще не имеют «глубокого социального содержания» («Одесские рассказы» И. Э. Бабеля, романы А. Грина), либо показывают революционные перемены и зарождающееся новое общество с точки зрения рядового человека, не всегда «сознательного», а иногда и враждебного советской власти. Неоднозначно выражена авторская позиция в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». Наконец, «нереволюционная» поэзия была представлена творчеством О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, С. А. Есенина, А. И. Введенского, Д. И. Хармса, Н. Е. Заболоцкого и др. До середины 1920х годов печатались стихи А. А. Ахматовой.
«Непонимание момента», выражавшееся в аполитичности или стремлении оценить события недавнего прошлого не с классовых, а с общечеловеческих позиций, могло вызвать неудовольствие высокопоставленных лиц (так, «Конармия», посвященная польскому походу знаменитой Первой Конной, сильно задела бывшего командующего армией С. М. Буденного[498]) и провоцировало серию негативных отзывов, основными авторами которых выступали критики из РАПП. Однако последствия критических кампаний до известного времени оставались нефатальными: «Дни Турбиных» все-таки ставились, причем не только в 1920е, но и в 1930е годы, а кампания против О. Э. Мандельштама прекратилась после обращения группы писателей, поддержанного, среди прочих, и одним из ключевых официальных литераторов А. А. Фадеевым. В 1931 г. по политическому обвинению были арестованы члены группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), в частности Д. И. Хармс и А. И. Введенский, причем Д. И. Хармса первоначально приговорили к трем годам заключения. Но итоговое решение коллегии ОГПУ оказалось относительно мягким и сводилось к запрету проживания в крупнейших городах и приграничной местности. Советская идеология переживала период становления, а значит, и литература могла еще пользоваться относительной свободой.
Поворот наступил в 1932–1934 гг. В подпараграфе 3.4.1 было отмечено, что состоявшийся в конце лета 1934 г. I Всесоюзный съезд писателей обозначил отказ от деления литературных деятелей на «пролетарских авторов» и «попутчиков». Власть стремилась объединить все сообщество пишущих на общей платформе социалистического реализма. Однако участие в объединении предполагало сдачу ряда творческих позиций и требовало написания идеологически актуальных произведений, например очерков о «перевоспитании» заключенных на строительстве Беломорско-Балтийского канала[499]. Некоторые писатели приняли условия компромисса с готовностью, некоторые – с трудом, но для ряда видных литераторов обмен творческих позиций на комфортные условия существования оказал неприемлем. В частности, принципиальную позицию занял О. Э. Мандельштам, в конце 1933 г. написавший и прочитавший нескольким друзьям антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…»:
- Мы живем, под собою не чуя страны,
- Наши речи за десять шагов не слышны,
- А где хватит на полразговорца, –
- Там припомнят кремлевского горца.
- Его толстые пальцы, как черви, жирны,
- А слова, как пудовые гири, верны.
- Тараканьи смеются усища,
- И сияют его голенища.
- А вокру его сброд тонкошеих вождей,
- Он играет услугами полулюдей.
- Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
- Он один лишь бабачит и тычет.
- Как подковы кует за указом указ –
- Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
- Что ни казнь у него – то малина
- И широкая грудь осетина[500].
Однако в новых условиях политически несознательного поэта ждала уже не критика, а репрессии. Весной 1934 г. О. Э. Мандельштам был арестован и сослан в Чердынь (ныне Пермский край), откуда после попытки самоубийства и серии ходатайств ему разрешили переехать в Воронеж. В изменившейся политической обстановке ценой творческой последовательности и принципиальности становилась личная свобода.
«Большой террор» конца 1930х годов унес жизни многих литераторов – в том числе О. Э. Мандельштама, вернувшегося из ссылки в 1937 г. и вновь арестованного в 1938 г., «новокрестьянского поэта» Н. А. Клюева, И. Э. Бабеля. В начале Великой Отечественной войны были арестованы Д. И. Хармс, А. И. Введенский. С 1939 по 1943 г. находился в заключении Н. А. Заболоцкий. У А. П. Платонова и А. А. Ахматовой были арестованы сыновья. Художественным осмыслением террора стал поэтический цикл А. А. Ахматовой «Реквием», написанный в 1935–1940 гг. и объединяющий личный опыт поэтессы с опытом целого поколения:
- Это было, когда улыбался
- Только мертвый, спокойствию рад.
- И ненужным привеском болтался
- Возле тюрем своих Ленинград.
- И когда, обезумев от муки,
- Шли уже осужденных полки
- И короткую песню разлуки
- Паровозные пели гудки,
- Звезды смерти стояли над нами
- И безвинная корчилась Русь
- Под кровавыми сапогами
- И под шинами черных марусь.
Специфические обстоятельства создания «Реквиема» продиктовали необычную форму сохранения составивших цикл произведений. А. А. Ахматова была убеждена, что, имея поэтический дар, она обязана зафиксировать переживания, связанные с трагическим этапом в истории страны[501]. Но понятно было и то, что хранить рукопись подобного содержания нельзя. Как следствие, работа над «Реквиемом» велась по большей части в уме и только отдельные фрагменты записывались на небольших клочках бумаги. Когда очередное стихотворение складывалось окончательно, А. А. Ахматова зачитывала сочиненное кому-нибудь из своих друзей (в частности, Л. К. Чуковской и Н. Я. Мандельштам) и просила выучить наизусть, после чего все вспомогательные записи (если они существовали) уничтожались. Лишь в начале 1960х цикл был реконструирован и впервые занесен на бумагу в полном объеме. Такие чрезвычайные меры позволили не только уберечь от репрессий саму поэтессу и ее первых слушателей, но и сохранить живой опыт человека, столкнувшегося с жестокостью государственной машины.
С началом войны значительная часть профессиональных литераторов переквалифицировалась в военных корреспондентов (М. А. Шолохов, А. А. Фадеев, А. А. Сурков, А. П. Гайдар, А. П. Платонов), публицистов (А. Н. Толстой) или фельетонистов (М. М. Зощенко). Широкую известность приобрели публицистические статьи журналиста и писателя И. Г. Эренбурга, в частности статья «Убей!», опубликованная в «Красной звезде» от 24 июля 1942 г., написанная в предельно агрессивном ключе и ставшая одним из ключевых текстов советской военной пропаганды. Исключительно популярны были стихотворения К. М. Симонова («Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом…») и др.), а также поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин», выходившая отдельными главами сразу в нескольких центральных газетах. Стремление к художественно убедительному описанию войны сокращало пространство для идеологем; в «Василии Теркине», например, не фигурируют ни Сталин, ни партия, а сам главный герой подается максимально просто («парень сам собой / Он обыкновенный») и подчеркнуто неромантически («Разрешите доложить / Коротко и просто: / Я большой охотник жить / Лет до девяноста»), чему дополнительно способствует простонародная частушечная ритмика поэмы. Необходимость мобилизовать на борьбу с врагом весь народ вынудила авторов, редакторов и цензоров временно отказаться хотя бы от самых искусственных из добровольно принятых на себя ограничений, так что во время войны литература развивалась в относительно либеральной обстановке.
Послевоенное развитие советской литературы можно разделить на три этапа. Во второй половине 1940х – начале 1950х годов партийные идеологи не только отозвали все уступки, сделанные во время войны, но и уже сточили контроль над творческой жизнью. В это время состоялись как минимум две крупные идеологические кампании, имевшие непосредственное отношение к литературе. Первая – критика Ленинградского отделения Союза писателей – началась весной 1945 г. с «дискуссии о ленинградской теме» (о «неприятных особенностях» в изображении блокады)[502], а увенчалась Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах“ Звезда” и“ Ленинград”» и докладом секретаря ЦК А. А. Жданова перед партактивом и собранием писателей Ленинграда (август-сентябрь 1946 г.). Вторая кампания прошла в рамках «борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом» и достигла апогея в статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» («Правда» от 28 января 1949 г.). В начале 1953 г., уже на самом излете сталинской эпохи, была подвергнута резкой критике работа журнала «Новый мир» (в том числе публикация произведений В. С. Гроссмана, Э. Г. Казакевича, Н. Н. Асеева). Предельно грубое как по методам, так и по словесной оболочке вмешательство партийной верхушки в дела литературы имело двоякий результат. Во-первых, были поименно названы «враги» подлинно советской литературы (ими оказались, в частности, М. М. Зощенко и А. А. Ахматова), подлежавшие исключению из литературного процесса. Во-вторых, устами высокопоставленных «литературоведов» была обозначена схема качественного, по партийным понятиям, произведения. Положительный герой советской литературы должен был быть целеустремленным, патриотичным и партийным; сюжет следовало строить вокруг борьбы такого коммуниста-патриота с коварным врагом и/или «отдельными негативными явлениями» советской жизни. Изобретенная идеологами схема была крайне жесткой и почти не получила удачной в художественном отношении реализации (в статье о театральных критиках назывались пьесы А. В. Софронова, А. Е. Корнейчука, Н. Е. Вирты и ряда других, но литературные достоинства этих сочинений не очевидны). Однако вольного обращения с «каноном» не прощали даже признанным классикам советской литературы. Так, знаменитый роман А. А. Фадеева о юных подпольщиках-антифашистах «Молодая гвардия» существует в двух редакциях (1945 и 1951 гг.): в первой юные герои действуют самостоятельно, во вторую под воздействием критики (в частности, статьи в «Правде» от 3 декабря 1947 г.) были добавлены образы партийцев, руководящих подпольной борьбой. Очевидно, власть считала свои позиции «на литературном фронте» достаточно сильными, чтобы от предложений и рекомендаций перейти к прямым указаниям, о чем и как писать.
Второй этап послевоенного развития советской литературы наступил с началом хрущевской оттепели (1956–1964), само устоявшееся название которой было литературным по происхождению: так называлась опубликованная в 1955 г. и ставшая символом новых времен повесть И. Г. Эренбурга. Литературный облик «оттепели» был сформирован действием нескольких разнонаправленных тенденций.
С одной стороны, наблюдалось определенное расширение круга обсуждаемых проблем и используемых при этом стилистических средств. В описании общества стало возможным упоминать о чванстве и косности партийных бюрократов (роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым»), о репрессиях (повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Случай на станции Кочетовка» А. И. Солженицына), о культурных традициях русского крестьянства (солженицынский же «Матренин двор», произведения В. В. Овечкина, Ф. А. Абрамова, В. П. Астаьева). В трактовке войны основное внимание уделялось теме простого солдата, начатой еще в сталинские годы романом В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда», а теперь подхваченной и развитой Ю. В. Бондаревым, Г. П. Баклановым, В. В. Быковым[503], К. М. Симоновым и рядом других авторов. В лирике и драматургии появились изображения сложного, неоднозначного чувства. Существенно обогатилась палитра поэтических форм и тем (стихи Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Р. И. Рождественского, Б. А. Ахмадулиной). Стали публиковаться и обсуждаться доселе запрещенные произведения 1920–1930х годов. Все это создавало атмосферу невиданной ранее свободы.
С другой стороны, партийный контроль над литературой не ослабевал, а свобода выбора тем и трактовок существовала лишь постольку, поскольку это отвечало интересам момента. Крайне жесткую реакцию властей вызвал роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», и, когда в 1957 г. произведение, отвергнутое советскими редколлегиями, вышло за рубежом, против автора была развернута беспрецедентная кампания травли, закончившаяся исключением из Союза писателей. В 1961 г. был запрещен к публикации роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»; рукописи романа были конфискованы КГБ. Даже ценой значительных уступок цензуре не удалось опубликовать роман А. И. Солженицына «В круге первом». В типологическом плане политика власти по отношению к литературе вернулась к состоянию 1930х годов, когда доступ в литературный истеблишмент был, в принципе, открыт, но требовал компромисса и сдачи определенных творческих позиций.
Ограниченность и непоследовательность официальной либерализации вызвали к жизни новое явление – неофициальную литературу, или самиздат. Идея распространения произведений, не прошедших цензуру, в кустарно изготовленных копиях была не новой. В XIX в. в списках ходили «Горе от ума» А. С. Грибоедова, запрещенные стихотворения М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова, а также другие сочинения. Однако технический прогресс предоставил для такой деятельности новые инструменты – пишущие машинки[504], бытовую фототехнику и копировальные аппараты (а в 1970–1980х – и первые массовые модели ЭВМ). При этом если специальная множительная техника находилась в СССР под строгим контролем, то пишущие машинки и принадлежности к ним, а также устройства и реактивы для печати фотографий продавались свободно. Произведения могли попадать в самиздат как по инициативе авторов (и тогда «запуск» очередного сочинения становился не только литературным событием, но и политическим жестом), так и помимо желания создателей – усилиями поклонников или издательских работников[505]; кроме того, репертуар самиздата пополнялся за счет воспроизведения старых, редких или зарубежных публикаций. В 1959–1960 гг. журналист А. И. Гинзбург собрал и распространил в самодельных копиях несколько номеров журнала «Синтаксис». Эта деятельность была пресечена КГБ, однако появление журнала свидетельствовало об институционализации неофициальной литературы. Из инициативы одиночек самиздат превращался в постоянно действующий фактор литературного процесса.
Завершающий этап эволюции советской литературы наступил в середине 1960х годов, после смены руководства страны. Если позволяла идеология, официальная литература брежневского времени развивала темы и проблемы, поднятые в период «оттепели». В частности, продолжали появляться произведения о простом человеке на войне (В. В. Быков, Б. Л. Васильев). Интенсивное развитие получила тема традиционной деревенской культуры, выросшая в самостоятельное направление «деревенской прозы» (В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, В. П. Белов, Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев и др.; направление было широко представлено на страницах журнала «Наш современник»). Активно развивалась фантастика (А. Н. и Б. Н. Стругацкие, Кир Булычев), детектив (А. А. и Г. А. Вайнеры, Ю. С. Семенов) и историко-приключенческая литература (В. С. Пикуль). Все жанры позднесоветской литературы были пронизаны влиянием идеологии. Так, в ряде фантастических произведениях братьев Стругацких («Парень из преисподней», «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и др.) Земля предстает планетой победившего коммунизма «по Марксу», где колоссальные технические возможности высвобождают энергию человека для преобразования окружающего мира, причем объяснить такое направление авторской мысли только соображениями цензурной проходимости невозможно: существование коммунизма на нашей планете становится необходимым условием разворачивающейся интриги; произведения фантастов, где судьба земного общества рассматривается с иных позиций («Сказка о Тройке», «Улитка на склоне» Стругацких), оказывались под запретом. Впрочем, и в такой идеологизированной форме художественная литература пользовалась активным читательским спросом благодаря как сложности затрагиваемых проблем, так и нетривиальности сюжета и материала.
В свою очередь, авторы, находящиеся вне рамок официальной литературы, активно экспериментируют с формой и содержанием, что представляется естественной реакцией на однообразие позднесоветского дискурса. У разных авторов этот литературный эскапизм приобретал разные формы. Например, И. А. Бродский писал подчеркнуто сложные стихотворения и поэмы, насыщенные отсылками ко множеству произведений всемирной и отечественной литературы, а Венедикт Ерофеев – сюрреалистическую прозу. Неофициальный характер ограничивал возможности для распространения написанного: произведения не признанных властью авторов попадали к советским читателям либо через самиздат (значимым событием в истории которого стало появление в 1979 г. альманаха «Метрополь»), либо через зарубежные публикации, ввезенные в обход таможенного контроля (для этого последнего класса литературы в речевом обиходе было изобретено еще одно слово – тамиздат). Однако свобода творчества была важнее признания в широких читательских массах.
Гласность, провозглашенная партийным руководством во второй половине 1980х годов, способствовала снятию искусственных ограничений на выбор тем для творчества и средств выражения. Кроме того, в публичное пространство вернулись произведения, ранее не допускавшиеся в печать. Снятие цензурных ограничений способствовало интенсификации литературного процесса.
В целом нетрудно убедиться, что траектория развития советской литературы тесно коррелирует с траекторией развития страны.
3.5. Источники личного происхождения в XX веке
Под общим названием «источники личного происхождения» объединяются четыре вида исторических источников, обслуживающих сходные, но не тождественные социальные функции. Это мемуары, в которых индивидуум представляет «городу и миру» себя и свое время, дневники, ведение которых (в их классической, не рассчитанной на публикацию форме) позволяет людям осуществить автокоммуникацию, частная переписка, с помощью которой отдельные индивидуумы выстраивают взаимодействие между собой, и, наконец, эссеистика, через которую субъект выражает свой сугубо индивидуальный взгляд на окружающий мир. Возникновение перечисленных видов источников связано с фундаментальными социокультурными процессами, ознаменовавшими собой наступление Нового времени. В Новейшее время статус и форма источников личного происхождения претерпели существенные изменения, частично обусловленные политическими процессами, характерными для советской эпохи, а частично – глубинными сдвигами на фундаментальных уровнях культуры.
Не во всех упомянутых видах источников эти изменения могут быть прослежены с должной степенью детальности. В частности, эссеистика XX в. крайне фрагментирована. Расцвет этой формы самовыражения в культуре русского модернизма (В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам и др.) оказался недолог, а эссе, написанные русскими писателями-эмигрантами на иностранных языках (В. В. Наоков, И. А. Бродский), создавались с целью интегрироваться в новую культуру[506], ориентировались на характерные для этой новой культуры понятийные структуры[507], а значит, и рассматриваться должны в инокультурном, а не в русском контексте. Уверенно говорить об эволюции вида при такой фрагментации материала не представляется возможным.
Однако письма, дневники и мемуары представлены в корпусе источников существенно лучше. Можно выделить две модели развития – одна была реализована дневниками и частной перепиской, а вторая – мемуаротворчеством XX в.
3.5.1. Дневники и частная переписка в изменившемся коммуникационном пространстве
Дневники и частная переписка были важным, в чем-то даже системообразующим элементом культуры XVIII–XIX вв. В то же время поддержание корреспонденции и ведение ежедневных записей о пережитом и прочувствованном требовали, с одной стороны, времени и располагающей к письму обстановки, а с другой – определенных навыков выражения своих мыслей на бумаге. Более того, чтобы написать письмо, надо не только владеть пером, но и знать систему правил, диктующих и графическое решение (обращение, подпись и дата – на отдельных строках), и выбор лексических средств («Никогда не начинайте писем“ уважаемый такой-то”, только“ многоуважаемый”. Это дворнику я могу сказать: уважаемый»[508]), и даже структуру текста («во первых строках» положено поинтересоваться делами и здоровьем адресата, а закончить письмо – благопожелательной формулой, выбираемой к случаю из определенного спектра). Сложность дела устанавливала высокий «порог вхождения»: в течение долгого времени культура дневников и писем оставалась по преимуществу достоянием элиты. Некоторое расширение круга пишущих наметилось в эпоху промышленной революции, когда стало расти число грамотных, а рабочим, пришедшим на заводы «от сохи», потребовались средства коммуникации с оставшимися в деревне родными. В свою очередь, в XX в. дневники и частная переписка оказались под воздействием нескольких разнонаправленных факторов.
С одной стороны, радикально выросло число людей, умеющих читать и писать. Декретом СНК от 26 декабря 1919 г. была запущена кампания по массовому обучению грамоте (известная как ликвидация безграмотности, сокращенно ликбез), а с 1923 г. велась подготовка к введению всеобщего начального обучения (всеобуч), которая увенчалась совместным постановлением ЦИК и СНК от 14 августа 1930 г., вводившим обязательное образование в объеме четырех классов. В рамках второй пятилетки (1933–1937) в городах и рабочих поселках был осуществлен переход к обязательному семилетнему обучению; распространение этой практики на селе планировалось на третью пятилетку (1938–1942), но задержалось из-за Великой Отечественной войны. С 1958 г. обязательным стало восьмилетнее образование, а в 1970–1980е годы осуществляется переход к обязательному среднему образованию в объеме либо десяти классов школы, либо восьми классов школы и последующих нескольких лет в профессионально-техническом училище. В итоге СССР стал страной с почти стопроцентно грамотным населением, а значит, практически каждый советский человек мог, возникни у него такая необходимость или желание, что-нибудь написать.
Радикально выросло и число ситуаций, в которых предполагались чтение и письмо. Мировые войны и локальные военные конфликты, «раскулачивание» и политические репрессии, индустриализация 1930х годов и всесоюзные стройки 1960–1970х отрывали людей от родных и близких, создавая необходимость обмена письмами. Крупные исторические процессы не могли не вызвать к жизни соответствующие им комплексы писем – письма фронтовиков и «воинов-интернационалистов», письма заключенных и ссыльных, письма комсомольцев-стройотрядовцев и т. п. Вовлеченность больших масс людей в масштабные и значимые с исторической точки зрения события должна была способствовать расширению практики письма. Но действовали и факторы, снижавшие число писем и дневников.
Сокращению объемов корреспонденции и упадку культуры дневников способствовал репрессивный характер советского государства. Вообще говоря, претензии тоталитарных режимов на контроль над всеми и всем ограничиваются нехваткой ресурсов. Ни одна спецслужба мира не сможет перлюстрировать все письма и ознакомиться с содержимым всех ящиков всех письменных столов. В то же время надзор за определенными группами людей может быть весьма плотным.
Так, исключительно жесткие формы имело ограничение переписки в местах лишения свободы: разрешение на получение и отправку писем, а также манипуляции с периодичностью и объемом дозволенной корреспонденции были важным инструментом воздействия на «контингент» со стороны администрации. В свою очередь, родные и близкие заключенных (особенно осужденных по «политическим» статьям) должны были считаться с тем, что переписка с лицом, отбывающим срок, рано или поздно привлечет внимание органов госбезопасности, а за этим могли последовать неприятности по службе или «по партийно-комсомольской линии» (а в сталинскую эпоху – и административная высылка в качестве «члена семьи врага народа»). Требовалось личное мужество, чтобы сохранять отношения с человеком, находящимся в заключении. Что же касается дневников, то их ведение в условиях советского лагеря было практически невозможным из-за дефицита писчих материалов и регулярных обысков. Как следствие, корпус писем заключенных и тем более лагерных дневников будет невелик.
С определенными ограничениями сталкивались военнослужащие действующей армии. В частности, во время Великой Отечественной войны органами военной цензуры осуществлялся сплошной просмотр всей переписки солдат и офицеров, причем цензоры не только вымарывали из писем фрагменты, содержащие секретные сведения, но и сообщали «куда следует» о политически некорректных высказываниях корреспондентов. Контролировать ведение дневников на фронте было сложнее, однако и скрывать записки было трудно, так что рано или поздно многие авторы дневников вынуждены были давать объяснения командирам или политработникам частей, а то и контрразведке. Не все фронтовики сознавали опасность, вытекающую из того, что их письма и дневниковые записи могут быть просмотрены посторонними лицами. В частности, за корреспонденцию с критическими характеристиками И. В. Сталина, «прозрачно закодированного» участниками переписки «из Отца в Пахана», был арестован и осужден А. И. Солженицын[509]. Но многие понимали, что необходимо соблюдать осторожность, и это сказывалось на содержании отправляемых писем. Признаками самоцензуры могут быть сокращение объема писем или записей, исчезновение подробностей, изменение стиля (особенно в сторону шаблонных формулировок, напоминающих риторику газет). Понятно, что появление подобных черт свидетельствует скорее об изменившихся жизненных обстоятельствах, чем об интеллектуальной эволюции автора в сторону большей лояльности к существующему режиму.
Наряду с политико-административными, существовали и бытовые факторы, затруднявшие написание писем и ведение дневников. Так, урбанизация страны обернулась ухудшением жилищных условий – как для лиц, приезжавших в города из деревни, так и для тех, кто жил в городах от рождения. С первых послереволюционных лет и вплоть до 1960х годов преобладающим типом жилья стали коммунальные квартиры и бараки, обстановка в которых далеко не всегда способствовала вдумчивому письму и хранению написанного. Некомфортная бытовая обстановка превратилась в фактор, препятствующий письменному творчеству индивида. В свою очередь, в 1960–1970е годы, когда жилищная ситуация начала меняться в лучшую сторону, широкого распространения достигло и новое средство коммуникации – телефон. Письма проигрывали телефонной связи в оперативности и удобстве, а значит, интенсивность переписки между частными лицами все более и более сокращалась. Что же касается дневников, то на них зачастую не хватало не только культуры, но и времени. В итоге изменения тиля жизни привели к системному кризису обоих рассматриваемых видов источников, выход из которого если и наметился, то лишь с распространением технологий обмена информацией с помощью компьютерных сетей (электронная почта, BBS и Fidonet, с начала 1990х – передача гипертекста через сеть Интернет). Впрочем, в Советском Союзе указанные технологии оставались практически неизвестны, а Интернет в принципе возник за несколько месяцев до распада СССР.
В целом тенденции в эволюции писем и дневников советского времени свидетельствуют о сокращении личностного начала в культуре. В изменившейся социальной среде человеку становится сложно, а иногда и вовсе невозможно выразить свое индивидуальное «я».
3.5.2. Мемуары XX века: новое содержание
Мемуаристика XX в. развивалась по несколько иной логике, чем письма и дневники. Впрочем, результат этого развития оказался сопоставимым и состоял в сокращении личностного начала, иногда – вплоть до полного исчезновения такового.
Мемуарописательство вообще не может рассматриваться как сугубо личностная практика. В основе своей мемуары опираются на собственные впечатления автора о событиях, происходивших на его глазах или при его участии. Однако индивидуальные наблюдения необходимо выразить так, чтобы они были восприняты потенциальными читателями, и это ставит мемуариста перед необходимостью согласования своего неповторимого опыта с уже существующими в обществе правилами построения нарративов. В результате социум оказывает воздействие на форму и содержание воспоминаний.
Сценарии согласования индивидуального и социального многообразны.
На уровне стилистики этот процесс выражается в воспроизведении автором повествовательных моделей, сложившихся в художественной литературе и воспринимаемых в читательской среде как необходимые атрибуты эстетически приемлемого текста. Порой эстетическая обработка воспоминаний проходит относительно безболезненно, и рассказ приобретает в выразительности, не теряя одновременно в достоверности сообщаемых деталей. Но зачастую стремление к изяществу слога вынуждает мемуариста отступать от точности. Так, в мемуарах генерала и диссидента, члена Московской и Украинской Хельсинкской групп П. Г. Григоренко рассказывается среди прочего о сельском священнике о. Владимире Донском, имевшем большое влияние на автора в детстве. О. Владимир предстает перед нами талантливым проповедником. В частности, с помощью пространной, насыщенной примерами из Писания речи он убедил дядю автора, человека верующего, но церковь не посещавшего, в необходимости ходить на службы и принимать причастие. При этом речь священника приводится полностью, хотя очевидно, что подобный текст не может сохраниться в памяти, тем более в памяти мемуариста, присутствовавшего при беседе ребенком[510]. Явная нестыковка не говорит о недостоверности воспоминаний П. Г. Григоренко. Напротив, почти не приходится сомневаться в том, что в разбираемом тексте точно воплотились детские впечатления мемуариста. Ясно в то же время, что далеко не всякая приводимая в мемуарах деталь документальна. Стремясь к эффекту присутствия или просто ориентируясь на литературные образцы, мемуарист может конструировать реальность, действуя не столько как историописатель, сколько как сочинитель.
Тематика и структура мемуаров также определяются не только личными установками автора, но и запросами среды. Ни одни, даже самые пространные мемуары не могут охватить всего жизненного опыта написавшего их человека. Приходится отбирать эпизоды, а значит, и формировать некую модель будущего текста, задумываясь, в частности, о том, зачем он будет написан. Многие мемуаристы подходят к своим сочинениям сугубо индивидуалистически, ориентируясь только на собственное ощущение важности излагаемого. Но есть и те, кто берется за перо постольку, поскольку ощущает общественную значимость событий, известных им из первых рук. Социум в этом случае естественным образом направляет творчество мемуаристов, требуя, по словам одного из крупнейших отечественных филологов Е. М. Мелетинского, «выбирать соответствующие темы – самые“ героические”, всем интересные»[511]. Воспоминания самого Е. М. Мелетинского, посвященные участию автора в Великой Отечественной войне и пребыванию в сталинских лагерях, написаны с полным осознанием контраста между официальным пониманием героического и тем, что помнит обычный человек; в некоторых случаях этот контраст даже становится предметом иронии:
Как назло, о начале войны я узнал очень негероично, от своей бабушки, а бабушка – от лифтерши[512].
Однако далеко не у всех мемуаристов есть силы и возможность сопротивляться давлению извне.
Ориентация на общественную значимость особенно характерна для разновидности мемуаров, определяемой как «мемуары – современные истории» и посвященной не личности автора, а встречам автора с другими людьми, или событиям, которым он был свидетелем. Признание обществом важности того или иного исторического эпизода (или, напротив, ощущение всеобщего забвения) выступает в данном случае основным фактором, побуждающим взяться за перо и оправдывающим написанное как с точки зрения самого автора, так и в глазах окружающих[513]. Однако и мемуары-автобиографии тоже могут быть построены с оглядкой на общество, вплоть до попыток подгонять собственный жизненный путь под одобренные обществом модели. Понятно, что для адекватной интерпретации таких мемуаров необходимо иметь детальное представление о государственной идеологии и общественных настроениях времени их создания, в противном случае историк будет обречен воспроизводить шаблоны самоописания, сложившиеся в изучаемом социуме.
В принципе, указанные тенденции характерны для любой мемуаристики. Однако в XX в. (и, в частности, в рамках советского общества) естественная тенденция к сокращению личностного начала мемуаристики обозначилась с небывалой прежде ясностью. Этому способствовало действие двух факторов.
Первый из этих факторов – интенсификация информационных потоков. Было относительно легко абстрагироваться от воздействия среды, когда его инструментарий ограничивался личными контактами и письменными текстами. Но современные формы культуры и средства коммуникации – кино, радио и телевидение – оказывают существенно более сильное давление на человека, потому что выдают информацию в непрерывном режиме и воздействуют на органы чувств комплексно (радио – словом и музыкальным сопровождением, а кино и телевидение, кроме того, еще и изображением). Влияние уплотнившегося информационного поля на мемуаристов может проявляться по-разному, от попыток полемики с «рупорами» и «голубыми экранами» до стремления подстроить всю свою биографию под требования киноиндустрии. Предельную интенсивность взаимодействия кинематографа и памяти представляет сочинение «самодеятельного писателя», пенсионерки из города Первомайска Ворошиловградской (Луганской) области (ныне – Украина) Е. Г. Киселевой. Это произведение, введенное в научный оборот в середине 1990х годов культурологами Н. Н. Козловой и И. И. Сандомирской[514], озаглавлено «Киселева, Кишмарева, Тюричева: я так хочу назвать кино» и имеет синкретическую форму: начинается как воспоминания, а продолжается как дневник, разделенный на записи, сопровождающиеся точными датами. Уже само заглавие указывает на то, что Е. Г. Киселева хотела бы сделать свою биографию основой для фильма. В свою очередь, детальный анализ текста обнаружил как прямые отсылки к советскому кинематографу, так и косвенные (возможно, подсознательные) заимствования из ряда кинокартин, особенно военных[515]. Случай Е. Г. Киселевой – крайний; для малограмотной, живущей вдалеке от основных центров культуры мемуаристки с неполным средним образованием радио и телевидение заменили все прочие формы культуры по необходимости. Но в воспоминаниях одного из создателей советской водородной бмбы, а в дальнейшем крупнейшего правозащитника академика А. Д. Сахарова также присутствуют и упоминания о передачах советского радио и телевидения, и даже беглое сопоставление собственного опыта мемуариста в науке с тем, как советские физики представлены на киноэкране:
История с «фальшивыми» нейтронами получила некоторое отражение в фильме режиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года», вышедшем на экраны в 60х годах; недавно его вновь показывали по телевидению <…>. Герой фильма – Гусев – имеет имя и отчество, напоминающие мои – Дмитрий Андреевич, но он экспериментатор; отец его живет в деревне (воплощает народную мудрость). Ромм пытался в своем фильме показать изнутри жизнь научно-исследовательского ядерного института, пафос и психологию работы над мирной (и – за кулисами – немирной) термоядерной тематикой. Мне первоначально фильм скорее понравился; теперь мне кажется, что его портит слишком большая «условность» большинства ситуаций[516].
Выявление содержательных и стилистических перекличек, которые связывают советскую мемуаристику с кино, радио и телевидением, – нетривиальная исследовательская задача, требующая от историка навыков параллельной работы с несколькими типами исторических источников. В то же время игнорировать влияние новых средств коммуникации на мемуарные тексты нельзя.
Вторым фактором, усиливавшим влияние среды на мемуаристов XX в., было развитие исторических знаний. Еще во второй половине XIX в. авторы воспоминаний начали воспринимать свой труд как общественное служение, долг перед будущими поколениями и, в частности, перед будущими историками. В XX в. такое восприятие стало достоянием всего общества и повлекло за собой качественное изменение социального статуса мемуариста. Автор воспоминаний стал фигурой уважаемой, а труд его – не увлечением одиночки, а общественно значимой работой. Последствия этих изменений оказались разнообразны.
Прежде всего сами мемуаристы (или, во всяком случае, часть из них) стали строже относиться к своим сочинениям, оценивая написанное с точки зрения полноты и достоверности. Простейшим проявлением этого нового восприятия воспоминаний становятся ссылки на недостатки человеческой памяти, сопровождающие многие мемуары. Так, «Воспоминания и размышления» маршала Г. К. Жукова начинаются со слов об этом:
На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жизни. Годы, дела и события выветрили из памяти многое, особенно относящееся к детству и юности. Запомнилось лишь то, что забыть нельзя[517].
Подобные оговорки избыточны для квалифицированного читателя, понимающего, что специфика и ценность воспоминаний – не в полноте информации, а в уникальности представленной точки зрения. Вместе с тем приведенные слова исключительно важны как проявление новых требований к мемуарному тексту, выдвигаемых изменившейся культурной средой.
Предотвратить неточности (и одновременно несколько облегчить груз ответственности) помогают обращения к источникам и специальной литературе, также составляющие отличительную черту мемуаристики XX в. Авторы воспоминаний используют материалы из личных и государственных архивов, привлекают издания и исследования, прибегают к помощи других участников описываемых событий или научных консультантов. В частности, в уже упомянутых «Воспоминаниях…» Г. К. Жукова использованы документы, хранившиеся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, Центральном партийном архиве, Архиве Министерства обороны СССР и др., мемуары советских и немецких военачальников, ряд научных исследований, включая коллективную многотомную монографию по истории Второй мировой войны, выпущенную в середине 1970х, Советскую военную энциклопедию и множество других материалов. Кроме того, маршал с благодарностью говорит о помощи «ряда товарищей», в том числе «генералов и офицеров Военно-научного управления Генерального штаба Советских Вооруженных Сил и Института военной истории»[518]. Работа с источниками и литературой, рассматриваемая авторами воспоминаний как неизбежное следствие их высокой общественной роли, сближает мемуары с научными исследованиями и публицистикой и в то же время сокращает пространство для проявления личностного начала.
Общество, со своей стороны, прилагало специальные усилия по собиранию и публикации воспоминаний о значимых этапах в истории страны. Советское историческое сознание формировалось в условиях неравномерного внимания власти к важнейшим для страны «местам памяти». Увековечение истории революционного движения началось уже в первые месяцы советской власти. Напротив, официальные представления о Великой Отечественной войне и соответствующие им практики коммемораций прошли несколько этапов становления, окончательно сформировавшись лишь в 1960–1970е годы. Наконец, даже после разоблачения культа личности память о сталинских репрессиях существовала по большей части подспудно и получила признание на государственном уровне только в конце 1980х. Соответственно, и усилия, затраченные властью на сбор и систематизацию воспоминаний о разных периодах истории страны, были неравномерны. Однако если мемуарист писал на приемлемую с точки зрения текущего момента тему и проходил идеологический контроль в частностях, то перед ним открывались широкие возможности публикации написанного как на страницах периодической печати, так и в виде самостоятельных книжных изданий. Воспоминания революционеров и участников Гражданской войны публиковались в журналах «Пролетарская революция» (1921–1941), «Каторга и ссылка» (1921–1935), сборниках «Материалы по истории профессионального движения в России» (1924–1927), «Старый большевик» (1930–1934), некоторых томах серии «История фабрик и заводов» (1931–1938), а также в ряде других периодических и непериодических изданий, выходивших под эгидой нескольких государственных и общественных организаций (Комиссий по истории Октябрьской революции и РКП(б)[519], Института К. Маркса и Ф. Энгельса и Института Ленина[520], Комиссий по изучению истории профессионального движения в России и СССР[521], Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Общества старых большевиков и др.), и в дальнейшем переиздавались. Военные мемуары печатались на страницах «Военно-исторического журнала» (выходил с 1939 по 1941 г. и с 1959 г. по настоящее время), в книгах серии «Военные мемуары» (1963–1990) и в самостоятельных изданиях; причем особенно значимые воспоминания издавались неоднократно[522]. Воспоминания репрессированных на государственном уровне никогда не собирались, но в те краткие периоды, когда дозволялось обсуждение темы репрессий, точками концентрации такого рода воспоминаний становились «толстые» литературные журналы, и прежде всего «Новый мир», репутация которого в качестве либерального и антисталинского была сформирована публикацией (в № 11 за 1962 г.) повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Систематический подход к сбору и изданию мемуаров позволил сохранить много уникальных материалов. В то же время перспектива снискать славу носителя памяти о героических и трагических страницах в истории страны выступала дополнительным стимулом писать «как надо», оглядываясь на ожидания властей и «широкой читательской аудитории».
Примечательным проявлением нового общественного статуса мемуаристов стала практика так называемой литературной записи воспоминаний крупных исторических деятелей профессиональными hommes de lettres – журналистами или писателями. Литературные записи появились еще в XIX в. (так, рассказ Н. С. Лескова «Кадетский монастырь» представляет собой обработанную стенограмму воспоминаний издателя и общественного деятеля Г. Д. Похитонова), однако в советское время эта практика получила интенсивное развитие, не в последнюю очередь благодаря подержке М. Горького, который видел в литературной записи ценную возможность сохранить уникальный исторический опыт «бывалых людей» и в свое время сам осуществил литературную запись воспоминаний Ф. И. Шаляпина. В 1930е годы интенсивно публиковались записи рассказов рабочих[523], в 1940–1980е выходили и переиздавались записи воспоминаний участников Великой Отечественной войны[524], а уже в 1990е увидели свет записи бесед писателя Ф. И. Чуева с видными деятелями сталинской эпохи В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем[525]. За устоявшимся понятием «литературная запись» могут скрываться различные формы сотрудничества, от редактирования профессионалом уже готовой рукописи воспоминаний до написания текста фактически с нуля. Разнообразие сценариев взаимодействия обеспечивает разное соотношение личностных начал: в одних случаях воздействие литератора незначительно и ограничивается стилистической правкой, в других «помощник» осуществляет отбор и структурирование материала, плотно контролируя мысль мемуариста, личность которого едва угадывается в итоговом тексте. Более того, в некоторых случаях записываемые явно обозначают свое нежелание создавать мемуары[526], особенно в сотрудничестве с третьими лицами[527]. Но личные соображения отступают на второй план перед обязанностью человека поделиться своим уникальным опытом и социальной значимостью последнего.
В итоге мемуаристы XX в. оказались заложниками господствующих в обществе исторических представлений: социум определял за них и о чем, и что, и как писать. Это заставляет историка, привлекающего мемуары в качестве исторического источника, обращать особое внимание на литературные нормы и идеологические конструкты, характерные для того времени, когда они были написаны. Зная требования, которые общество предъявляло к презентации собственного прошлого, проще увидеть те ситуации, где автор позволил себе отступить от фактически сложившегося стандарта, а значит, и приблизиться к новому знанию о прошлом, расширяющему границы сложившихся представлений.
Часть II
Компаративное источниковедение как метод сравнительно-исторического исследования
Компаративное источниковедение – метод сравнительно-исторического исследования, базирующийся на теоретическом осмыслении положения, что основная классификационная единица источниковедения – вид исторических источников – репрезентирует объединенные единством целеполагания определенные формы социальной деятельности человека, совокупность которых составляет историю общества. Компаративное источниковедение позволяет выявить как общее в социокультурных ситуациях, зафиксировав схожесть видовой структуры порождаемых ими систем исторических источников, так и особенное – через экспликацию специфики становления отдельных видов исторических источников.
К определению «компаративное источниковедение» следует относиться как к термину, т. е. как к словосочетанию, обозначающему понятие, о содержании которого мы только что условились. В противном случае оно выглядит как тавтология, поскольку исследование вообще, и в том числе источниковедческое, вне сравнения невозможно.
Глава 1
Сравнительно-историческое исследование: постановка проблемы
1.1. Сравнение как способ познания
Сравнение – один из универсальных и наиболее распространенных методов научного познания. Сравнение – это, по сути, способ не только исследования, но и восприятия действительности. Видя какой-либо предмет, мы сравниваем его с теми образцами, которые уже содержатся в нашем сознании. Часто под сравнительным исследованием понимается обнаружение сходства/аналогий. Но результатом сравнительного исследования должна быть констатация черт как сходства, так и различия исследуемых объектов.
Если объекты обнаруживают больше различий, чем сходства, это вовсе не означает, что их нельзя сравнивать, а это есть нормальный вывод сравнительного исследования. Неучет этого обстоятельства ведет зачастую к слишком узкому пониманию возможностей сравнения.
Для иллюстрации приведем лишь один произвольно взятый, но весьма характерный пример – статью известной польской исследовательницы античности А. Вонсович «Сравнительный метод в изучении греческой колонизации», опубликованную в рамках дискуссии «Великая греческая колонизация: итоги и перспективы изучения»[528]. Рассматривая вопрос о границах применимости сравнительного метода при изучении различных регионов греческой колонизации, А. Вонсович указывает, что в ряде случаев анализируемые историками явления не подлежат сравнению. Исследовательница ставит проблему следующим образом: при сравнительном анализе необходимо предварительно ответить на вопросы: «Какие районы колонизации следует сравнивать, когда использовать параллели и в какой степени? Можно ли сравнивать механически все районы греческой колонизации или следует учитывать действительно сходные примеры?» Иллюстрируя эту мысль, А. Вонсович предлагает сравнивать милетские колонии в Причерноморье и фокейские в западной части греческой ойкумены. «Основой для сравнения этих двух линий колонизации, – пишет она, – можно считать сильно развитую торговлю, специфические отношения с местным населением <…> и т. д.» В то же время А. Вонсович предостерегает от сравнения «между, с одной стороны, колониями Милета в Колхиде и, с другой, ахейскими и дорийскими колониями в Великой Греции и Сицилии: их корни разные, неодинаковы функции, что a priori делает их различными и, соответственно, неудобными для сравнения»[529].
Но если посмотреть на проблему чуть шире, чем это делает А. Вонсович, то мы заметим, что вывод о сопоставимости милетских и фокейских колоний, равно как и о несопоставимости колоний Милета в Колхиде с ахейскими и дорийскими в Великой Греции и Сицилии, есть результат сравнительного исследования, а именно его первого этапа – установления одномасштабности и изоморфности сравниваемых далее объектов.
В связи с рассмотренным примером подчеркнем, что вопрос «Можно ли сравнивать два объекта, понятия и т. д.?» принципиально некорректен. Если такой вопрос возник, значит сравнение уже началось.
Итак, в процессе сравнения необходимо решить вопрос об одномасштабности сравниваемых объектов и их изоморфности. Но еще раз заметим, что этот вывод может быть получен лишь в процессе сравнения и должен рассматриваться как его результат.
Затем следует поставить вопрос о критериях сравнения. И это, как правило, вопрос самый сложный.
В обыденном понимании поставленные два вопроса могут быть интерпретированы следующим образом: с чего начинается сравнение – с обнаружения сходства или различия? Не углубляясь в поисках ответа в сферу психологии восприятия, заметим, что в процессе исследования эти два аспекта неразрывно связаны, но аналитически следует поставить на первое место сходство, т. е. определение одномасштабности и изоморфности объектов сравнительного исследования.
В рассмотренном выше примере из статьи А. Вонсович первый этап был практически выведен за рамки исследования, что часто происходит в случаях, когда проблема уже неплохо изучена и накоплен большой эмпирический материал, позволяющий специалисту на уровне интуиции уловить изоморфность объектов.
1.2 Сравнительно-историческое исследование
Сравнительно-историческое исследование предполагает отрефлексированное отношение к объекту, методу и задачам сопоставления исторических феноменов, четкую экспликацию критериев их сопоставления.
Проблематизация задач и метода сравнительно-исторического исследования происходит на рубеже XIX–XX в., во-первых, в связи с кризисом линейных, в том числе стадиальных, моделей исторического процесса, расширением умопостигаемого поля истории (терминология А. Тойнби) от государства к цивилизации, а также, во-вторых, в связи с осмыслением в ходе методологического кризиса рубежа веков оппозиции номотетики и идиографии как различных способов построения научного знания.
Оппозиции «номотетика – идиография» до сих пор отчасти сохраняет свой познавательный смысл[530]. Как было замечено выше, сравнение – универсальная категория мышления и универсальный метод научного познания, поэтому глобальные различия познавательных подходов не могут не проявиться по отношению к целям и способам сравнительно-исторических исследований.
На протяжении XX в. оба подхода обнаружили свою ограниченность в силу невозможности достижения на их основе целостного исторического знания. Противоречие между целостностью восприятия и дискретностью знания по-разному проявляется в номотетических и идиографических направлениях. Номотетический (типизирующий) подход моделирует историческое целое, абстрагируясь от деталей, иногда весьма значимых. Идиографический (индивидуализирующий) – воссоздает локальное целое, но не дает методологического инструментария для включения его во всемирно-историческое целое. Максимально ясно ограниченность возможностей и номотетического, и идиографического подходов проявляется при решении наиболее актуальных проблем современного исторического познания – гуманитаризации исторического знания и сравнительно-исторического исследования. Идиографический подход, сохраняя гуманитарный характер исторического познания, не дает, по сути, метода сравнительно-исторического исследования, поскольку имеет дело с индивидуальными культурными феноменами. Номотетический подход, давая возможность сравнительно-исторического исследования, ведет к дегуманизации исторического познания, поскольку абстрагируется от конкретного человека.
С точки зрения метода сравнительно-исторического исследования очевидно, что номотетические подходы нацелены на выявление общего, повторяющегося, а идиографические – на выявление различий.
Известный русский историк Н. И. Кареев (1850–1931), считавший себя последовательным позитивистом, предлагал весьма оригинальный способ примирения противоречий внутри данной оппозиции, разделяя сравнительно-исторический и сравнительно-социологический методы.
Исходным пунктом рассуждений Н. И. Кареева служит следующее утверждение:
Известная сумма фактов может изучаться вместе или потому, что между ними существует более или менее прямая связь, или потому, что, вне какой бы то ни было реальной связи между ними, наблюдается сходство их между собою, кроме случаев, когда и само сходство объясняется реальной связью[531].
Н. И. Кареев, отмечая заслуги О. Конта в становлении сравнительного метода в социологии, подчеркивает, что этот метод применялся «в интересах номологического, а не идиографического знания», а «вопрос о сравнительной методе в идиографических целях остается неразработанным»[532].
Н. И. Кареев раскрывает значение в истории наследования и заимствования различных культурных и социальных форм и приходит к выводу:
Во всех случаях, когда сходство того и другого у отдельных народов объясняется либо тем, что они нечто сообща унаследовали, либо тем, что нечто одни у других заимствовали, между сходными фактами устанавливается прямая генетическая связь, подобная той, которая существует между кровными родными или лицами, находящимися в свойстве[533].
При всей сложности различения наследования и заимствования и в том и в другом случае важно «наличие общих корней». Но Н. И. Кареев выделяет ситуации и другого типа:
Существует еще масса примеров поразительного сходства, иногда доходящего почти до тожественности, между бытовыми формами у народов, не имеющих общего происхождения и не находившихся в каком-либо соприкосновении между собою[534].
В качестве примера Н. И. Кареев приводит наблюдения этнографов над тем, что у самых разных народов существует обычай кровной мести, которая затем заменяется вирой. Такие совпадения, по его мнению, могут объясняться либо случайностью, либо «действием одинаковых причин». Познавательные ситуации разного типа требуют разных исследовательских подходов:
Следует <…> в сравнительном изучении различать сравнительно-историческое и сравнительно-социологическое: оба пользуются для сравнения историческими (или этнографическими) фактами, но историка интересуют лишь факты, между которыми можно установить генетическую связь, социолога же преимущественно факты, свидетельствующие о наличии в каждом примере одинаковой причины, приводящей к одинаковому следствию[535].
Стоит заметить, что Н. И. Кареев полагал, что на тех же основаниях и при помощи тех же сравнительно-исторического и сравнительно-социологического методов могут «сравниваться между собою и целые исторические процессы в их обобщенных и отвлеченных формулировках»[536].
Проводимое Н. И. Кареевым различение сравнительно-исторического и сравнительно-социологического подходов представляет для нас интерес еще и потому, что выбор сравнительно-исторического или сравнительно-социологического метода зависит не только и не столько от характера взаимосвязи исследуемых феноменов (наследование, заимствование или сходные причины возникновения), сколько от нацеленности историка на номотетический или идиографический метод исторического построения:
Предпринимая <…> сравнение, социолог будет интересоваться установлением общей истины, касающейся всех однородных предметов распространительно и вне тех, которые были взяты в расчет, тогда как историк, кроме того общего, что можно сказать о данном круге сравниваемых процессов, будет иметь в виду и то еще, что характеризует и каждый данный предмет в отдельности[537].
Естественно, что Н. И. Кареев сосредоточивает свое внимание на сравнительно-историческом методе, как, во-первых, отвечающем задачам собственно исторического познания и, во-вторых, менее разработанном. При этом он подчеркивает:
Сравнительное изучение однородных процессов в двух или нескольких странах может служить не только целям исторической генерализации, но и целям лучшего понимания отдельных разновидностей одного и того же общего исторического явления[538].
Н. И. Кареев оспаривает заблуждение (кстати, и по сию пору распространенное, что было отмечено выше), что задачей сравнительного исследования выступает исключительно обнаружение черт сходства сравниваемых объектов, а если объекты обнаруживают существенное количество различий, то применяется имеющийся штамп – «эти явления не сопоставимы» (при этом забывают, что такое утверждение – результат уже проведенного сравнения). Он утверждает:
Представление о сравнительном методе как об исключительном изучении сходств в целях обобщения – представление, существующее, кстати сказать, у многих, – ошибочно, и как раз сравнение пунктов различия помогает схватить все своеобразие отдельных частных случаев и тем лучше понимать местные, индивидуализирующие причины, условия, обстоятельства[539].
Любопытна перекличка размышлений русского философа, социолога и историка рубежа XIX–XX вв. Н. И. Кареева и современного французского историка М. Эмара, отстаивающего самобытность исторического познания перед лицом опасности наступления социологии[540]. Социологический вызов истории во французской традиции социального знания М. Эмар связывает с тезисом Э. Дюркгейма: «История может считаться наукой только в той мере, в какой она объясняет мир, а объяснить его возможно только благодаря сравнению». Следствием этого утверждения, по мнению М. Эмара, становится своеобразный социологический «империализм», выразившийся в формуле «Встав на путь компаративизма, история становится неотличимой от социологии».
Критически оценивая воздействие социологического компаративизма на историческое знание, М. Эмар подмечает одну особенность неравноправных взаимоотношений между историей и социологией:
Сравнение способов производства или политических режимов предполагает проведение различия между категорией общего и способами его проявления, или иными словами – проведение различий между существенным и дополнительным. Таким образом, из общей исторической картины изымается все то, что представляется лишенным какого бы то ни было значения, поскольку отклоняется от модели или нормы. Однако же эти небольшие отклонения, значение которых еще и преднамеренно преуменьшается, вновь обретают свою важность всякий раз, когда возникает возможность списать на них неудачу в итоге…[541]
Итак, мы показали, что номотетические и идиографические подходы различаются в числе многого другого и задачами применения сравнительного метода, нацеленностью его на поиск черт сходства или, наоборот, различий сравниваемых объектов.
Один из возможных вариантов синтеза номотетического и идиографического подходов дает оригинальная эпистемологическая концепция А. С. Лаппо-Данилевского, к которой в конечном счете восходит метод компаративного источниковедения.
Как уже отмечалось, на рубеже XIX–XX вв. наблюдается кризис линейных моделей историописания, начинает осознаваться необходимость глобальных подходов к изучению истории. Одно из основных понятий в концепции А. С. Лаппо-Данилевского – мировое целое; при этом объектом исторического познания выступает человечество как часть мирового целого. Понятие «мировое целое» не конструируется как эпистемологическая категория (например, как понятие общественно-экономической формации в марксизме). А. С. Лаппо-Данилевский констатирует восприятие человеческим сознанием мирового целого:
…только мировое целое, единое и единичное, становится в полной мере действительностью, каждая из частей которой лишь искусственно может быть извлекаема из реального единства для научного ее рассмотрения[542].
Таким образом, понятие мирового целого – это предельное понятие. Историк вычленяет объект своего исследования: человечество как часть мирового целого, наделенную сознанием и в качестве таковой воздействующую на мировое целое.
Кроме понятия «мировое целое», А. С. Лаппо-Данилевский вводит понятие «эволюционное целое», как часть которого рассматривается отдельный факт культуры (исторический факт). Поскольку факты культуры мыслятся как уникальные, не повторяющиеся во времени, «положение таких фактов в данном эволюционном целом <…> может быть только одно»[543]. Выстраивая эволюционное целое, исследователь, оставаясь на позициях идиографии, должен иметь в виду не изменения, повторяющиеся в действительности (поскольку признание устойчивой повторяемости ведет к фиксации закономерности, что свойственно номотетике), а единичный процесс изменения – как таковой, взятый как целое.
А. С. Лаппо-Данилевский, отталкиваясь от современного ему деления наук на номотетические и идиографические, синтезирует эти понятия, рассматривая их как два подхода к единому объекту истории. Он пишет:
С номотетической точки зрения историк изучает то, что есть общего между изменениями, с идиографической – то, что характеризует данное изменение, отличает его от других и, таким образом, придает ему индивидуальное значение в данном процессе[544].
Необходимость сочетания номотетического и идиографического подходов в исследовании объекта культуры при ведущей роли идиографического вытекает из самой природы идиографии. Интересуясь каждым единичным уникальным фактом, исследователь вынужден выбирать из них факты с историческим значением. При номотетическом подходе критерием такого отбора выступает типичность, при идиографическом – ценность, определяемая в том числе и по силе воздействия на эволюционное целое. Таким образом, А. С. Лаппо-Данилевский, синтезируя номотетический и идиографический подходы, показывает, что отличие выявляется на фоне сходства, а сходство, в свою очередь, выявляется при элиминировании различий.
«Номотетическое изучение влияния среды на индивидуумов в ея уравнительном значении» в полной мере реализуется в основной классификационной единице источниковедения – виде исторических источников[545], что и позволяет на этой основе построить метод компаративного источниковедения.
Два основных вопроса сравнительно-исторического исследования – выбор одномасштабных и изоморфных объектов и определение критериев сравнения – мы и попытаемся разрешить на основе метода компаративного источниковедения, апробировав его в применении к сравнительно-историческому исследованию России и Западной Европы в Новое время.
Сравнительно-историческое исследование необходимо проводить в контексте как эволюционного, так и коэкзистенциального целого, и метод компаративного источниковедения предоставляет такую возможность. Но, прежде чем приступить к его демонстрации, проанализируем, как работает сравнительный метод в исторических теориях XVIII–XX вв., дабы четче выявить специфику и возможности источниковедческого подхода при решении этой методологической проблемы.
Глава 2
Сравнительный метод в исторических теориях XVIII–XX веков
На протяжении XVIII – начала XXI в. задачи и метод сравнительно-исторического исследования развивались от прагматического сравнения отдельных фактов до сравнения крупных социокультурных структур как основы построения концепций глобальной истории.
Поскольку нас интересует по преимуществу сравнительно-историческое исследование не отдельных исторических фактов, а социокультурных общностей в их коэкзистенциальной и исторической составляющих, мы не будем обращаться к историческим трудам эпохи Просвещения, задача которых была дать нравоучительные примеры и посему «события и деяния» не оценивались по их месту в историческом целом, а сравнивались с вневременными моральными образцами.
2.1. Метод аналогий в концепции И. Ф. Шиллера
Историк конца XVIII в. уже не мог вслед за лордом Болингброком сказать: «Защищенный от обмана, я могу смириться с неосведомленностью»[546]. Новое восприятие истории как целостного процесса, завершающегося в настоящем, заставило поставить совершенно новые проблемы: как при ограниченности и отрывочности источниковой базы воссоздать целостность?
Обратимся к попытке И. Ф. Шиллера (1759–1805) дать целостное видение исторического процесса. Историко-теоретическая концепция И. Ф. Шиллера обусловливает и его теоретико-познавательную позицию; они обе компактно изложены во вступительной лекции И. Ф. Шиллера к курсу всеобщей истории (1789)[547]. И. Ф. Шиллер настолько убежден, что все народы проходят одинаковые ступени исторического развития, что предлагает использовать знания об обнаруженных европейцами на других континентах народах для изучения ранней европейской истории. Он рассматривает метод аналогий как один из основных в историческом познании, позволяющий реконструировать те периоды прошлого, от которых не осталось исторических источников:
Как будто какая-то мудрая рука сохранила для нас эти дикие народы до того времени, когда мы в нашем культурном развитии шагнули достаточно далеко вперед, чтобы из этого открытия сделать полезное применение для самих себя и в этом зеркале увидеть потерянное начало нашего рода[548].
И. Ф. Шиллер живописует мрачную картину состояния многих народов, стоящих на более низкой ступени исторической лестницы, и продолжает:
Такими были и мы сами восемнадцать столетий тому назад. Цезарь и Тацит нашли нас не в лучшем состоянии…[549]
И весьма эмоционально подытоживает сравнение вновь открытых народов с современным ему европейским обществом конца XVIII в.:
Как противоположны эти картины! Кто мог бы узнать в утонченном европейце XVIII века лишь ушедшего вперед в своем развитии теперешнего канадца или древнего кельта? Все эти усовершенствования, стремление к искусству, завоевания опыта, все эти произведения разума выражены и развились в человеке лишь на протяжении немногих тысячелетий <…>. Через какие состояния прошел человек, пока он дошел от одной крайности до другой, от уровня дикого обитателя пещеры до талантливого мыслителя, до образованного человека? Всеобщая история дает ответ на этот вопрос[550].
Для И. Ф. Шиллера философским основанием компаративного подхода была убежденность в единстве и неизменности законов природы и человеческого духа. Именно поэтому сравнение по аналогии имело для него универсальный характер. И нацелено оно было более на выявление общего, чем различий. И. Ф. Шиллер приходит к выводу:
Именно это единство является причиной того, что при совпадении аналогичных внешних условий события, имевшие место в отдаленнейшей древности, могут повторяться в новейшие времена, вследствие чего, отправляясь от новейших явлений, лежащих в круге нашего наблюдения, ретроспективно можно делать выводы и проливать свет на явления, которые теряются в доисторических временах. Метод заключений по аналогии всюду является мощным вспомогательным средством, в том числе и в истории[551].
Таким образом, И. Ф. Шиллер четко формулирует задачу сравнительного исследования применительно к изучению европейской истории, особенно ранней. Но ставит он и другую проблему – проблему сравнения разных периодов истории одного народа при воссоздании ее целостности.
Сравнительный анализ различных обществ выступает как средство выстраивания главным образом эволюционного целого, которое воплощается, в частности, в виде двух аналогий:
• «ступени исторического развития»: разные народы находятся на разных ступенях этой единой лестницы;
• «возраста человечества»: европейцы – это взрослые, остальные народы сопоставимы с детьми разных возрастов.
Наиболее существенной характеристикой этого этапа становления методологии сравнительных исследований можно назвать то, что коэкзистенциального целого человечества как бы не существует. И это парадоксально только на первый взгляд. Парадоксально потому, что историк не может не ощущать себя живущим одновременно с другими людьми, т. е. в коэкзистенциальном пространстве истории. Хотя включенность в коэкзистенциальное пространство наиболее отчетливо начинает ощущаться только в XX в., что ведет к изменению целей компаративного исследования. Парадоксально на первый взгляд потому, что если мы обратимся к образу лестницы, рассматривая каждую ступеньку как некоторое коэкзистенциальное пространство, то европейцы с позиций европоцентризма окажутся одни на своей ступеньке и будут воспринимать другие, одновременно живущие с ними народы как представителей более ранних ступеней истории человечества (рецидив такого подхода мы обнаруживаем в работе Ф. Энгельса (1820–1895) «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) и даже в определенной мере у З. Фрейда (1856–1939) в книге «Тотем и табу» (1913)).
Цель сравнительно-исторического исследования в этом случае – изучить иные социокультурные общности, как существующие одновременно с проводящим исследование историком и доступные этнографическому описанию, так и уже исчезнувшие и доступные только историческому изучению, и на этой основе реконструировать начальные периоды собственной истории, в частности заполнить те пробелы, которые обусловлены недостатком сведений исторических источников.
2.2. Формационная модель как основание метода сравнительно-исторических исследований
Теория общественно-экономических формаций К. Маркса (1818–1883) и Ф. Энгельса – по сути, классический образец стадиальной теории. В своем модельном виде она предполагает, что все народы последовательно проходят через все общественно-экономические формации – ступени исторического развития. Будучи именно стадиальной, теория общественно-экономических формаций работает на уровне метода. В предисловии к первому изданию «Капитала» К. Маркс, исходя из убеждения в закономерности общественного развития, писал:
Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития <…> не может ни проскочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов[552].
Как хорошо известно, К. Маркс выбрал в качестве объекта исследования «капиталистического способа производства и соответствующих ему отношений производства и обмена» Англию как «классическую страну этого способа производства». Но при этом К. Маркс подчеркивает, что Англия «служит главной иллюстрацией для <…> теоретических выводов», поскольку установленная закономерность имеет всеобщий характер:
Дело здесь само по себе не в более или менее высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего[553].
Мы видим, что в той части, которая касается методологии сравнительно-исторического подхода к исследованию разных обществ, К. Маркс высказывает мысль не просто созвучную, но практически полностью соответствующую вышеприведенным размышлениям И. Ф. Шиллера. Но при одном весьма существенном дополнении: у Маркса сравнение опосредуется знанием законов общественного развития, социальной модели, которая и служит образцом для сравнений.
Такой метод компаративного исследования получил значительное распространение. Например, М. Вебер (1864–1920), изучая формы религиозного неприятия мира, следующим образом описывает исследовательский метод:
Прежде чем обратиться к названной религиозности, мы считаем целесообразным уяснить себе в схематической и теоретической конструкции, под влиянием каких мотивов вообще возникали религиозные этики неприятия мира и в каких направлениях они развивались, другими словами, каков мог быть их возможный «смысл». Назначение конструируемой здесь схемы состоит, конечно, только в том, чтобы служить идеально-типическим средством ориентации… [выделено мной. – М. Р.][554]
Таким образом, если руководствоваться теорией исторического процесса Маркса – Энгельса в качестве метода, то основанием для сравнения будет служить формационная модель и мы будем определять исследуемое общество в первую очередь как первобытнообщинное, рабовладельческое, феодальное и т. д. Именно опосредующее значение модели отличает метод сравнения в рамках стадиальной теории общественно-экономических формаций от того метода прямых аналогий, который сформулировал И. Ф. Шиллер.
Рассматривая историко-теоретические концепции Г. В. Ф. Гегеля (1770–1831) и К. Маркса, как правило, их сближают, особенно в сфере метода, часто определяя метод Маркса как гегельянский и различая лишь онтологические основания их построений.
Б. Рассел, резко критикуя философию Гегеля, признавал:
…его философия истории оказала глубокое влияние на политическую теорию. Маркс, как всем известно, был в молодости учеником Гегеля и сохранил в своей системе, в ее окончательном виде, некоторые существенные гегельянские черты…[555]
Р. Дж. Коллингвуд в «Идее истории» идет еще дальше. Выстраивая изложение третьей части своего труда главным образом по авторскому принципу, он объединяет критику Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса в одном параграфе и называет Маркса «непосредственным учеником» Гегеля.
Мы же попытаемся показать, что с точки зрения выстраивания исторического целого концепции Гегеля и Маркса принципиально различны. Маркс как философ эпохи практически безраздельного господства позитивизма не мог целостно воспринять (не в смысле понимания, а в смысле адаптации к нуждам XIX в.) концепцию Гегеля.
Но начнем с выявления сближающих эти концепции моментов. Концепции Гегеля и Маркса объединяет следующее:
• сравнительный анализ проводится во всемирно-историческом масштабе;
• и в той и в другой концепциях формулируется единый критерий сравнения: степень обретения свободы Абсолютным духом у Гегеля и развитие производительных сил у Маркса.
И в этом мы можем согласиться с Коллингвудом, который писал:
Марксовская концепция истории отражает как сильные, так и слабые стороны гегелевской: с тем же искусством Маркс проникает вглубь фактов и выявляет логические связи понятий, лежащих в их основе; но и слабости Гегеля отражаются на его взглядах: выбирается один из аспектов человеческой жизни (у Гегеля – политический, у Маркса – экономический), который якобы сам по себе наиболее полно воплощает ее разумность. Маркс, как и Гегель, настаивает на том, что человеческая история – не некий набор различных и параллельных историй, историй политики, искусства, экономики, религии и т. д., но одна, единая история. Но опять же, как Гегель, Маркс мыслит это единство не как органическое, в котором каждый элемент процесса развития сохраняет свою непрерывность и вместе с тем тесную связь с другими, а как единство, в котором лишь один непрерывный элемент (у Гегеля – политическая история, у Маркса – экономическая), в то время как другие факторы исторического процесса не имеют такой непрерывности…[556]
Именно этот непрерывный фактор и дает критерий сравнительного исследования.
Но у концепций Гегеля и Маркса есть ряд принципиальных различий (при этом мы специально не останавливаемся на различиях собственно философского характера):