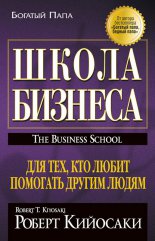Троцкий против Сталина. Эмигрантский архив Л. Д. Троцкого. 1929–1932 Фельштинский Юрий
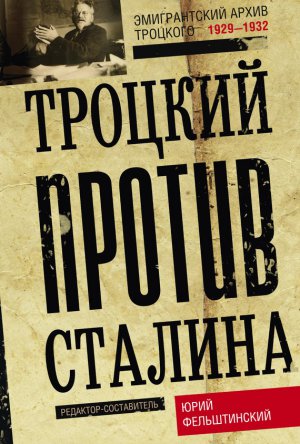
— Если понимать это в парламентском смысле, т. е. как замещение одной группы политиков другой, то я отвечу на ваш вопрос отрицательно. Дело идет не о том, чтобы заменить Сталина, Молотова, Кагановича и их сторонников другими лицами, а о том, чтобы вернуть партии, профессиональным союзам и Советам контроль над всеми исполнительными органами и чтобы открыть возможность рабочим свободно разобраться в причинах неудач и путях выхода, как это всегда делалось в прошлом.
Но разве это не должно в конце концов привести к замене у власти сталинской фракции вашей фракцией?
— Покажет будущее. Решать будет партия. Мы требуем лишь восстановления левой оппозиции в составе партии. Мы готовы сейчас, как и во все прошлые годы, оказать правящей ныне фракции наше содействие полностью и целиком на любой работе.
Вы согласны, следовательно, если я вас правильно понимаю, на сотрудничество со Сталиным, даже на подчиненном положении, несмотря на то что Сталин выслал вас из СССР и лишил даже прав советского гражданина?
— Безусловно. Речь идет, конечно, не обо мне одном. Мы, как фракция, не раз уже делали на этот счет совершенно точные заявления. Смотрите, я раскрываю «Бюллетень» русской оппозиции, номер от октября 1929 г. и читаю: «Оппозиция ставит существо дела выше формы, интересы революции выше личных или кружковых амбиций. Она готова занять в партии самое скромное место. Но она согласна занять его, лишь оставаясь самой собою»[813]. Дело идет совсем не о Сталине, а о чем-то превосходящем по значению личную судьбу каждого из нас. Политика не знает мести, — я говорю, конечно, о политике, преследующей большие исторические задачи.
Позвольте задать вам два-три вопроса в связи с вашим последним путешествием. Какие впечатления вы вывезли из Европы?
— Вопрос звучит немножко слишком обще. Во всяком случае, ни на воде, ни на суше я не нашел повода для перемены своих политических взглядов. Весьма возможно, что в этом виновата не Европа, а консерватизм моей собственной мысли. Но все же… Во время войны, значительную часть которой я провел во Франции, я слышал изо дня в день, что страшные жертвы приносятся во имя свободы народов и демократии. Между тем послевоенная Европа изо всех сил стремится показать, что полицейский режим старой гогенцоллернской Пруссии стал для нее высшим образцом. В датском королевстве, где у власти стоят социал-демократы, дело обстоит не многим иначе, чем в германской республике, где правят монархические генералы. Францией радикала Эррио, как и Францией реакционера Тардье[814], управляют чиновник, полицейский и сыщик.
Но все же демократические правительства Франции и Дании выдали вам визу?
— Как и правительство Италии, которое никем не причисляется к демократии. Меры контроля имели во Франции, во всяком случае, несравненно более назойливый и вызывающий характер. Несмотря на то что я с полной лояльностью выполнял свое обещание о невмешательстве во внутреннюю политику, французская полиция обращалась со мной, как если бы я представлял собою самовоспламеняющийся груз необыкновенной взрывчатой силы.
Некоторые газеты писали, будто визу вам дали в надежде на то, что вы выступите против Советов?
— Если бы я начал опровергать все то, что газеты сообщали в связи с моей поездкой, мне пришлось бы отказаться от всякой другой работы. Вряд ли, однако, в Европе имеются столь наивные, мягко говоря, правительства, чтоб искать во мне союзника против советской республики. Правда, сталинская фракция распространяет такого рода версию для оправдывания своих репрессий против моих единомышленников, но ее утверждениям на этот счет не верит ни один серьезный человек, ни в Европе, ни в СССР. Если допустить все же, что в среде врагов советского государства были какие-нибудь иллюзии на мой счет и если мой доклад эти иллюзии рассеял, то я, во всяком случае, не вижу основания жалеть об этом.
Принкипо, 27 декабря 1932 г.
О позабывших азбуку (Против Р. Веля и других)
Протест нескольких немецких товарищей против статьи «Обеими руками»[815] может быть истолкован двояко: во-первых, как поиски удобного повода для капитуляции; во-вторых, как принципиальная ошибка запутавшегося искреннего оппозиционера. Первый вариант я оставляю в стороне: он не представляет теоретического интереса. Второй случай заслуживает рассмотрения.
Статья «Обеими руками» предупреждает о том, что политика Сталина в важнейших вопросах приблизилась к таким решениям, которые могут получить бесповоротный характер. Статья напоминает, что сталинская фракция присоединилась к пакту Келлога[816] и к американской программе разоружения[817]. Насчет оценки этих исключительно важных действий у нас никогда не было разногласий. Статья приводит скандальную беседу Сталина с Кэмпбеллом[818], которая очень ярко освещает тот путь, на который стал Сталин.
«Но неужели же вы думаете, что Сталин действительно способен на предательство?» — раздается возражение. Удивительный довод, который показывает, что некоторые товарищи, несмотря на молодой возраст, успели забыть марксистскую азбуку. Разве мы оцениваем политику в зависимости от априорного доверия или недоверия к тому или иному лицу? Политическая линия вырабатывается давлением классовых сил и объективных обстоятельств и развивает свою собственную логику.
В 1922 году советская страна проходила через тяжелый экономический кризис. На ноябрьском пленуме ЦК Сталин и другие приняли решение, отменяющее по существу монополию внешней торговли. Как назвать такое решение: предательством или не предательством? Субъективно Сталин, конечно, не хотел предавать социалистическое будущее. Но отмена монополии по своим неизбежным, и притом ближайшим последствиям ничем не отличается от отмены национализации средств производства. Недаром весь капиталистический мир в первые годы советского режима из всех сил добивался «смягчения» монополии внешней торговли. Объективно ноябрьское решение 1922 года было актом измены социализму. Субъективно оно оказалось возможным потому, что у Сталина и других не нашлось достаточной силы теоретического и политического сопротивления против напора хозяйственного кризиса.
Исторический пример с монополией внешней торговли как нельзя лучше освещает сегодняшний спорный вопрос. Мы наблюдали после того политику Сталина на целом ряде важнейших исторических этапов. Как назвать его политику в Китае, т. е. его союза с Чан Кайши против пролетариата? В этом случае правый зигзаг бюрократического централизма был доведен до последних логических выводов. Или, может быть, найдется оппозиционер, который станет отрицать, что политика Сталина в Китае служила буржуазии против пролетариата? Дополним, что Сталин дополнял эту политику разгромом тех русских большевиков, которые хотели помочь китайскому пролетариату против буржуазии. Что ж это такое, как не предательство?
С ноября 1922 года прошло более 10 лет. Экономическое положение СССР вступило в полосу исключительно острого кризиса. В мировой обстановке также немало опасностей, которые могут сразу обрушиться в случае дальнейшего обострения внутренних трудностей.
Преступная политика сплошной коллективизации и авантюристских темпов индустриализации окончательно уперлась в тупик. Если оставаться в рамках бюрократического централизма, то выхода нет. Возможны лишь поиски паллиативов и оттяжек. Иностранные кредиты могли бы, несомненно, внести смягчение во внутренний кризис. Америка говорит, что она не согласна отказываться от военных долгов без «эквивалента». Она потребует эквивалента и за новые кредиты. Программа ее требований нам достаточно известна по прошлому: признание довоенных и военных долгов; «смягчение» монополии внешней торговли; фактический разрыв с Коммунистическим Интернационалом; поддержка американской политики на Д[альнем] Востоке и пр.
Известные уступки (в отношении долгов, напр[имер]) вполне допустимы. Но как раз этот эквивалент наименее интересует С[оединенные] Штаты. А как обстоит дело, напр[имер], с Коминтерном? Пятый год не созывается конгресс. Что ж это, случайность, что ли? Одним из мотивов Сталина является, несомненно, мысль: не стоит дразнить Гувера, мировой пролетарский авангард обойдется как-нибудь и без конгресса. Что же остается от Коминтерна в Москве? Жалкие пленумы, руководимые Мануильским, цену которому Сталин очень хорошо знает. Так ли трудно отказаться от этих «остатков»?
Монополия внешней торговли в качестве «эквивалента» представляет больше препятствий. Но и здесь о каких-либо абсолютных гарантиях не может быть и речи. Если десять лет тому назад, когда советская промышленность находилась в состоянии полного распада, Сталин шел в этом вопросе на величайшие уступки иностранному капиталу, то тем более можно опасаться сдачи позиций теперь, когда промышленность значительно выросла. «Мы настолько сильны, — скажет аппарат рабочим, — что можем позволить себе смягчение монополии внешней торговли». Капитулянтская слабость по отношению к мировому капитализму будет в этом случае, как и во многих других, прикрываться видимостью силы.
На чем, собственно, основаны возражения запутавшихся протестантов? На вере в добрые намерения Сталина. Только, больше ни на чем. «А все же, — думают или говорят они, — Сталин не продал до сих пор советской республики». Замечательное глубокомыслие! Во-первых, отвечаем мы, одной из причин, заставлявших политику Сталина останавливаться на полдороге, являлись решительные действия оппозиции, которая не распускала слюны блаженного доверия, а, наоборот, призывала рабочих во все критические моменты к решительной бдительности; во-вторых, в Китае политика Сталина развернулась все же до конца и привела к полному крушению второй китайской революции.
Тут безнадежно запутавшийся протестант, отступая, займет новую позицию. «Это все ваши предположения, — скажет он, — вы не можете их доказать». Это верно: чтобы доказать, надо подождать результатов, т. е. крушения советской власти в результате доведенной до конца политики бюрократического централизма.
Если бы аппарат находился под контролем партии; если бы передовые рабочие обсуждали вопросы политики и проверяли свои исполнительные органы, мы имели бы серьезные гарантии последовательного развития политики. Но ведь этого-то именно и нет.
Никто не знает за пределами тесного и все более сужающегося сталинского кружка, какие меры подготовляются для выхода из кризиса. Можно ли серьезно относиться к тому «революционеру», который в подобной обстановке, где действуют могущественные исторические факторы, строит свои перспективы на психологических догадках или на моральных оценках того или другого лица? Когда Устрялов выражал надежду на то, что НЭП собственной логикой приведет большевистскую партию к буржуазному режиму, Ленин говорил: «Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны. История знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества, это — вещь в политике совсем не серьезная». Ленин говорил это о партии 1922 года. Что же сказать теперь?
Некоторые из протестантов вызывают по поводу нашей статьи призрак Урбанса: мы будто бы придвинулись к его оценке сталинизма. Неловко даже разбирать такой довод в конце декабря 1932 года. С Урбансом у нас шел спор о природе советского государства. Урбанс не мог понять и не понял до сих пор, что центристская политика на основе пролетарского государства еще вовсе не меняет автоматически характер государства. Все зависит от степени, от соотношения борющихся сил, от этапа, которого достигло противоречивое развитие. Демократический централизм ослабляет пролетарскую диктатуру, задерживает ее развитие, подтачивает, как болезнь, ее костяк, пролетариат. Но болезнь еще не значит смерть. От болезни можно вылечиться. Урбанс объявлял попросту диктатуру ликвидированной, тогда как мы боремся за возрождение и упрочение еще живой, еще существующей диктатуры, хотя и сильно подточенной сталинским центризмом.
Но что сказать по поводу тех горе-оппозиционеров, которые из факта существования пролетарской диктатуры делают вывод о необходимости доверия к бюрократическому центризму, подтачивающему эту диктатуру? Что сказать о таких «медиках», которые неожиданно приходят к откровению, что для благополучия больного лучше всего не замечать симптомов болезни, прикрашивать положение и вместо систематического лечения ограничиться надеждой на то, что больной с божьей помощью и сам выздоровеет?
Наши протестанты обнаруживают столь же глубокое непонимание взаимоотношения между советским государством и бюрократическим центризмом, как и Урбанс. Только свое непонимание они окрашивают в контрастную краску.
Лишь ужасающе низкий уровень, в котором сталинская бюрократия держит коммунистическое движение в целом, объясняет тот в высшей степени прискорбный факт, что товарищи, в течение нескольких лет учившиеся в школе оппозиции, могут впадать в такие плачевные и компрометирующие ошибки. Ничего не поделаешь! Потратим несколько часов на повторение азбуки; если не поможет, перешагнем через упорно отстающих и пойдем вперед.
Принкипо, 29 декабря 1932 г.
Долой Сталина!
Все полученные нами за последнее время письма свидетельствуют, что наиболее популярной поговоркой в партийных кругах, особенно в Москве, является «Долой Сталина». Понять происхождение этого узенького и коротенького лозунга не трудно. Но он все же явно несостоятелен. Персонально Сталин не существует: он не пишет, не говорит, не появляется даже на пленуме Коминтерна. Он живет как объединяющий миф бюрократии. Сталина мог бы с успехом заменить Молотов и даже Каганович: когда-то австрийского наместника Гайсслера[819] в Швейцарии заменяла для известных целей шляпа Гайсслера.
Недовольства и критики в партии очень много. Число оппозиционных группировок и оттенков непрерывно растет, оживают старые, казалось, совсем ликвидированные или совсем ликвидировавшие себя политические группы. Так всегда бывает на первых шагах политического кризиса. Эти явления оппозиционного характера будут в течение известного времени неизбежно расти. Левая оппозиция может оказаться даже на известное время отодвинута на второй план. Этого не надо пугаться. Политическая правота прокладывает себе дорогу в эпоху кризиса скорее, чем когда-либо. Необходимым условием для этого является организованное выступление самой левой оппозиции. Она должна поднять голос.
«Насквозь прогнившие осколки разбитых оппозиционных группировок», по выражению «Правды», «пытаются кое-где поднять голову». Ответ на это: бить вдвое по голове.
Самым тяжелым последствием иллюзий и разочарований первой пятилетки является пониженное настроение в рабочем классе. На «пессимизм» и «упадок духа» ссылаются все письма.
«В работе партийной организации, — пишет «Правда» по поводу Сталинградского тракторного завода, — нет сейчас такого большевистского огонька, той энергии, которая является обязательным условием успеха».
Откуда же ей быть? Было бы противно человеческой природе, если бы рабочие, встречающие вторую пятилетку среди тяжелых лишений, сохранили те чувства подъема, которые сопутствовали первым двум годам первой пятилетки. В политических настроениях пролетариата, наиболее закаленного и стойкого класса, тоже есть свои приливы и отливы. Но было бы в корне ложно рассматривать дело так, что русский пролетариат надолго, если не навсегда, израсходовал свой революционный исторический заряд, подобно тому как это происходило с буржуазией в буржуазных революциях. Буржуазия достигала своей цели. Продолжение революций могло направляться только против нее. Пролетариат не достиг своих целей. Перенапряжение сил и разочарование, несомненно, входят разлагающим элементом в его нынешнее состояние. Но можно сказать с уверенностью даже издалека, что тяжелее всего бьет по сознанию пролетариата чувство растерянности. В течение последних 9-ти лет он присутствовал все больше и больше в качестве зрителя при разгроме старого руководства, при сосредоточении всей власти в руках аппарата, при постепенной передвижке власти в верхние звенья аппарата, при сосредоточении всех познаний, качеств, авторитета, наконец, абсолютной непогрешимости, сперва в «ленинском ЦК», затем в одном Сталине. Последствия сталинского руководства налицо. Сам Сталин политически исчез. Все, кто еще говорят, говорят пока еще именем Сталина. Но они говорят только для того, чтобы ничего не сказать. Авангард пролетариата растерян; ко всяким новым планам и рецептам он склонен относиться с предвзятым недоверием.
Крупные факты, ясно поставленные задачи, конкретная и непосредственная опасность сразу показали бы, насколько велики силы советского пролетариата.
Крупнейшим фактом явилась бы, конечно, революция на Западе. Германия явно стоит на очереди. Саботаж сталинской бюрократии по отношению к германской революции является сейчас самым страшным из исторических преступлений. Ход немецких событий повелительно внушает нам ту мысль, что нельзя делать революционную политику в одной стране. Возрождение ВКП неразрывно связано с возрождением Коминтерна.
Но и наоборот, укрепление реакции в Германии и связанная с этим опасность империалистской войны против СССР может послужить непосредственным толчком к новому политическому подъему советского пролетариата. Наконец, фактически такое же действие могут оказать и итоги первой пятилетки, когда пробьет час окончательного подсчета.
Чтобы открыть в себе источники подспудной энергии, рабочим нужно разобраться, понять, проверить то, что произошло, уяснить себе причины и открыть просвет к будущему.
Именно здесь открывается историческая функция левой оппозиции.
В сущности, эта программа была достаточно конкретно намечена за последние два года в работах левой оппозиции, особенно в замечательной статье Х.Г. Раковского[820]. Он предупреждал против гонки и требовал продления плановых сроков. Результат известен: самому Раковскому срок ссылки во всяком случае продлили на три года.
Идет ли дело о разногласиях по существу или лишь о формулировке лозунга? Это определится тем скорее, чем точнее мы попытаемся схватить сущность вопроса.
В партии живут и борются три основные группировки: левая, центристская и правая. Между ними и вокруг них располагаются подфракции и оттенки. Имя Сталина является именем аппаратной фракции, которая сегодня еще господствует. Считаем ли мы нужным организованный разрыв с этой фракцией? И далее: считаем ли мы возможным призвать ее низвержение вооруженной рукой?
Политические лозунги надо сейчас ставить не в узких пределах «внутрипартийной дискуссии», а в широких рамках классовых группировок в стране. Для термидорианских сил лозунг «долой Сталина» есть только персональное выражение лозунга «долой большевиков».
Если бы левая оппозиция была сегодня так сильна, чтобы могла бы прямым натиском пролетарского авангарда ликвидировать диктатуру бюрократии, лозунг «долой Сталина» имел бы вполне определенное значение: реформа партийного режима под руководством большевиков-ленинцев. Именно в этом «пропагандистском» смысле мы писали в открытом письме ЦИКу, что пора выполнить завет Ленина и «убрать Сталина»[821].
Но оппозиция сегодня не может непосредственно претендовать сменить собою сталинскую фракцию и обеспечить реформу партии и Советов. Впереди возможны разные варианты. Напор термидорианских сил уже в близком будущем может принять такой характер, что мы окажемся в общем фронте со сталинцами и даже со значительной частью правого крыла партии. В этих условиях мыслит, например, коалиционный ЦК как временное орудие для возрождения партии.
Совсем не исключена возможность того, что сталинская верхушка, и Сталин в том числе, не захотят или не сумеют в нужный момент отделиться от термидорианских сил, наоборот, временно возглавят их в интересах самосохранения. В этих условиях лозунг «долой Сталина» означал бы лозунг прямой борьбы против сил термидора.
/На прошлом мы не ставим креста. Мы ничего не забыли и кое-чему научились. Но мы всегда готовы открыть кредит будущему. Мы всегда готовы идти на соглашения во имя вполне определенных задач, если такое соглашение способно ускорить радикальную реформу и снизить ее накладные расходы./[822]
Лозунг «долой Сталина», который выдвинут будто бы новой оппозицией, мы считаем неправильным, ибо двусмысленным[823]. С одной стороны, он может быть истолкован в духе французской поговорки: «Встань-ка, чтобы я сел на твое место». С другой стороны, он может быть истолкован как лозунг разгрома сталинской фракции, изгнания ее членов из партии и пр. Ни то ни другое не составляет нашей цели. Нам нужно изменение партийного режима в качестве предпосылки капитальной реформы рабочего государства. Мы меньше всего зарекаемся от сотрудничества со сталинской группировкой. Мы не сомневаемся, что и правые выделят из своей среды немало элементов, которые займут свое место, встанут по нашу сторону баррикады. Нынешние группировки, благодаря характеру режима, имеют в смысле личного состава зачаточный, черновой и притом крайне узкий характер. Подлинная политическая дифференциация целиком впереди.
Левая оппозиция не связывает себе рук воспоминаниями о вчерашнем дне и старыми кондуитными списками[824]. Ничего не забывая, она открывает пути к будущему.
Как быстро развернутся ближайшие события, мы отсюда, издалека, предсказывать не будем. Да вряд ли и вблизи возможны такие предсказания. Они вообще чрезвычайно затруднены, если не исключены самым характером кризиса, который политически все больше принимает форму открытого конфликта между бюрократией и тем классом, который ее выдвинул.
Не будем сейчас гадать, какой из вариантов более вероятен и более близок. На одних гаданиях, как бы они ни были сами по себе обоснованны, нельзя построить политику. Нужно иметь в виду разные тактические варианты.
Верно, что лозунг «долой Сталина» сейчас очень популярен не только в партии, но и далеко за ее пределами. В этом можно видеть выгоду лозунга, но в этом же, несомненно, и его опасность. Принимать покровительственную окраску, политически растворяться во всеобщем недовольстве сталинским режимом мы не можем, не хотим и не должны.
1932 г.
Письмо А. де Монзи[825]
Господин министр!
Со слов моего друга Анри Молинье я достаточно хорошо осведомлен о той исключительной настойчивости, которую вы столь любезно проявили в вопросе о предоставлении мне транзитной визы. Для меня не было также тайной ваше внимание к Раковскому, с которым я связан годами неразрывной дружбы[826]. Инцидент в Марселе не мог, разумеется, ослабить моих чувств благодарности лично по отношению к вам. Но, если позволено мне будет это сказать, не покушаясь на принципы министерской солидарности, я никак не мог и не могу распространить мои чувства /благодарности/[827] на того из ваших коллег, который ведал в те дни полицией. Не скрою от вас, что я откладывал писание этого письма до падения министерства Эррио, предпочитая благодарить министра в отставке. Но дальнейший опыт убедил меня, что министерство падает, а министр национального воспитания остается. Принося свою благодарность активному министру, я искренно извиняюсь за запоздание.
Инцидент в Марселе я ни прямо, ни косвенно не могу поставить себе в вину. Предоставление мне транзитной визы не означает предоставления французской полиции права третировать меня как арестанта. /Разумеется/[828], сам по себе этот эпизод слишком незначителен, чтобы на нем останавливаться. Но я очень жалел бы, если бы у вас осталось впечатление, будто я косвенно злоупотребил вашим любезным содействием. Позвольте поэтому изложить /всю/[829] суть в нескольких словах.
Измерив емкость гостеприимства Дании, мы с женой стремились[830] в кратчайший срок вернуться на Принкипо. В Дюнкирхене мне сообщили, что ближайший пароход из Марселя на Стамбул отходит только через неделю и что на этот срок мои друзья, по соглашению с парижскими властями и марсельской префектурой, приготовили для меня и членов моей семьи помещение в окрестностях Марселя. Я принял это, как принимают неизбежное. На вокзале в Марселе мне было неожиданно заявлено, что, вопреки предположениям, имеется пароход на Стамбул, отходящий на следующий день, и что моя жена и я должны немедленно погрузиться в этот пароход. Несмотря на то что я оставил двух секретарей в Париже для закупки книг и наведения справок в национальной библиотеке; несмотря на то что я успел пригласить[831] из Берлина в Марсель профессора Зенгера для переговоров о моих немецких изданиях, я не возражал марсельским властям ни одним словом. Хотя можно было ждать [от властей][832] лучшего знакомства с расписанием пароходов, я принял новое распоряжение[833] как неизбежное. Только после того как нас проводили в[834] каюту, мы узнали, что нас без предупреждения поместили на чисто грузовое судно, которое не имеет ни одного пассажира, останавливается в портах от 3 до 5 дней, лишено самых элементарных удобств, днем и ночью производит со страшным шумом погрузку и разгрузку и требует 15 дней вместо шести для совершения пути до Стамбула. Я никак не мог рисковать[835] здоровьем своей жены и своим собственным, только чтобы молча подчиниться произвольному, ничем не вызванному акту полицейских[836] властей. Вот что, господин министр, побудило меня покинуть пароход и заявить протест специальному комиссару с предупреждением, что погрузить на это судно[837] мою жену и меня можно будет не иначе, как с применением физической силы. Эпизод разрешился благодаря быстрому согласию итальянского правительства[838] предоставить мне транзитную визу.
Об этом инциденте я тогда же телеграфировал министру-президенту господину Эррио, который во время своего визита ко мне в Москве с шутливой любезностью справлялся при расставании, когда я предполагаю отдать ему визит в Париже.
Прошу вас не видеть во всем изложенном и намека на жалобу. Мне приходилось в жизни наталкиваться на более крупные осложнения, которые оставляли в памяти только иронический след.
Примите еще раз, господин министр, запоздалое выражение моей благодарности и выражение[839] наиболее изысканных чувств.
[Конец 1932 г.]