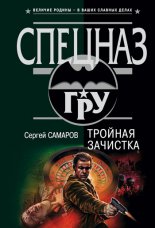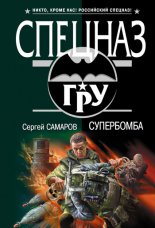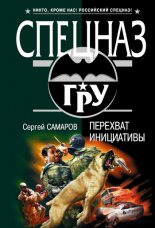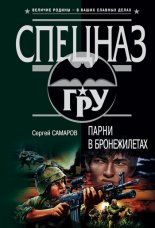Проклятая Цагария Кристина

– До завтра.
* * *
Бедный фельдфебель! Он и представить себе не может, чего такого особенного может ему рассказать шестнадцатилетняя девчонка. Но зато теперь он все знает. И вот теперь-то он мне поможет. Но даже если я и останусь одна, я все равно не отступлю.
На следующий день, после пяти вечера, фельдфебель подошел к закусочной. В тот день на работу я не пошла. Я сказала хозяйке, что у меня проблемы, и она была так любезна, что дала мне отгул. А в двадцать минут шестого мы вместе с фельдфебелем К. вошли в полицейское управление.
Городок
– Говорят, что ты гуляешь с моим мужем.
– Говорят, что ты путаешься с моим женихом.
На улице к Анне Марии подошли две женщины и схватили ее за руку. Одна – спереди, а другая – сзади. А рядом – только стена большого дома.
– Нет, это неправда. Я этого не делаю, нет.
– Но тогда почему об этом все болтают? – спросила первая.
– Не знаю. Я вообще ни с кем не гуляю. А теперь пустите меня, мне нужно идти домой.
Первая женщина выпускает свою жертву. И вторая – тоже.
Одна из них делает шаг назад. И другая – тоже.
И Анна, освободив себе пространство, неторопливо возвращается домой, больше уже не оборачиваясь.
В полицейском управлении
– Доменико Кучинотта был первым, с кем я познакомилась. Это случилось 11 марта 1999 года, я это запомнила, потому что это был день моего рождения. Я вышла из дома, чтобы купить продукты для торта, а Кучинотта, сидевший в машине вместе с Доменико Яннелло, меня окликнул. Сначала я шла не останавливаясь, но поскольку он ехал за мной на машине, мне пришлось остановиться…
Я начинаю рассказывать. И рассказываю все как на духу двум посторонним – капитану полицейского управления Тауриановы и бригадиру карабинеров, который все время сидит при нем. Иногда меня слушает еще и фельдфебель К., но он то входит в помещение, то из него выходит.
В первый раз в полицейском управлении Тауриановы я пробыла шесть часов, до одиннадцати вечера. Я рассказывала все как на духу и ни разу не заплакала. Я сидела на кончике стула, положив руки на край письменного стола, и рассказывала.
Нет, я бы не назвала себя какой-то необыкновенно отважной или исключительно сильной, нет, не назвала бы. Просто я должна была это сделать – и я это делаю. И не испытываю я никакой ненависти – ни к себе самой, ни к ним. Просто вот так уж вышло. Я стараюсь не думать ни о том, что случится потом, ни о том, что уже случилось. И о моем прошлом я рассказываю просто – так, как оно и было. В тринадцать лет я была еще слишком маленькой, чтобы понимать такие вещи. Хотя даже и сейчас я не очень-то повзрослела. Но зато эти три года тянулись для меня так долго, бесконечно долго, и я теперь уже достаточно взрослая, чтобы понять одну вещь: тронуть мою сестру они не посмеют.
Вот уже девять вечера, но я все еще сижу в полицейском управлении.
– Разрешите, я скажу, капитан?
Капитан смотрит мне прямо в глаза. Временами он растирает себе рукой шею и массирует голову. И в это вот время я перестаю рассказывать, но потом начинаю снова. Капитан снял с себя фуражку и ослабил узел своего галстука. И он все время смотрит мне прямо в глаза.
А бригадир записывает все, что мы тут говорим.
– Капитан, мне нужно предупредить родителей, но я не знаю, что им сказать. Надо найти какую-нибудь отговорку. Не могу же я им сказать, что я здесь, у вас. А то у меня могут быть большие неприятности.
Мне пришлось прогулять целый рабочий день. Хозяйка закусочной знает, что я в полиции, но вот родителей сердить я не могу: они же ничего не знают. Пока ничего не знают. Но вот когда узнают…
От одной только мысли об этом у меня замирает дыхание.
– Анна, а ты голодная? – Капитан, отвечая мне вопросом, дает мне прийти в себя от ужаса, читавшегося в моем взгляде.
– Ну… ну вот только совсем немножко. – Я даже не знаю, что сказать.
– Бригадир, велите-ка нам принести три хорошие пиццы. Мы сейчас поужинаем, а потом довезем тебя до дома. А завтра мы продолжим.
А потом мы разговаривали еще час, пока не принесли пиццу.
Хорошая же эта вещь – пицца! И какой она кажется вкусной, когда ее наконец-то ешь в безопасном месте.
Когда мы закончили, я сказала капитану, что лучше я вернусь домой одна. Придумаю какую-нибудь отговорку – например, что меня задержали на работе. Выйдя из полицейского управления, я возвратилась в закусочную. Хозяйка уже запирала кухню. И я попросила ее мне помочь: я сказала, что у меня возникла серьезная личная проблема. По своей деликатности она меня ни о чем не спросила. Хотя, может, она о чем-нибудь и догадывается. Но она мне доверяет.
Я помогла ей навести порядок, убрать все по местам. А потом она меня отвезла в Сан-Мартино на своей машине.
Уж и не знаю, почему она не рассердилась на меня за то, что я прогуляла работу, устроила себе выходной. Не знаю, почему она не стала меня ни о чем расспрашивать. Но это получилось так естественно: так оно и должно было быть – ведь это же в ее закусочной у меня хватило смелости все рассказать. Не знаю, как это объяснить, но я ей и по гроб жизни буду благодарна и за то, что она отвезла меня домой, и просто за то, что она мне поверила.
Чувствую, что мне крупно повезло.
Когда я вернулась домой, там все уже спали.
Ну а завтра? Что будет завтра?
Как же давно я не думала о том, что будет завтра! Я все никак не могу уснуть. Да, и в эту ночь я тоже не могу уснуть, но это совсем другое дело. И еще мне хочется есть.
… Не шевелясь, я пролежала в постели до тех пор, пока где-то вдалеке не запел петух.
На следующий день в полицейское управление вызвали на допрос одного парня, которому, по моим словам, Доменико Яннелло однажды предложил съездить вместе с нами, но он отказался. В полиции решили, что лучше начать с людей, непосредственно к этому не причастных – так сказать, «из дальнего круга». Они допрашивали его, чтобы понять, правда ли то, что я им рассказала.
А он ответил так:
– Анна Мария? Ну да, я про нее многое знаю… Это девица легкого поведения, то есть она путается со всеми подряд, и если ей захочется с кем-нибудь переспать, то она так и делает. Что мне еще известно? Что она пристает к одному старику… Ну ни стыда, ни совести. Что мне еще известно? Что с Анной Марией Скарфо переспали многие из Сан-Мартино, в том числе и мои двоюродные братья – Доменико Яннелло и Микеле. И еще Кутрупи… Правда, это всего лишь сплетни: я-то сам ее никогда не видел. Она хотела и меня затащить к себе в постель, но я ей побрезговал. Я-то сам никогда не предлагал ей покататься со мной в машине.
После него карабинеры вызвали на допрос и другого свидетеля.
– Она непутевая… Из тех, кто слишком заигрывает со всеми подряд. Она держит себя развязно, ходит в мини-юбке, – рассказал второй.
И карабинеры поняли, что я говорила правду.
Это они, именно они все поняли и меня спасли – мужчины, которые спасли меня от других мужчин. А я-то думала, что больше я уже никогда не доверюсь мужчине. Но вот они-то, они оказались совсем другими.
С тех пор я всегда ношу у себя в бумажнике фотографию карабинера. Я даже не знаю, настоящий ли это карабинер, хотя он и одет в настоящую форму, а я теперь разбираюсь и в униформах, и в знаках отличия. Я вырезала эту фотографию из одного журнала. И когда кто-нибудь ее видит, он сразу же спрашивает:
– Это кто? Твой жених?
А я отвечаю:
– Нет, не жених. Это мой ангел-хранитель.
Городок
На этот раз их было трое. Но и опять это были женщины: невеста, мать и племянница.
– Перестань разносить по городу эти сплетни.
– Какие сплетни? – переспросила Анна.
– Что ты гуляешь с нашими мужчинами.
– А кто это говорит?
– Да ты сама и говоришь. Ты все врешь. Чего тебе от них надо?
– Я ничего не говорю и ни с кем не гуляю.
– Хватит тебе разносить эти слухи.
– Да ничего я не разношу.
– Мы разобьем тебе морду.
Заявление нужно забрать
Прошло два дня. Прошло сорок часов или, может, чуть меньше, и я снова вернулась в полицейское управление. Но не для того, чтобы продолжать давать показания. Нет, не для этого.
Мои родители узнали, что я заявила в полицию.
И об этом им сказал Микеле Яннелло. Опять он. Опять они.
Сегодня днем, совсем рано, он заявился к нам домой:
– Здравствуйте, синьора, добрый день.
Дверь ему открыла моя мама.
– А ваш муж дома?
– Нет, на работе, в Читтанове[31], возится там с машинами. Но к вечеру он вернется.
– А когда?
– Часам к семи или к половине восьмого. А зачем он тебе нужен, Микеле? Ты мне скажи, я ему передам.
В наш дом он так и не зашел. Странно, но моя мама почему-то не предложила ему войти.
– Вы бы повнимательнее приглядывали за своей дочкой, Анной Марией.
Мама немного притворила дверь.
– На днях она ходила к карабинерам и наверняка наболтала им какую-нибудь чушь. Сегодня вечером, около половины восьмого, я к вам еще вернусь, чтобы переговорить с вашим мужем. И тогда вам станет ясно, что вещи, о которых Анна треплется карабинерам, – это все было только шуткой, и на самом деле ничего такого не было. Да она и сама хорошо знает, как обстоят дела, а мы все люди женатые, отцы семейств… Мы порядочные люди, и Анна хорошо это знает. Так пусть она не корчит из себя дурочку, а иначе мы поговорим с ее отцом. Сегодня вечером я еще вернусь. Надеюсь, что все уладится.
А я сидела у себя в комнате и все это слышала.
Мама ничего не ответила. И даже не попрощалась. Закрыв за ним дверь, она появилась на пороге моей комнаты:
– Анна, чего ты там еще натворила? У нас что, какие-то неприятности?
Ума не приложу, как это Микеле узнал, что я была у карабинеров. Может, кто-нибудь видел, как я входила в полицейское управление или выходила из него. Или, может, подняли тревогу те два свидетеля, которых допрашивали карабинеры.
Днем я вернулась в полицейское управление. Там, как всегда, на месте был капитан.
– Послушайте, капитан…
– Привет, Анна! У тебя все в порядке?
– Да нет. Около вашего главного подъезда сейчас стоят мои родители. Микеле Яннелло узнал, что я подала заявление, и сказал им, что мы должны его забрать. И вот мои родители стоят внизу и ждут.
Мы сидели в его кабинете на втором этаже. Капитан встал из-за стола и выглянул в окно – посмотреть, стоят ли на улице мои родители. Ну да, они там.
Потом он вернулся к своему столу и сел. Немного помолчал – может, минуту, а может, и меньше. Потом снова встал:
– Анна, а сама-то ты что собираешься делать? – Капитан обогнул свой стол и подошел прямо ко мне. Посмотрел мне в глаза. Его лицо было решительным, а взгляд – спокойным и твердым. Он стоял так близко. И ждал моего ответа.
– Знаете, капитан, я… Я не собираюсь забирать заявление. Хочу, чтобы делу дали ход.
Я всего лишь девчонка. Мне шестнадцать лет. И я бросила школу. У меня ничего нет. Да и я сама теперь – ничто. Но я устала, дошла до точки. До той точки, когда боль становится сильнее страха. И вот наконец настало время, когда пора сказать «хватит», широко открыть глаза и поставить на карту всю мою жизнь, хотя она, может, ничего и не стоит. Но назад я уже не поверну.
– Нет, капитан, я от своего не отступлю. И все объясню моим родителям. Вы уж извините.
Городок
Поросенок визжит. Ему вонзили в рыло острый крюк и тащат его, связанного, к наклонному деревянному настилу. Настил сделан с уклоном для того, чтобы кровь могла стекать в черное пластмассовое ведро. И все приходится делать очень быстро.
Двое мужчин кладут поросенка на стол. Забивают его. Разделывают. Льют на его розовую тушку кипяток и начинают соскабливать с него щетину. А потом каждую часть его туши разрежут, сварят, съедят. У нас это называют «свинским пиром».
Поросятину разделывают и готовят. Завтра у нас будет праздник, и мы полакомимся на славу.
Проснувшись и выйдя в сад, Анна увидела висевшее на веревке белье – оно было все в крови. С него капала кровь, оно все пропахло кровью. Сначала Анна ничего не поняла. Подошла поближе. Потрогала белье. И испачкала руку кровью. Она закричала, дернула веревку вниз… Рубашки и штаны полетели на землю. Анна начала их топтать и закричала. Она все кричала и втаптывала вещи в землю – только бы не видеть крови.
Да, но кровь-то уже собрали в ведро. Но вот только она этого не знала.
Поросенок визжит, и кровь по деревянному настилу стекает вниз.
Моя семья
Нет, я не забрала моего заявления. Можете себе представить, как прореагировал на это мой отец. И наверное, представляете себе, как плакала моя мама. До сих пор я рассказывала все, абсолютно все, ничего не скрывая, ничего не опуская и ничего не смягчая. Потому что речь шла обо мне, и только обо мне. Но вот мои родители – это совсем другое дело. И они прореагировали так, как прореагировал бы на их месте любой человек. Вы только представьте себе эти глаза. И эти слезы. И их страх. У меня-то самой страха никогда не было. А вот у них – да. Но ведь они правы. С их точки зрения правы. Я знаю только одно – что сейчас они со мной, на моей стороне. А вот это важно, только это. И я знаю только одно – что я не стала останавливаться.
То, что произошло потом, после того как я подала заявление, мне бы хотелось забыть. И те дни, и даже то, что было после этого.
Всего за несколько месяцев я потолстела на тридцать килограммов. Из-за стресса. Потому что я впервые осталась по-настоящему одна. И мне стало страшно.
Хотя было бы неправильно так говорить: ведь на моей стороне были карабинеры.
Я очень люблю своего папу, хотя почти никогда ему этого не говорю. Иногда мы с ним играем в карты. Или он провожает меня в бар, и мы покупаем себе мороженое.
И я очень люблю свою маму. Когда по ночам со мной случаются приступы астмы и я не могу лежать в постели – она тогда тоже встает и сидит со мной на кухне. Мы сидим вместе, рядышком. Вот так вот мы и сидим, обнявшись, всю ночь. Вот это настоящая любовь. И хотя она меня не понимает, хотя, может, ей и хотелось бы, чтобы сначала я рассказала обо всем ей, а не карабинерам, но она меня все равно любит, и она на моей стороне.
Но она не понимает, что я просто не могла сначала рассказать все это ей, что мне надо было раз и навсегда покончить с той, прошлой жизнью. И что если бы я ей все рассказала, то она бы, наверное, меня пожалела, но она бы ни за что мне не разрешила пойти в полицию.
Нет, я не забрала своего заявления. И вот теперь я сижу в саду, под мандариновым деревом.
Сегодня ночью я не стала спать дома. Сегодня ночью льет дождь, льет как из ведра, и мне холодно. Светит молчаливая луна. Но я все равно сижу здесь, так лучше. А завтра будет видно.
Ну вот, я опять начала думать о том, что будет завтра, и мне это нравится. Ни разу, за все эти три года, со мной ничего подобного еще не случалось. Это для меня совершенно новое ощущение. И именно это придает мне силы – силы пить льющийся с неба дождь и не плакать.
В окне я вижу сестренку. Она прижалась лицом к стеклу и высматривает меня. Но она ничего не знает.
Так я провела в саду всю ночь. Я никуда не убегала, но и не возвращалась в дом. Мне хочется пить, и я глотаю капли дождя. И это я-то, уже три года не плакавшая и не смотревшая на себя в зеркало, – и это я теперь пью эти небесные слезы, и они утоляют мою жажду.
19 сентября моя мама сходила в полицейское управление и подписалась под моим заявлением.
А 18 октября 2002 года генеральный прокурор Джузеппе Адорнато подписал распоряжение о прослушивании телефонов. И теперь мои разговоры прослушивают в прокуратуре.
Городок
– Приезжайте, приезжайте! Приезжайте скорее!
Звонок поступил на экстренный номер службы спасения – 112.
Это звонит Анна. Она плачет. Она кричит.
Машина приехала сразу же: полицейский участок совсем рядом.
Карабинерам пришлось долго стучаться в дверь.
Сначала Анна не отвечала, а потом не хотела открывать. А когда карабинерам наконец удалось войти, она плакала. Она была дома одна. Ее обнаружили на кухне: там она сидела за столом.
– Что случилось?
С виду все спокойно.
– Мне страшно. Мне страшно.
Карабинерам удалось ее успокоить. Анна крепко держит в руке большой стакан воды, пьет из него маленькими глотками и рассказывает:
– Я была дома одна, у себя в постели, ничего не делала. И вдруг услышала, как кто-то закричал: «Убирайся вон, шлюха! Убирайся! Если ты еще хоть что-нибудь скажешь карабинерам, мы сожжем тебя заживо, мы тебя убьем. Убирайся вон, шлюха!» Я ничего не ответила, но там продолжали кричать. А потом я услышала, как с места, взвизгнув тормозами, рванула машина. И тогда я встала с постели и вам позвонила. Это меня по-настоящему испугало.
Адвокатесса
– Этот процесс будет нелегким, Анна Мария. Тебе нужно быть готовой ко всему. Ну и, самое главное, если хочешь, чтобы я была твоим адвокатом, ты мне должна пообещать одну вещь, только одну: больше ты не должна ничего бояться. И ты должна рассказать все, что произошло, абсолютно все, без всяких околичностей. Ты должна рассказать все, потому что иначе тебе никто не поверит.
Такими были первые слова, которые сказала мне моя адвокатесса. Ее зовут Розальба Шарроне.
Она меня наставляла, говорила жестко:
– Тебя будут оскорблять, употреблять грубые слова. Они будут делать все, чтобы превратить тебя из жертвы в подстрекательницу. Ты и правда ко всему готова? Ведь ты останешься одна. Тебе придется делать все одной.
Ее слова были суровыми, но справедливыми. Она мне сразу понравилась, потому что говорит без обиняков и не пытается все облегчить. Наоборот, она сразу меня предупредила, предсказав, что произойдет.
Я называю ее «адвокатесса», хотя и знаю, что так говорить неграмотно.
Я мало училась, но вот зато речь у меня всегда была правильной. Я называю ее адвокатессой только потому, чтобы отличить ее от ее мужа, адвоката. Он известный адвокат по уголовным делам. Но и моя адвокатесса тоже большая умница. Да, она умница.
Мой процесс будет долгим, но я не собираюсь отступать. И даже когда я думаю, что мне, может, никто не поверит, что я проиграю, – даже и тогда я не иду на попятный.
Ну а когда падает духом адвокатесса, то вот тогда-то ободряю ее я. А вот когда прихожу в уныние я, ободряет меня она.
Розальба очень красивая. Красивая и высокая. Она всегда говорит прямо и по существу. Она из тех женщин, которые работают и всегда спешат. Она водит внедорожник с автоматической коробкой передач, курит синий «Пэлл-Мэлл» и не заправляет джинсы в сапоги. И походка у нее крепкая, мужская.
Иногда я даже живу у нее дома. То есть ночевать я возвращаюсь к себе домой, но вот зато день я провожу у нее. Ее дом для меня как убежище. А при доме у нее прекрасный сад, где полно разных растений и цветов. А еще у адвокатессы есть маленькая комнатная собачка по кличке Уго. Я ее просто обожаю, а она обожает меня, и мы ее тискаем и балуем.
Когда я только подхожу к воротам дома адвокатессы и только собираюсь в него позвонить, Уго уже чувствует, что это я, и бежит ко мне навстречу, чтобы поздороваться.
Благодаря адвокатессе и ее мужу я наконец поняла, что это такое – жить нормальной жизнью, по утрам в воскресенье заниматься садом, обедать всем вместе, получать подарки.
С того дня как я подала заявление, в моей жизни столько всего изменилось! И все благодаря карабинерам и адвокатессе. Родные отнеслись к моему решению с пониманием. А вот моя адвокатесса Розальба его поддержала. А это совсем другое дело. Это требует мужества. В своем доме я чувствовала себя опустошенной, но вот в доме Розальбы я набиралась сил. Благодаря ей я уже ни в чем не сомневаюсь. Она меня ободряет – и я терпеливо переношу осмотры гинеколога, беседы с психиатрами и допросы. Благодаря ей я не боюсь участвовать в судебном процессе.
* * *
28 октября 2002 года генеральный прокурор Адорнато потребовал у судьи арестовать шестерых насильников, на которых я написала заявление. А 30 октября карабинеры из полицейского управления Сан-Мартино подарили мне Диану. Они позвали меня в сад и сказали, чтобы я заглянула в печную духовку и посмотрела, что там такое. Сначала я ничего не поняла. А потом открыла заслонку и увидела, что на обожженных кирпичах лежит красное одеяльце, а на нем – белый пушистый клубочек с двумя блестящими глазками.
– Мы нашли его недалеко от нашего участка, и теперь он твой. Или, вернее, она твоя, потому что это не щенок, а собачка. Это, конечно, не Сисси, но вот увидишь, она еще вырастет и станет отличной сторожевой собакой. Это помесь мареммо-абруццкой овчарки[32].
Когда я взяла ее на руки и она начала мне облизывать лицо, мне показалось, что я схожу с ума от радости.
Я ее сразу же полюбила. Заметно, что карабинеры полицейского участка Сан-Мартино просто счастливы, что им пришла в голову эта мысль.
Я решила назвать ее Дианой. Просто так, без всякого повода: это было первое имя, которое пришло мне на ум. Но вот моя адвокатесса объяснила мне одну вещь, которую я не знала. Она объяснила мне, что Диана – это богиня охоты и сражений. И это имя как нельзя лучше подходит тому, кому предстоят суровые битвы.
А еще она мне сказала, что Диана – покровительница женщин.
Вот так Диана и вошла в мою жизнь.
Городок
– Она меня не интересует.
– И меня тоже.
– Я с ней никогда не разговаривал. Хотя она всегда была навеселе и со всеми заговаривала. Она приходила к бару и ко всем клеилась.
– Ну да, охотилась за клиентами.
– Еще с тех пор, как она была совсем девчонкой.
– Это да. Если, конечно, так вообще можно сказать – «девчонкой»… Потому что теперь они уже и в тринадцать лет выглядят как женщины, красивые зрелые женщины. Да и к тому же они еще и красятся, и ходят все разряженные, совсем не как девчонки. Так что приходится быть начеку.
– Это правда, потому что достаточно одного взгляда, одного слова… И знаете, что может случиться?
– Да, то, что произошло, – это все, конечно, ужасно. Но я же не святой.
– И я тоже, боже упаси.
– Но и они тоже не демоны.
На скамье подсудимых сидят четверо. Двое пожилых и двое других, помоложе. Говорят пожилые. А вот остальные посылают с мобильников эсэмэски.
Праздник святого Мартина
Сначала из церковного портала показываются белые и красные перья, которыми украшен шлем святого Мартина. А потом появляется и сам святой – его конная статуя. Она покачивается.
Публика на площади встречает ее аплодисментами.
Сегодня утром я вышла из дому. Сегодня праздник, день святого Мартина. Теперь мне уже больше не нравится бывать среди людей. Я не выношу их взглядов и тех недомолвок, которые читаю у них на губах. Эти слова они никогда не произносят целиком, но их и не надо слышать: и так понятно, что это за слова – это угрозы. И я понимаю это, видя, как они презрительно поджимают рты и поднимают брови. Это видно даже и по морщинкам, собирающимся у них около губ. Эти угрозы можно и не слушать: они уже написаны на их лицах.
И все-таки я не могу сидеть дома взаперти. Сегодня у нас главный городской праздник, день святого покровителя нашего города, и мы с сестрой пришли на площадь. Мы держимся за руки и, смешавшись с толпой, идем за процессией, за статуей святого Мартина. Мы смотрим вперед и идем за нашим святым, потому что святой Мартин принадлежит всем. Хотя я и не хлопаю в ладоши, как все.
Кто-то в честь праздника выстрелил из ружья. Собаки залаяли, а дети заплакали. Все медленно идут за статуей. В первом ряду процессии идут трое церковных служек, одетых в белое. Один из них держит шест, к которому прикреплен громкоговоритель. Священник читает молитвы. Духовой оркестр играет музыку. А святой Мартин, обнажив меч, угрожает своему городу.
Карабинеры здесь повсюду. Когда я их вижу, моя тоска проходит, и я продолжаю свой путь, крепко прижимая к себе сестренку.
Наши девчонки накрасились, надели высокие сапоги и укороченные курточки, купленные на рынке в Соверато[33]. А еще на них джинсы с заниженной талией. И из-под них виден край кружевных трусиков. Они все черноволосые, но все перекрасились. В толпе мелькают белые, рыжие, каштановые головы с накладными прядями и волосы, разглаженные утюжками.
Парни со своими девчонками идут парочками, под руку. У ребят в руках мобильники, и они прямо на ходу посылают эсэмэски. Пожилые дамы накануне побывали в парикмахерской, сделали себе укладки с начесом, и их серебристого цвета волосы не мнутся от ветра. Мамочки толкают вперед прогулочные коляски, к каждой из которых цепляются еще два-три ребенка. Фанфары гремят. Подружки, жеманничая, идут под руку, а мальчишки, собравшись по трое, идут за ними следом.
К празднику город разукрасили. На главной улице развесили иллюминацию. Сегодня вечером ее зажгут. И здесь уже стоят лотки под огромными зонтиками в белую и красную полоску. А на лотках разложены цукаты и сухофрукты.
Мы тут все. Две тысячи человек. Или, может быть, чуть меньше. Мы все друг друга знаем. Здороваемся друг с другом. Друг перед другом красуемся. Идем процессией, за святым.
Стоит ноябрь, но день выдался теплый.
Городок
Машина едет по улицам городка. Анна, свернувшись в клубок, лежит между сиденьями. На ней набросаны куртки. И все эту машину видят. И ее, Анну, видит каждый. Их много. Теперь это уже ни для кого не тайна. Теперь этим принято бахвалиться.
И никто не останавливает эту машину. Никто не задает никаких вопросов. А город продолжает жить своей жизнью, продолжает глазеть. И уже поползли слухи. Сначала люди сплетничают только дома, в кругу семьи, а потом – и с друзьями. На площади. В церкви.
Теперь это уже ни для кого не секрет.
Танец ослика[34]
Вперед, назад… Снова вперед. Поворот. Еще поворот. И еще. «Ослик только кружит на месте, но никуда не идет». Точь-в-точь как наш городок. Но он все равно танцует. Танцует в темноте и изрыгает изо рта огонь. Освещенная, вся в огнях иллюминации, церковь словно парит над толпой, и толпа аплодирует.
Трам-там-там.
Потом он начинает танцевать тарантеллу. Ослик поворачивает из стороны в сторону, люди пляшут. В воздухе стоит дым жарящихся каштанов и аромат нового вина.
Ослик сделан из дерева, и его держит у себя над головой босой человек в белой футболке и в закатанных до колен джинсах. Вперед, назад… Человек подпрыгивает, делает антраша, кружится и скачет. И он все никак не устает, этот человек-осел. Он танцует, а люди вокруг пританцовывают и аплодируют. Вся площадь танцует. Только кружит и кружит на месте, но никуда не идет.
А ослик изрыгает огонь, фейерверк огоньков, звездочек, черточек. Человек, на которого льется этот световой дождь, становится на колени. Бубны отбивают ритм.
Трам-там-там. И ослик весь освещается огнем.
Мне слепит глаза.
Сегодня утром была процессия, а вечером – большое представление на площади, с музыкой и танцем ослика. Весь город возбужден и неутомим. Вечером я тоже вышла из дома. Но на этот раз – одна.
С того дня как я написала заявление и во всем призналась, угрозы начали становиться все настойчивей. Мама была против того, чтобы я выходила из дому этим вечером. Но я не стала ей потакать. Я теперь никому не потакаю. Ни маме, ни им.
Нет, я не собираюсь прятаться. Они могут меня оскорблять. Могут мне угрожать. Но чего они еще могут мне сделать? Нет, они, пожалуй, уже ничего не могут мне сделать. Потому что они уже все сделали и потому что они, как и я, знают правду.
Но вот я – я-то совсем другая. Я-то знаю, что произойдет завтра. Потому-то я и чувствую себя сильной. Потому-то сегодня утром я и водила сестру на площадь, посмотреть на процессию, а сегодня вечером я сама пошла на площадь, посмотреть на иллюминацию.
Я закрываю глаза.
Трам-там-там.
Ритм усиливается, и я ухожу: пусть ослик кружится и дальше, без меня. Ухожу с площади, освещенной искусственными огнями и наполненной музыкой, перекрывающей гул толпы, голоса и угрозы. Иду домой. По дороге я никого не узнаю. Вижу только глаза и рты. Чувствую запах кожи и каштанов, дыма и вина – запахи покупателя супермаркета, запахи лака для волос и крема для бритья.
Сама того не замечая, я начинаю бежать, опустив глаза и зажав уши руками, чтобы ничего не слышать. Мое тело требует движения, а моя голова – тишины.
Город не любит, чтобы ему бросали вызов.
Музыка эхом отдается у меня в сердце, и я никак не могу от нее избавиться.
Трам-там-там.
В ночь с 12 на 13 ноября 2002 года карабинеры постучали в шесть дверей. Они пришли за Доменико Кучиноттой, Доменико Кутрупи, братьями Доменико и Микеле Яннелло, Серафино Тринчи и Винченцо Ла Торре. Их арестовали и увезли в следственную тюрьму.
Я у себя дома, в моей комнате. Никуда не выхожу. И все-таки когда их жены, матери и невесты открывают двери своих домов – они меня видят.
Трам… Т-т-там… та…
Музыка наконец-то утихает.
И наступает тишина.
Городок
– Но какие же они наглые, эти Скарфо…
– А чего они еще такого сделали?
На церковном дворе разговаривают две женщины. Разговаривают, перед тем как пойти на службу.
– Я слышала, что муниципалитет Тауриановы предложил ей и ее родным квартиру. И даже работу для отца. Но они отказались.
– Квартиру и работу? Да неужели?
– Точно! Это наверняка, ведь мой двоюродный брат работает в муниципалитете Тауриановы.
– Но почему?
– Знаешь, после тех статей в газетах и после той истории со столкингом… сталкингом…[35] как он там называется…
– Так они отказались?