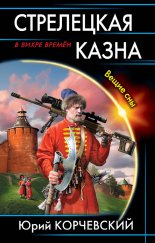Хьюстон, у нас проблема Грохоля Катажина
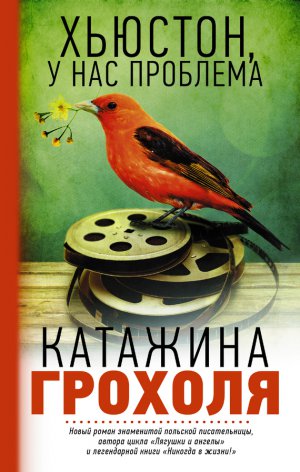
© Copyright by Katarzyna Grochola, 2012
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krakow, 2012
© Тогобецкая М., перевод, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Моему брату Владеку с любовью…
Нужно быть неудачником
Нужно быть неудачником.
Это значит, что нужно – хотя на самом деле, конечно, совсем не нужно! – быть неудачником, чтобы быть как я.
Черт возьми, люди добрые, – я ведь с самого раннего утра знал, что ничего хорошего сегодня не выйдет! Я предчувствовал это, знал всем своим естеством. Я потому завел сразу два будильника на всякий случай: один – в телефоне, а второй – этот уродский тяжелый – старый будильник, который мне дала мать, потому что «твой отец ведь его так любил!». Аргумент довольно спорный: отец мой любил очень много того, что я не выношу и никогда не смогу полюбить только потому, что – я цитирую: «Твой отец был бы доволен».
Когда я слушаю, каким бы я был фантастическим мужчиной, если бы хоть чуть-чуть, хоть в чем-нибудь был на него похож, мне становится нехорошо. И какое счастье, что я не он, – ведь тогда я бы с двадцати лет пахал как проклятый.
День мне предстоял не из легких: с утра у меня было запланировано первое после очень долгого перерыва собеседование по поводу работы. Точнее – по поводу моего возвращения к моей настоящей работе. В семь утра я должен был приехать в Магдаленку, где меня ждала съемочная группа студии «ВикВива», которая снимает документальный сериал о несовершеннолетних убийцах.
У них все шло прекрасно, но их оператор вдруг взбрыкнул: оказался женщиной, забеременел и родил на два месяца раньше срока.
На мое счастье.
Вот так, с бухты-барахты, они оператора найти не могли, а я, хотя и, правду говоря, камеру в руках не держал уже около двух лет, в смысле – чтобы зарабатывать этим на жизнь, после той дурацкой награды на фестивале, был не беременный. И это оказалось решающим аргументом в пользу моей кандидатуры.
Надо сказать, что тосковать-то по камере я тосковал. Поэтому когда позвонил Толстый и сказал, что у него для меня кое-что есть, я подумал: сейчас или никогда. И это, может быть, знак: что именно в мой день рождения у кого-то под ногами загорелась земля и вдруг обо мне вспомнили.
Я должен был – должен был! – встать в пять тридцать. А это сделать нелегко, если лег спать в час ночи после уродского, чертовски долгого дня, который закончился возлиянием, потому что надо же было с Толстым встретиться и обсудить, что и как, а на сухую мы это делать не привыкли.
Поэтому – на всякий случай – мобильник надо было поставить на четыре тридцать, а папенькин будильник – на полшестого. За два часа до рассвета. И, знаете, пробок в это время точно не бывает.
Мобильник я настроил сразу после встречи с Толстым, чтобы потом не забыть, – и зря, как выяснилось. А будильником занялся немедленно после приезда домой – он показывал шестнадцать часов с того самого дня, как маменька мне его вручила в годовщину Варшавского восстания:
– Чтобы ты помнил, что есть вещи поважнее, чем ты.
Кто еще поддержит тебя так, как родная матушка.
– Твой дед сражался за свободу Польши, – сказала мать с нажимом. – И ты должен об этом помнить.
Разнообразные деды сражались за разнообразные свободы – я видел по ТВ, как проходила люстрация наших политиков. И не думаю, что именно то, за что сражался мой дед, как-то непосредственно связано с мерзким будильником, который тикает довольно громко, хотя и стоит на шкафчике в кухне, потому что в комнате под него уснуть невозможно.
Но вот пожалуйста – я перенес этого деда к своей постели, завел, покрутил крутилками, поставил маленькую стрелочку примерно на середину между пятеркой и шестеркой и упал в койку.
И только закрыл глаза, только провалился в сон – как вскочил, словно ужаленный.
В комнате стоял такой стук и звон, как будто дочке соседей наконец-то купили ударную установку. И только я сообразил, что происходит и откуда этот ужасный грохот, как услышал стук швабры в потолок.
Дело в том, что подо мной проживает соседка – исключительная Кошмарина. Глухая как пень, когда с ней разговариваешь, но при этом имеет абсолютный слух, когда что-то происходит где-нибудь над ее квартирой, или под ее квартирой, или рядом с ее квартирой. Она начинает стучать своей шваброй по любому поводу: Марта один раз пошла в ванную на каблуках – и это был такой скандал, что я обувь до сих пор снимаю в прихожей, хотя каблуки не ношу. У Марты тогда чуть туфли с ног не посваливались, она сто раз извинилась перед этой каргой – извинялась всякий раз, как видела ее где-нибудь в окне. А стоит собачке, которая живет надо мной, пробежать по комнате – сразу швабра в ход идет и бух! – бух! бух! – и плевать, что это она мне в потолок-то стучит, а соседи сверху, может, и не слышат даже. О музыке мне лучше даже не думать, о гостях тоже.
Ненавижу эту заразу.
Вообще у меня соседи хорошие, а тот сверху даже симпатичный, помог мне в декабре аккумулятор завести, дал прикурить, а то я бы не уехал, но вот собака его… мог бы ей хоть когти обрезать, что ли.
Будильник, которого мой приснопамятный героический предок и в глаза не видел, но раз он, этот предок, был отцом моего отца, то, по логике моей матери, он был и отцом этого будильника… так вот, этот будильник у соседки снизу разбудил швабру. Эта Кошмарина со своей шваброй, наверно, спит в обнимку – потому что стук в потолок раздался буквально одновременно со звоном будильника. Однако до чего же бывают женщины чокнутые!
Поставил-то я будильник легко – а вот выключить его оказалось не так просто. Потому что кому бы могло прийти в голову, что это нужно делать вручную, то есть буквально – руками, то есть схватить вот эту штуковину, которая мечется между двумя звоночками будильника, пальцами! А как только убираешь пальцы – снова начинает звонить, да еще как! Я на него набросил кухонное полотенце, но это не помогло, хотя грохотать стало немного тише.
Я побежал в ванную и чуть было не впечатался головой в умывальник, потому что споткнулся о валявшиеся на полу штаны. Потом я начал чистить зубы кремом для бритья, вот ведь дрянь, у меня во рту до сих пор привкус этой мерзости! Ну кому в голову пришло расфасовывать крем и зубную пасту в абсолютно одинаковые тюбики – я бы этого умника повесил за яйца! Ну, или за что там еще, ведь я на сто процентов уверен, что придумала это какая-нибудь баба, потому что это только баба могла такое придумать: тюбик такого же размера, такой же расцветки, из такого же пластика. И что с того, что там написано, что с того?!! Малюсенькими буковками и с обратной стороны!
Мужчина же не идиот, и он никогда не читает, что там написано на тюбике, – он утром только заглядывает в интернет, чтобы узнать, не началась ли какая ночью война. Так нет: вот тебе одинаковые тюбики с каракулями на обратной стороне – и давай, мужик, думай, как будто у тебя других дел нет. А я вам передать не могу, что чувствуешь, когда у тебя полный рот крема для бритья, который уже размазался по резцам и коренным зубам.
Через двадцать минут я попытался забить с помощью кофе этот непередаваемый вкус, но без особого успеха.
Потом я схватил ключи от машины и побежал по лестнице вниз с седьмого этажа, потому что лифт не работал уже шесть недель, ну и пусть. Это даже хорошо. Вот ходили бы люди по лестнице пешком почаще – и реже бы болели сердечными болезнями. А у женщин фигуры были бы стройнее.
На втором этаже я вспомнил, что не взял мобильник. Мало того – я вдруг сообразил, что будильник в телефоне не сработал, вот ведь сволочь. Я развернулся и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался наверх – и это было уже совсем не так здорово.
На шестом этаже открылась дверь – эта зараза Кошмарина в своем сером халате прокричала мне вслед:
– Я на тебя жалобу напишу! Ты хулиган!
Я показал ей средний палец – международный знак симпатии и доброжелательности, не требующий перевода, потому что человек ведь имеет право бегать по лестнице, сколько хочет и сколько может, – и влетел в свой дом.
Я перерыл свою квартиру всю, целиком, – нет. Ни в ванной, ни в спальне, ни даже – смилуйся, Боже! – в гостиной, ни в кухне, нигде на сорока квадратных метрах купленного в ипотеку жилища, за которое я еще буду расплачиваться лет пять, не было ни следа моего мобильника.
А время-то шло.
Так, сказал я себе, сядь спокойно и постарайся вспомнить, когда и где в последний раз…
Вот! В последний раз я его видел, когда будильник себе ставил! В пивной, черт, в этом уродском «Весеннем вечере»! Времени было ноль-ноль тридцать восемь. Хотя нет… в пивной я только собирался его поставить, а вот опцию «будильник» – это я уже в машине выбирал. Точно в машине. Но почему в машине?
Или… Или… Ну соберись же, парень! Я мог, мог – но не должен был – оставить его в машине. Да, да, скорей всего именно в машине – потому что я же хотел его поставить еще в пивной, но официант вдруг заявил нам, что уже прошло полчаса после закрытия… Ну, значит, точно, в машине я и оставил этот проклятый мобильник! Помню, как будто это сегодня было!
Потому что это и было сегодня.
Теперь я несся вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Времени оставалось все меньше. Дверь на шестом этаже снова отворилась, но на этот раз я решил не обращать внимания на кошмар в сером халате и на вопль:
– Ты еще пожалеешь!
Подумаешь – напугала. Я жалею о стольких вещах, что одной больше, одной меньше – мне терять-то нечего. О чем стоит жалеть, так это о своей жизни в целом. Хотя если посмотреть реально – ну да, я, конечно, не президент, но плюсы у меня есть, и весомые.
И потом – я ведь с этой каргой на брудершафт не пил!
Вот тебе и воспитание. Ох уж эти современные старики!
Я выбежал из подъезда – а нужно сказать, что живу я в многоэтажке, каких в нашем микрорайоне шестнадцать штук. И сердце у меня упало.
Я, вне всякого сомнения, стоял перед своим домом, видел свою парковку – абсолютно такую же, как и все остальные парковки в нашем районе, вот и мусорный бак справа, как обычно, вот двухнедельный, уже слежавшийся сугроб, со всех сторон разрисованный желтыми потеками мочи местных псов, вот машины стоят – как попало, кто куда смог – тот туда и встал, но…
Ну класс.
Ни одна из этих машин не была моей.
Ни слуху ни духу от моей машины.
Мне сразу стало нехорошо и жарко, хотя мороз был градусов пятнадцать, не меньше. Ладно машина, тут я страховку получу, да еще и больше, чем если бы удалось ее кому-нибудь продать. Но мобильник!
Два года назад Марта подарила мне его на день рождения – наверно, хотела меня таким образом поздравить с «Липой». Мало того что это был дорогой телефон – у меня же там все контакты, все с великим трудом годами собиравшиеся номера Очень Важных Людей, целый список клиентов, доступ к почтовому ящику и – о нет! – фотографии трех последних наших поездок с Мартой, которые я все никак не мог собраться перегнать на компьютер, – вся моя жизнь! А еще – Последняя Фотография, присланная мне Доброжелателем, которая, как и многое другое в моей жизни, изменила ход истории. И пусть это не всемирная история – но она моя, а следовательно – для меня почти то же самое.
Вот черт!
И эти фотографии сейчас кто-то разглядывает, потому что получил доступ к моему телефону, ко всей моей жизни! И ржет – а я не могу даже позвонить Толстому и сказать, что задерживаюсь!
У меня там Марта в купальнике, Марта в воде, черный аист над Вислой, дрозды, которые строят гнездо, – правда, дроздов почти не видно… Марта на скутере, Марта везде, Марта причесывается и Марта спит… Марта с… бррр…
Эх, добраться бы до этого сукина сына – так он бы костей не собрал! Вот это облом!
И время, время же идет! Мне обязательно надо быть вовремя в этой дурацкой Магдаленке, если я хочу, чтобы моя жизнь радикально изменилась к лучшему. Я два года ждал, чтобы глупая судьба перестала вставлять мне палки в колеса, два гребаных года! И вот единственный шанс вернуться в профессию – единственный, который вдруг упал с неба благодаря моей дружбе с Толстым и чьей-то беременности, – этот единственный шанс я упущу?!!
Ну уж нет, не дождетесь!
Я водил ошалелым взглядом по стоянке, холод был жуткий, тихо, спокойно, утро, даже ночь еще, хотя уже тянулся тоненький ручеек к Горчевской, которая связывает жителей нашего района с остальным миром, ибо там находятся ближайшие остановки, но пока этот ручеек был действительно очень тонким и вялым.
Итак, что мне делать?
И тут меня осенило.
Я же пьянствовал с Толстым! Конечно, вот все и встает на свои места: мобильник в машине, а машина – у «Весеннего вечера»!
Черт возьми, люди добрые!
Кстати – ну что за название для пивной, где подают в основном пиво: «Весенний вечер»! Не иначе как баба название придумала. Мужик бы назвал как-нибудь типа «Под мухой» или «Гвозди», ну или если без фантазий – «У Тадека», потому что владельца зовут Тадеуш. Но «Весенний вечер»? Может быть, у Тадека любовница есть – романтичная, как все остальные бабы. «Над озером» – это таверна, и точно известно, что владеет ею женщина. После развода, само собой, с мужем, которому пришлось ей отвалить часть имущества. А «Корчма заходящего солнца» – ну, это какому-то подкаблучнику принадлежит, я за километр чую.
А мы с Толстым вчера в «Весеннем вечере» сидели с целью обмыть мое возвращение в лоно кинематографа – это был первый тост. Второе пиво мы пили за возвращение в лоно операторского братства, третье – за лучших кинооператоров, а четвертое – за операторов – будущих обладателей «Оскара».
И вот именно поэтому я стою сегодня в пять часов утра как истукан на Воле, машина моя стоит в Средместье, а Сигизмунд III Ваза стоит на Старувце.
Возвращался я налегке, взял только сумку, ну и вот, минут десять сидел в машине и ждал такси, потому что холод был собачий, а Толстый пошел домой, потому что встретиться мы договорились в пивнушке около его дома, а не моего, к несчастью!
Телефончик мой остался в машине, с будильником, поставленным на пять тридцать. Я поблагодарил мысленно древний будильник и отца и снова помчался на свой седьмой этаж, чтобы с домашнего телефона вызвать себе такси до Средместья.
Перепрыгивая через две ступеньки, задыхаясь, я бежал наверх, вот ведь чертов сломанный лифт, чтоб им всем повылазило! Что они себе думают! Что у человека, мать его, мотор в заднице – бегать вот так по лестнице пешком шесть недель?!!
На шестом этаже в дверях стояла Серая Кошмарина.
У меня не было шансов – нельзя защититься, если ты даже не представляешь себе, на что способны женщины, даже такие, которым уже давным-давно положено лежать в гробу! Кошмарина выплеснула мне прямо в лицо тухлую воду от цветов – и с треском захлопнула свою дверь.
А я остался на лестничной площадке шестого этажа, в мокрой куртке, вонючий, с омерзительной тухлой водой, стекающей по моему лицу на свитер.
Я ворвался в квартиру, бросился к телефону, вызвал такси – к счастью, было еще очень рано, в такое время ждать долго не придется, заказов у них не много, стянул с себя куртку, свитер, рубашку – зеленая скользкая плесень была везде. В том числе у меня во рту.
Я неудачник, неудачник, неудачник!
Как могут люди быть такими подлыми! За что? Вот за что?!! За то, что некоторым приходится вставать на работу в пять тридцать утра? За то, что приходится бегать по лестницам – хотя они и платят, между прочим, исправно за этот дурацкий, уродский, улетевший в космос лифт?!!
Я смыл с себя наскоро эту липкую субстанцию и вывалил полшкафа на пол, чтобы найти что-нибудь, в чем я выглядел бы так же хорошо, как и в предыдущих, старательно подобранных шмотках.
Но больше ничего подходящего в шкафу не было, потому что стирку я собирался отвезти к матери в следующий четверг, а сегодня была только холодная пятница.
Проклятье, остается только поджечь себя и для верности дать себе по башке тяжелым молотком! Отличное начало для моего дня рождения. И для всей оставшейся моей жизни.
Я пошел вниз, с трудом удержавшись от того, чтобы не пнуть дверь Серой Кошмарины.
Таксист взглянул на меня в зеркало и спросил:
– Не рановато ли домой-то едешь, а?
– Вообще не угадали, – буркнул я, потому что был слегка раздражен.
– А юморок, значит, не уважаем? – он так резко свернул, что я чуть не треснулся головой об дверь.
Я решил не вступать с ним в конфликт – только в контакт.
– Я немного выпил с другом, машину оставил на месте.
– А-а-а, – обрадовался таксист. – Разумно, разумно.
– Мне нужно в Магдаленке быть к семи, – поддержал я разговор, сам не зная зачем.
– Так я мог бы вас до Магдаленки доставить, если договоримся, – еще больше обрадовался он. – Я уже заканчиваю, вы у меня последний – но я мог бы поехать.
Я последний? Ну здорово. То есть у меня еще и день толком не начался – но я уже последний!
– Спасибо, у меня есть машина.
– И вы, пан, сядете за руль в таком состоянии? – он аж зеркало повернул в мою сторону, и я увидел в нем его взгляд, в котором горела неприкрытая жажда наживы и надежда на доброе начало недоброго для меня дня.
– В каком «таком» состоянии?
– Ну, пан, – захихикал таксист, – зеркала у вас нету, что ли? Это ж за километр видать, что вы с похмелья.
Ну, конечно: голова у меня мокрая, потому что мне же надо было смыть с себя это свинство, которым меня одарила моя милая соседка, – но чтобы уж вот так прямо «с похмелья»?!
– Нет, спасибо, – ответил я. – Я вчера не много выпил.
– Мы вот как-то с тестем тоже «не много выпили», – захохотал таксист и проехал на желтый свет. – А проснулись под Вроцлавом, в скором поезде. Так что я уж, пан, понимаю – сам любил в молодости покуролесить и повеселиться, это сейчас у меня сахар повышенный, так что следить надо – но я своего-то не упустил, это я молодость свою имею в виду.
– Я выпил не так много, – повторил я и почувствовал себя так, как будто за рулем такси сидела моя матушка.
– Слушайте, пан, возьмут у вас анализ крови – и кирдык правам аж на год. А я на Магдаленку могу поехать за сотню, и вы будете спать спокойно. А то явно ведь ночью-то не выспались. Ну?
– Да нет, – ответил я и увидел, как выражение лица у него становится мрачным.
– Нет так нет. Неволить не буду. Но ты, пан, подумай. Крепко подумай. У тестя моего как-то раз все права забрали. Одни у него забрали на целый год – а ведь он только пару пива и выпил, а вторые права забрали у него почти сразу потом, во время облавы в Воломине. Случайно. Это, знаете, несчастный случай. Чтобы двое прав – да в один год!
– У него фальшивые были?
– Да что вы, пан, как можно? А вы что, из полиции?
– А похоже? – спросил я с готовностью.
Он снова захихикал.
– Да нет, вообще не похоже. Больше уж тогда на беглого преступника – потому что мокрый и неприглядный такой. Я не настаиваю – но за восемьдесят бы отвез.
– Спасибо, но нет.
– Ну, это уж как хочешь. Я как лучше хотел, – ответил он и замолк, обиженный, наверно, потому что снова повернул зеркало на место.
Варшава этим ранним утром была еще совсем пустая.
Я откинул голову на подголовник и стал смотреть в окно.
Мир вокруг был удивительным: кто-то спал, а кто-то уже просыпался, в окнах зажигались огни, неравномерно, как будто кто-то случайно нажимал на кнопочки в хаотичном порядке, трамваи мерили пустые улицы, морозная дымка клубилась вокруг фонарей.
Я закрыл глаза.
Уровень адреналина в моей крови постепенно приходил в норму, и пять минут покоя мне бы не помешали.
Открыл я глаза, только когда такси остановилось.
– Приехали, – услышал я. – Тридцать два.
Я охнул.
– Ночной тариф, – буркнул таксист.
Я подал ему сотню, одной бумажкой – единственные деньги, которые у меня были.
– А помельче нет у тебя?
Помельче у меня были. В той куртке, которую я не ношу, потому что не люблю ее: как будто меня кто-то серной кислотой в ней облил. Но я текст, который сейчас последует, прекрасно знал – сейчас начнется: «У меня мелких нет» – расчет на то, что не будешь мелочиться и махнешь рукой на сдачу.
– Нет, помельче нет.
Он дал мне пять десяток и еще десятку, поэтому я ждал.
– Не уверен, что найду столько мелочи, – пробурчал таксист, но я был уже на взводе и решил ему напомнить, что ведь он же всю ночь ездил.
Он взглянул на меня с ненавистью.
– Секунду.
Он уже совсем не был ни веселым, ни дружелюбным.
Достал какую-то коробочку и начал в ней рыться. Лимит моего великодушия на сегодня был исчерпан, я терпеливо ждал – в конце концов, утро и так не задалось с самого начала.
– Один… один пятьдесят… два пятьдесят… три, – считал таксист громко, медленно, старательно и презрительно. Моя старенькая любименькая машинка спокойно стояла в десяти метрах от нас, поэтому я стиснул зубы – и терпел.
– О, черт! Один, два, два пятьдесят, три двадцать, четыре, четыре пятьдесят, пять…
Я издал стон.
– Ну вот, вы меня сбили, – таксист ссыпал мелочь обратно в свою коробочку и начал все сначала.
А у меня постепенно закипала кровь в жилах – но я все же решил, что смогу сдержаться.
– Два пятьдесят, три, четыре…
Я ждал.
– Пять, шесть, шесть пятьдесят…
Я ждал. А время шло.
– Семь.
Я ждал.
– Восемь, вот, пожалуйста!
Я протянул руку, он ссыпал мне мелочь в ладонь, как будто через силу, даже не глядя на меня.
– Спасибо, – процедил я сквозь зубы и вылез из машины.
Таксист поехал вперед, потом свернул влево, пересек сплошную белую линию и начал выруливать, но тут дорогу ему перегородила мусорная машина.
Он бросил на меня издалека ненавидящий взгляд, но я только доброжелательно ему улыбнулся: что ж, бывает, такова жизнь, не надо было пытаться сократить дорогу, нарушая при этом правила, через двести метров можно было повернуть – вот как я сейчас это сделаю.
Я открыл машину и сразу увидел свой мобильник. Хотя бы здесь, в центре Варшавы, можно рассчитывать на порядочность людей: лежал он себе на пассажирском сиденье целых пять часов и искушал судьбу! И ничего! Мир прекрасен!
Я сел.
И вставил ключ в зажигание.
И услышал тишину.
И заметил, что в машине горит свет. И это было совсем не хорошо.
Это мой аккумулятор умер.
Ну ясно. Я же сидел тут вчера, точнее уже сегодня, включив верхний свет, и ждал такси, потому что был сильно пьян. А потом я вылез из машины. И закрыл машину. И, разумеется, не проверял, выключен ли свет.
Вот ведь уродство!
Я моментально оценил ситуацию.
Даже если мне удастся догнать это такси – мусорка его все равно пока не выпустит, так что это возможно, – то за восемьдесят он меня, конечно, уже не повезет, но можно договориться.
Я схватил телефон и выскочил на улицу.
Мусорка как раз уезжала. И таксист мой тоже уезжал, он ехал вслед за мусоркой. Я рванул за ними, размахивая всем собой, понимая, что таксист уже обо всем догадался и возьмет теперь не меньше сотни. Сотни у меня и не было, но выхода не было тоже, нужно было искать банкомат. Я побежал за такси, улыбаясь так, как делают мужчины, которые понимают друг друга с полуслова, с полужеста, с полугримасы, я вложил в эту улыбку извинение за эту дурацкую сдачу, которую он не хотел мне отдавать, я постарался придать ему, то есть лицу, выражение, взывающее к атавистической мужской солидарности.
Таксист меня понял.
Он притормозил.
А когда я попытался открыть заднюю дверь, он обернулся и продемонстрировал мне международный жест симпатии и приветливости, понятный без перевода, – поднял кверху средний палец.
И газанул.
Первый подарок
Было десять минут седьмого.
Итак, что мы имеем: мобильник и шестьдесят восемь злотых в кармане – при этом я нахожусь в ста злотых и в двадцати километрах от цели, то есть от Магдаленки. Я стою у дома Толстого, к счастью. У Толстого есть машина. Толстый – мой хороший друг. Толстый знает, как много зависит от этих съемок, а значит – Толстый меня не убьет, если я ему позвоню. Какое же счастье, что мы договорились вчера встретиться у его дома, а не у моего!
Через пятнадцать минут я держал в руке ключи от машины Толстого. Я сел в нее. Совершенно новая. Поехали.
Когда у меня будут деньги – я тоже буду ездить на такой машине.
Она плыла… да какое там – она летела по городу словно птица, не кашляла, она трогалась с места плавно, не надо было сильно нажимать на педаль, она разгонялась за семь секунд, а то и быстрее – мечта! Моя заслуженная машинка была, конечно, сущим недоразумением – и вот сейчас я как будто получил первый подарок на свой сегодняшний день рождения! Конечно, это на время, не навсегда – но черт, как же это было приятно!
На Пулавской я был уже через семь минут, и мне хотелось еще прибавить скорости: я не думал, что в такую рань могут ловить нарушителей, а машина Толстого сама как будто просила ехать на максимуме.
За Песочным я эту невысказанную просьбу исполню, – решил я.
Я мчался по городу и думал о фильме.
Как буду их снимать, этих девочек, детально… ногти на руках, красиво накрашенные… Девочки из колонии очень следят за собой, у них очень четкая иерархия, совсем другая, чем у мужчин, очень похожая на семью: они исполняют роли отцов, матерей, теток, дядюшек, мужей. И они не уступают мужчинам в жесткости, даже жестокости – а возможно, даже превосходят их в этом. Но упор надо делать именно на женственность и снимать их надо красиво – как бы в противовес тому, что они сейчас за решеткой, и тому, что они сделали, чтобы туда попасть.
Показать робкую улыбку, какой-нибудь локон волос, падающий на щеку, – как у невинной гимназистки. Тогда образ будет говорить сам за себя.
Или ноги.
На ноги обычно не обращают внимания. Ноги под столом или под стулом, ноги в углу кресла, ноги где-то там. Люди не отдают себе отчета, что их ноги видны другим, и не догадываются, что ноги могут выдавать их истинные чувства: они не замечают, как шевелят пальцами ног, как встают на мысочки, как перекладывают ноги с одной на другую в момент неприятного разговора, то так, то сяк, как покачивают ногой, а иногда даже притоптывают или выбивают ритмичную дробь ногами.
Тогда, значит, ноги?
Конечно, надо все обсудить с режиссером, но хорошо бы иметь и собственную концепцию.
Руки…
Спокойные или беспокойные, пальцы трут нос или губы, особенно если человек хочет что-то скрыть, озабочен или врет. Может быть, тогда сначала руки? И только потом – облик целиком? А потом, в самом конце, – замки и решетки? Звук удаляющихся шагов по коридору – на уже совершенно темном фоне?
А потом небо, оживленная улица, морозный снег, какие-нибудь птицы, чирикающие на высоте, свободные и радостные?
Жалко, что это не мой фильм, – уж я бы знал, как его снимать. О чем спрашивать. Первая любовь, первый поцелуй – девочки это помнят. Я прямо вижу, как они об этом рассказывают: глаза затуманены воспоминанием, становятся влажными, мягчеют…
А потом – бабах! Нож или пистолет. Одна из этих девочек вместе с подругой убила паренька. Они три дня держали его, связанного, в ее квартире. Пытали его.
Раньше она с ним знакома не была. За что и за кого она мстила ему, обида на кого превратилась в ней в такую жестокость? Вот что было бы интересно узнать.
Вот это был бы фильм!
И я знаю, что картинка была бы гениальная.
Я ведь был хорош, действительно хорош. «Липа» получила награду на кинофестивале. У меня, мать его, было большое будущее.
И где оно?
Без двадцати семь я вздохнул с облегчением – теперь я точно успевал. День, который начался так неудачно, обещал стать вполне неплохим.
Я ехал в правильной машине, в правильном направлении – в сторону Варшавы уже начала образовываться пробка, там уже гудели нетерпеливо машины, а я, хозяин-барин, сидел себе в удобном салоне и смотрел на змеящийся хвост автомобилей снисходительно и с теплым сочувствием. Просто нужно знать правильное направление, господа, – тогда и живется легче.
Я ведь был королем жизни – несмотря ни на что.
Несмотря на все, что мне довелось последние месяцы пережить. Не говоря уже о тридцати двух предыдущих годах.
Телефон сообщил мне, что пришла смска.
Без двадцати семь нормальный человек не будет отправлять смски. Так что это могли быть только:
а) Толстый, которого я же разбудил, – и теперь он хотел рассказать мне что-нибудь очень важное, хотя Толстый скорее бы позвонил;
б) матушка – сообщить, что с ней что-то случилось, но матушка бы точно не написала смску: во-первых – она не слишком умеет это делать, а во-вторых – если бы с ней что-то случилось, то она бы тоже скорее позвонила… если бы смогла, конечно;
в) Джери, мой настоящий друг, который может позвонить в любое время дня и ночи, но этого не делает, и потом, он тоже не занимается фигней вроде писания смсок;
г) Марта, которая иногда, когда мы еще не жили вместе, писала мне смски типа «спишь?», чем частенько меня будила.
Но Марты больше не существовало.
Я все же взял телефон и стал читать:
«Разговоры по мобильному телефону и отсылка смс-сообщений могут стать причиной несчастного случая будь осторожен на дороге твой оператор мобильной связи совместно с Государственной службой дорожной полиции».