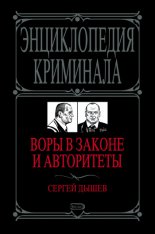Железная кость Самсонов Сергей

— Ленька, слушай меня! — взял в ладони морденку. — Ты сейчас полетишь с дядей Тошей один. И к тебе через день прилетит туда мама! А я должен поехать сегодня в милицию. Я в Могутов, в Могутов сейчас полечу! Там на наш завод, Ленька, напали бандиты. Это долго мне с ними разбираться придется, они сильные очень… — и не мог говорить, задохнулся этой чистой правдой. — Я не сразу вернусь, через год, через два… я не знаю, когда я к вам с мамой вернусь. Но вернусь обязательно, Ленька, вернусь!.. Ну, не плачешь? Никогда не реви — ты Угланов, Угланов. Жизнь такая, она как война, я тебе говорил, постоянно нам надо уходить на войну… Наше счастье, оно вдруг кончается, прекращается… ну, на какое-то время… надо ждать и терпеть. Никогда не жалей себя, понял? Только слабые люди жалеют себя и хотят, чтобы все их вокруг пожалели. Ты сейчас это понял: никто никогда не сделает тебе, как хочешь ты. Самому надо делать. Я буду далеко, но знай, я все равно оттуда каждую минуту буду видеть, как ты живешь и как ты поступаешь. Сильный ты или слабый. Чем сильнее ты будешь, тем скорей я смогу возвратиться к тебе. Ну а будешь ты ныть, так и я ныть начну, развалюсь от нытья твоего, плаксавакса… Ну прости меня, что все вот так! Маму не обижай, у тебя теперь мама остается одна… береги ее, понял?.. Потому что никто тебя так же сильно, как мама, никогда не полюбит. Ну давай, сын, давай… — Ткнулся мордой в морденку, в приварившую родность и сразу, не стерпев, оторвал от себя, как железо от губ на жестоком морозе.
3
«На стыковку, Чугуев. Пошел». Побежал, как с горы, потащился с чугуном на ногах — между серых кирпичных бараков, через плац, протянувшийся бело-сиреневой, выжженной электрическим светом пустыней, мимо стройных шеренг свежевыбеленных, тоже будто бы вышедших на перекличку, отбывающих срок в мертвой серой земле тополей… Много белого стало: бордюры, стволы — вылезая из старой, растресканной кожи, под кого-то, зачем-то обновлялась вся зона… Как всегда — «под комиссию», там и сям возгорания ремонтов — запрягли и гоняли их всех, мужиков, на все старое, нищее, проржавевшее и прохудившееся… как дожди, зарядили над зоной проверки: генералы, полковники с непрерывно о чем-то тяжело размышлявшими мордами обходили отряды, хозблоки, цеха, саморучно крутили по кабинкам в парной полыхавшие новые вентили, с красно-синими карандашами исследовали инженерные планы дренажной системы, вентиляции, канализации; перестройка, вообще непонятная, повелась не внутри — по периметру: там в запретную землю врастали бетонные плиты массивнее прежних, пропускался по новой колючке высокого напряжения ток, зачастившие в зону автобусы подвозили бригады отчетливо трезвых и хмурых рабочих в ярко-синих и красных комбезах, с чемоданчиками и баулами, полными перфораторов, сменных насадок, крепежей, разноцветных мотков проводов, черных линз объективов, нержавеющих кожухов, ящичков с электронной, видно, начинкой и еще всякой-разной невидимой, уловимой только магнитной отверткой несметной насекомой мелочью, — те шпурили заборные плиты, пробрасывали кабели, ковырялись в электрощитах с кропотливостью часовщиков, проводя, собирая какую-то новую небывалую сигнализацию, и уже к хохоткам арестантов «Не Ишим уже нам — Алькатрас» начинало примешиваться темное недоумение от чрезмерности этих усилий и предосторожностей: под какой же такой контингент, не людей, а зверей переделать решили всю зону?
А Чугуев не думал. Для него поменялось другое. Хлябин, Хлябин затих, обернувшись исправным служакой ввиду этих всех чрезвычайных комиссий и оставив Валерку в покое, не в покое, так хоть налегке: не натравливал больше на намеченных в пищу себе мохначей, и надежда какая-то даже проблеснула в мозгу, что в связи с этим новым порядком, под завинченной наглухо крышкой кровосос больше не шевельнется вообще… И несла его эта надежда к Натахе сейчас, к одиноко стоящему серокирпичному домику, так похожему издали на их с Натахой могутовский дом, дом отцовский, в котором родился… Дом, конечно, вблизи был подделкой, гостиницей, ни по ком не хранящей исключительной памяти из трехдневных своих постояльцев, чьи отдельные запахи, шепот, бормотания, слезы сливались во что-то безличное или, может быть, вовсе не могли удержаться, улетучиваясь сразу же; тень ближайшей бетонной стены неподвижно лежала на доме; ни один вертолетик кленовый, казалось, не мог залететь на асфальтовый двор сквозь колючую путанку. Но и здесь безнадежноупрямые жены хотели спать с мужьями на временных койках как на постоянных, накормить их, скотов, жирной пищей, собой, отдавая все, что они могут отдать, — долгожданную сладость, огонь переспелого тела… И опять на ходу колыхнулась чугунно и расперла Чугуева в ребрах вина: вот что он ей, жене, на полжизни оставил, вот какой у них общий с Натахой дом… и вшатался, втолкнулся в поддельно-домашнюю комнату, и еще молодая, хлесткосильная женщина, с ровным остервенением сгружавшая в холодильник ледышки мороженых бройлеров, и колбасные палки, и прочую снедь, обернулась к нему с такой резкостью, словно стегнули, и, роняя пакеты, как ведра в колодец, подалось к нему, гаду, с перехваченным скобками страха увидеть не того, не такого Валерку лицом… к эшелону теплушек, везущему половинных и целых с войны… И качнулась, ослабла от первой, самой сильной прохватывающей радости, что физически цел, невредим… Будто солнечный свет от Валерки ей ударил в глаза и немедленно вынес со дна их нестерпимую, неистребимую синь — все другое исчезло, кроме этой колодезной сини, пробравшей до зубной боли в сердце, кроме первоначального, юного, заревого лица, не стерпевшего и проступившего сквозь горькие черты усталой женщины, избитой перелетами меж огненным Могутовом и нефтяной Тюменью и обратно. И после долгого и краткого всего на общей временной постели она пила, вдыхала его запах, только его, чугуевский, и слышный только ей, целовала в глаза и шептала: как все трудней дается его матери короткий путь от дома до Казачьей переправы и обратно, очень сильно болят у нее на плохую погоду колени и в голове пыхтит как будто паровоз, но она его ждет, его старая мать, заложилась дождаться; что Валерка закончил без троек четвертый, правда все у них в классе закончили на четыре и пять, это не показатель, в начальных классах к ним пока что проявляют снисходительность, а пойдут уравнения сейчас с неизвестными и особенно химия, помнишь?.. вообще ум за разум заходит… Это что? Поведение хромает, вообще никому уже не подчиняется наш с тобой сынок, в дневниках замечания: «подрался», «подрался», «оскорбил в грубой форме» — вот в кого он такой, ты не знаешь?.. Молчу! Александр Анатольевич твой обещал повлиять и Валерика в новую школу устроить, хорошую… Ну, такую, Угланов построил у нас при заводе специальную, инженеров готовить чуть ли не с колыбели, и Валерика, значит, туда, ну с условием, конечно, что будет стараться учиться, а не шлендать по разным котельным и стройкам. А Угланова нашего взяли, Валерик. Ну куда — вот под суд, под арест. Телевизор вам тут вообще не включают? Ну и с Сашкой теперь неизвестно что будет. Тоже очень боится теперь. Что творится, Валерка, у нас! Как его-то, Угланова, взяли, так весь город и встал — за Угланова. Руки прочь, отдавайте хозяина! А какая война была, помнишь?.. Ох, помнишь… чтоб его на завод не пустить. А теперь все в него поголовно, как в бога. Кто молчком, кто уже в полный голос: никакого другого не надо. Ну а как? Ведь народ не обманешь. Стал бы кто за него, если был бы он — так… Ведь завод-то поднялся, его раньше-то было, сколько помню себя, целиком не увидеть, завод, а теперь вообще — где же он там, в Сибири, кончается? Люди ходят не гнутся, смотрят прямо в глаза. Каждый новый свой вес, вот значение почувствовал. Получать сколько стали. Сорок тыщ, шестьдесят. Ну и вышли на площадь, стоят и молчат. День стоятмолчат, два, и неделю, и месяц, считай. Приварились, уперлись. Вообще непонятно, что будет, Валерочка. Как не знаю… опять воевать собрались. И теперь уже с кем? С государством. Что ж за город у нас? Аномалия просто могутовская.
Это все теперь было совсем далеко от него — что творилось сейчас на заводе: и родной его брат, оборотистый Сашка, и огромный Угланов со скучными и пустыми глазами, не видящими никого из людей, ничего вообще меньше домны, ничего легче тонны могутовской стали, и ребята-рабочие, что с недавних времен под Углановым зажили сытной и осмысленной жизнью, с ощущением честных мозолей на чистых, не запачканных кровью руках… Это все теперь было настолько от него далеко, что уже не будило ни злобы, ни зависти.
Он вообще жил нигде, от всего отсеченный, для него шли другие часы, жизнь его сократилась, свелась к постоянному страху быть затянутым в новую кровь, и одна лишь Натаха, как свечка, горела для него в темноте своим чистым лицом и шептала, шептала, без обмана почуяв, что сам он не свой, что его чем-то в зоне совсем тяжело придавили: «Что, Валерочка, что? Ты скажи, ты мне все говори. Я же вижу, Валерочка, это! А вот то, что попался на чем-то! Ментам своим тут! И у вас тут война, я же знаю, заключенные между собою, разборки. Что, Валерка?! Я ж тебя ведь насквозь. Снова „раз только врезал — и все, он лежит“?! Это, это, Валера?! Или что, говори! Что другое тогда?! Что они тебе шьют? Ведь за самую малую мелочь прихватить тебя могут, я же знаю, Валера, наблатыкалась тут, как у вас говорят, у ограды. Может, денег хотят они с нас? За какую-то мелочь прижали? Так тем более ты не молчи! Ты скажи, мы найдем, мы заплатим, вон у Сашки зай му твоего, пока он не сбежал за границу… и возьму! у тебя не спрошу! для него эти деньги — плевок! Или дом продадим с твоей матерью, все свое продадим — проживем! Самое главное сейчас — чтобы ты вышел, ведь ты столько, Валера, уже протерпел и совсем нам с тобою недолго осталось! Только ты не молчи никогда, я прошу!»
Вынимала своей отчаянно-горькой синью из Чугуева правду, все готовая взять, как собака из рук, даже если он этой правдой ее и добьет, и шептала еще: «Ну кому, как не мне? Я должна это знать!» — пока не обессилела, приварившись к нему всей своей тревожной, чуткой тяжестью, обсыхая с ним общей кожей и боясь отпустить его даже во сне.
Уходило их время свидания, а Чугуев никак все не мог шевельнуться в тесноте их объятия, зная, что может так опоздать на развод и получит взыскание в личное дело, — ждал, пока потеряет она обнаженную чуткость всей кожи и не сможет почуять пропажи, разлучения, разора, отрыва… и стоял над ней в утренней серой, беспощадно прорезанной заоконным прожектором тьме и глядел на родное лицо, на вечную страдальческую складку у дышавших ее губ, и во сне до конца не разглаженную, — все вдыхал ее, пил, золотую Натаху свою, и не мог ни напиться беззащитной, горькой родностью, ни оторваться.
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
1
Непрерывно уже чуял он этот запах, который потомственно и пожизненно держит в себе корневая система бессознательной памяти каждого русского или, может, любого двуногого зверя вообще, — запах застиранного, ветхого казенного белья, протравленного хлоркой и прожаренного в вошебойке, стократ пропитанного потом слабости и страха, запах медленных неумолимых болезней и твоей невозвратно, неостановимо сгораемой жизни, запах рвущей, сосущей острожной тоски, человеческой малости, что не весит совсем ничего, невозможности личных, ни с кем не делимых, неотъемных вещей, запах небытия тебя лично, вне конвейера, марша, режима, расписания прогулок и корма. В общем, так пахнет смерть, та, что можно потрогать, испытывать, пить и вдыхать, и она не кончается и не кончается.
Страха не было вовсе: невозможно трястись от того, что уже началось для тебя; дальше — только погрузка, доставка, обработка, разделка; ничто не прерывало движения точных рук, находивших в нем нужные кнопки, — засадили в стального жука между черных голов и литых мощных плеч и куда-то везли… куда именно, не интересно, в какой именно ржавый рот железобетонной «тишины» его вдвинут, но зачем-то включился в башке его скоростемер, и зачем-то считал километры, минуты в дороге — весь сознательный век свой проживший в хронической недостаче летящего времени, и уже стало ясно: в Лефортово, словно это конкретное место имело значение в общей определенности, словно нужно найти было имя для всего, что железно залязгало, заскрипело, заныло вокруг, с пережевывающим хрустом, разрубающим грохотом раздвигаясь, впуская, захлопываясь. По гремящим отсекам подлодки, коридором меж голых, обожженных прозекторским светом, чем-то тухло-желтушным покрашенных стен пошатался, пополз, не сгибаясь, то и дело втыкаясь башкой в стальные уголки косяков, с этой местной поверхностной прижигающей болью почуяв: с его ростом — отсюда и уже навсегда — не считаются, не поднимутся эти железные притолоки, как всегда и везде под него раздвигалось пространство, когда он, он, Угланов, шагал и за чем-то протягивал руку.
В голой комнате-зале, заполненной студнем заварного горячего воздуха, сразу три камуфляжных устройства поднялись из-за голых столов и шагнули к нему с санитарской учтивостью самых лучших сотрудников ГУП «Ритуал»: «Лицом к стене становимся, пожалуйста. Ноги на ширине плеч, пожалуйста». И его не прожгло — не терпевшего прикосновений, — и стоял, раскорячившись, мордой к стене — в подступившем водой понимании, что сейчас началось то, что будет повторяться еще и еще, каждый день; проминая, прощупывая шов за швом его шкуры на предмет заселившихся блох и клещей, со сноровистой быстротой разделали, вынули и сложили в лоток небольшой невесомой кучкой: два стальных его вечных мобильника, полных номеров рыбоящеров мирового правительства, орластый загранпаспорт гражданина Российской Федерации, бумажник с парой-тройкой кредитных отмычек от всех, от всего, распухшую от стрелок и кружков только ему понятной клинописи книжку, стальной хронометр, который остановится только спустя семь дней покойницкой бездвижности хозяина, стальной «Монблан», визитницу, стальную зажигалку, пачку «Мальборо», «снимите ремень», «выньте шнурки» — все извлекаемые, съемные детали ставшего голым, продуваемым насквозь, вот с непривычки как бы дырчатым устройством. И теперь навсегда — так, скажут они, отведя ему место: «проходим», «стоим», где и как ему жить, чем дышать, камуфляжные особи с полиняло-облезло-потертыми, как бумажник старухи, служилыми мордами и глазами рептилий… Руки жили отдельно, исполняя, что сказано, отмерзали, текли, протекали сквозь ткань, как вода, и сквозь них протекали застрявшие в прорезях пуговицы… ободрал сам себя до резинки хлопчатобумажных «семейников», что берешь по утрам в герметичной упаковке из стопки таких же и бросаешь запрелым комком в бельевую корзину дома по вечерам; появилась еще одна особь с глазами пожилой черепахи, на ходу доставая из карманов халата перчатки и шлепнув по запястьям посыпанной тальком резиной: «Подойдите, пожалуйста. Рот откройте, пожалуйста… Повернитесь, пожалуйста. Ягодицы раздвиньте, пожалуйста».
И опять коридором, по крутому железному трапу, через каждые десять ступенек ударяя по прутьям гремящей связкой ключей, — в провонявшую хлоркой, банно-прачечным обобществленным… каптерку… позабылись названия, слова. Из окошка обритая пустоглазая башка ему выдала полосатую скатку матраца, шерстяное болотное одеяло и простыню с огромными чернозвездными штампами — казенные дары детдомовского детства общего режима, изжитого, сожженного, столь убедительно не бывшего и захлестнувшего сейчас Угланову сетчатку, — вот что его проткнуло и добило, задохнулся от смеха, человек, что судьбу делал сам, опрокидывал промысел собственным замыслом, выбирая всегда, что он будет иметь, что держать и с какой проминающей силой двигаться. Тот, кто с ним это сделал, имел чувство юмора: колесо с прилепившимся к ободу, словно мелкий соломенный сор, человеком описало огромный полный круг и вдавило его в ту же глину, из которой он вышел, в тот же нуль своего единичного неповторимого собственного. И теперь было поздно — еще раз начинать.
2
А откуда он взялся? Как он «начинал»? Своры всех ста пятидесяти телеканалов, Интернета, таблоидов ломанулись к воротам Лефортова, в сей же миг осадив параллельно цитадели российской юстиции, всем давая желающим поглазеть на подробности русской корриды и согреться глумливой радостью маленьких от падения большого: что дают ему там, под плитой, в загоне, чем питается, как испражняется… И попутно охотились за углановским прошлым, за Углановым тем, первых детских ходов, накопления первого капитала для страшного роста до контрольных значений, регистрируемых «форбсовской» аппаратурой, и все эти авральные мышьи раскопки принесли неожиданно, ожидаемо мало существенного.
История восхождения младшего научного сотрудника Института проблем безопасности Угланова А. Л. оставалась такой же прозрачной, как тема его кандидатской: «Полуэмпирические уравнения плотной плазмы металлов на основе модели Томаса — Ферми». Из тех, кто все видел, кто вместе с ним шел, остался один лишь Ермо — Брешковский и Бадрик молчали в могилах. Вместе с Дрюпой и Бадриком не протаранил — перешагнул вступительные в «свой», предначертанный МФТИ, и вот эту-то самую предначертанность и ощутил ближе к третьему курсу как ясное, постоянное, неотменимое зло, как железную часть все того же изначального промысла, по которому должен он, Угланов, не быть, и как часть всесоветской предопределенности. Это не он — ему определили, предписали, прорезали эту дорожку: в 23 — м. н. с., в 35(!) — кандидатская, и будь хоть семи пядей во лбу — не ускоришься; может быть, вообще никогда не получишь в свои руки машину, рукотворную мощность не меньше термоядерного Токамака или огненной силы Могутова, потому что машинами здесь управляют заржавленные ветераны компартии СССР, долгожители, зомби, рептилии и не выпустят руль из иссохших клешней, пока ты не рассыплешься.
В этой стране у человека было все, кроме уверенности в перемене участи на любую другую. Делай или не делай — все пойдет, как и шло. Без тебя. Предначертанность сделала двести миллионов советских людей пусторуким сообществом нищих. О кратном повышении оклада сто лет как забыли и думать: измеренность зарплат лишила стимула — необходимости работать лучше и быстрей, платят всем не за труд — за приход на работу, личный рабочий интерес рассчитывается по изготовлению, а надо — по реализации, и отсюда дерьмо на прилавках, на колесах и над головой; потеряла значение вера в абсолютную силу единого общего дела, за пузырь в чугуне не расстреливают, и рабочие цехами, заводами положили с прибором на качество напрягаемой стали, всего. Слова «приобрести», «купить» утратили свой смысл в прошлом веке — все стояли и ждали, когда им подадут — из машины поставки всех жизненных благ, что должны были выстроить сами. И все то, что тогда они делали, вундеркинды и три мушкетера, было вовсе не бунтом против этой системы, а потребностью жить, как растешь.
Бадрик с Дрюпой какое-то время барыжили финским сервелатом и «Мальборо», что обрушились на обезлюдевшую и помытую с мылом столицу в олимпийском году, а Угланов уже озирался: где машинка, в которую можно залезть и дать «полный вперед», что он может сейчас получить и возглавить… И нашел то, что видели все, но никто не хотел разгонять проржавевшую вагонетку по рельсам. Бригадный подряд. «Чуваки, — объявил он им в „штабе“ над Сетунью, на дощатом настиле на ветках ветлы, — вы ловите на мизере, точнее, на говне. Ну подняли вы десять кусков за три года, ну еще за три года поднимете столько же. С каждой шмоткой мудохаться будете и дрожать постоянно от каждого шороха. Да не в том дело, что погорите и что кто-то зассал вместе с вами крутиться. Просто дальше-то что? Что имеем на выходе? Джинсы можно, поляну каждый вечер с девчонками в „Узбекистане“, а машину нельзя и квартиру нельзя, потому что от партии сразу вопрос: на какие шиши? Потому что ты кто после пятого курса — аспирант, мэ-нэ-эс. И вообще: двадцать штук — потолок, на дерьме этом больше не сделаем. Вся же прибыль не с вещи — с объема. А на шмотках не мы сидим, не во Внешпосылторге, чтоб иметь с оборота. У меня две идеи: одна нормальная, вторая гениальная».
И всадил: стройотряд. «Что, тащить дальше БАМ за мечтой и туманом?» — обленившийся на легком хлебе Ермо лишь презрительно сморщился сквозь комариные полчища и еловые лапы непролазных чащоб, на последние всполохи единения душ у костра под гитару, Бадрик всей молодой оленьей силой был готов подорваться в таежные дебри хоть завтра лишь на том основании, что ни разу не пробовал и «вообще: я — как вы», а Угланов тащил их к Кормухину, «дяде Володе», тому самому другу отца, уничтоженного абсолютной силой за то, что отказался давить ее гусеницами пролетарский восставший народ, — у Кормухина был под началом стройтрест, и давно он ушатывал Тему: «Может, все-таки надо чего? Не молчи, попроси — помогу».
Через их институтский комитет комсомола, что гонял всех физтеховцев на раскисшую глину капустных и свекольных полей убирать урожай, получили путевку в стройтрест, сколотили отряд из голодных до работы и денег собратьев и катались все лето по дачным поселкам Красково, Удельное, Тайнинка… И в поселок Совета министров(!) на Успенском шоссе: отставной подполковник бронетанковых войск не обманывал — строил дачи и вправду для очень непростых отдыхающих, и не надо им с Бадриком было носиться на разбитом «козле» по различным управлениям механизации и базам лесоматериалов и выклянчивать лишний-другой кубометр гнилья, экскаватор, бульдозер, бетономешалку… на Успенском шоссе наступил коммунизм. Ничего они, физики-теоретики, толком не могли изначально — разве только копать, и со всей молодой своей жадностью рыли, вычищали канавы под фундаменты тех первых нищенских дачек, а потом намонстрячились понемногу и плотничать, и три лета подряд — честный пот и мозоли, официально закапавшие, побежавшие деньги: триста в месяц на рыло, пятьсот, ну а главное, он наконец-то дорвался — повести за собой первых тридцать голов, направлять их и требовать. К летней сессии третьего курса позвали в комитет комсомола: «Как ты смотришь на то, что мы сбор членских взносов в институте поручим тебе? Опыт есть у тебя оргработы, стройотряд наш физтеховский в лидеры вывел, с твоим мнением считаются». Он совсем не хотел непрерывно зависеть, по-собачьи служить — да еще главным мытарем всех факультетов, но почуял врожденным подрастающим нюхом: он не сможет сейчас в одиночку двигать то, что он хочет, не прикрытый никем, кроме разве академика Авалишвили, вот сейчас ему надо зацепиться и встроиться, быть в составе, в системе, зарабатывая авторитет… И вообще, что-то тут, в комсомольском активе, у них затевается, они ближе к партийным рептилиям, мумиям, к этажам, на которых решается, как и чем будут жить все советские завтра.
И пошел в институтские сборщики податей на привольном и вольнолюбивом физтехе, презиравшем «халдеев»: каждый месяц был должен окучивать пять тысяч душ — люди недодавали копейки, телефонную мелочь на общее комсомольское дело — надувался такой пузырек недоимок рублей в 200–300, и в райкоме долбали: опять недобор? И, конечно же, проще Угланову было каждый месяц докладывать в кассу свои. Ну, Ермо тут, конечно, припомнил спелогубого, масляноглазого персонажа «Республики ШКИД», что ссужал попрозрачневшим с голодухи собратьям осьмушки: «я тебе дам свою пайку хлеба, а за ужином ты мне четвертку отдашь».
Вслед за Брежневым смерть сразу вырвала из рядов и Андропова, и запахло оттаявшей черной весенней землей, навозом, свинарником, и Угланов почуял: пора разогнать и вторую идею свою, «гениальную»: «Значит, так, чемберлены, закон на советской планете один: кем работаешь, то и воруешь. Какие мы имеем средства производства? Только эти. — По черепу пальцем. — Тоже вот дефицит, самый непоправимый. Либо есть, либо нет. А дипломто с отличием хочется всем защитить. Это сотни дебилов. И богатых сыночков, втыкаете? Надо только работать с объема, бригадой. Позовем Айзенберга, Голдовского, Друскина, Сашу Савельева — пусть штампуют расчеты, модели и графики. Бадрик будет клиентов вылавливать… ну, там в «Губкине», в «Плешке», в Станкине. Но дипломы — херня, для разгона. Мы же можем ведь и… кандидатские… Да какие „все сами“? Я тебе не про наших толкую. А вот есть генерал производства, от сохи, от мартена такой, он в станках понимает на ощупь, а в теории — нет, и ему надо тупо получить эту корочку, чтобы двигаться вверх. Тупо времени нет — самому. И вот как это так получается: времени нет, а из ВАКа выходят все такие с заветной корочкой? Значит, кто-то им эти пирожки выпекает. Индустрии там, может, и нет, но кустарные промыслы — точно. Нам бы только концы в институтах найти, самых мясо-молочных и заборостроительных. Ты вообще представляешь, что это уже пять процентов от Ленинской премии?». Сколотили бригаду, запустили процесс. Где-то раз в два-три месяца Бадрик приводил настороженных мрачных армян и абхазов, звериной чуткостью и гибкостью повадки больше похожих на воров-законников, чем на обычных травоядных аспирантов института им. Плеханова. Улыбчивый грузин, подъехавший на «бэлый-бэлый» «Волга» с кузовом «пикап», путался в русских падежах и окончаниях, но протянул Ермо листок с названием потребной диссертации: «Разработка алгоритмизации оптимальных решений при управлении предприятием народного хозяйства на примере Батумской чаеразвесочной фабрики». Они еще тряслись и отбивались от буйной смеховой агонии друг друга, когда грузин открыл свой министерский кейс и вколотил в столешницу кирпичик сторублевок, как первый камень в основание их энтузиазма: «Я очэнь прошу тебя — сдэлай. Имею дикая потрэбность, дорогой».
Но на этой жар-птице из солнечной Грузии все и закончилось, никаких «Ереванских коньячных заводов» на них не обрушилось, так что стригли лишь жалкие сотни с преддипломных баранов — было жалко своих бесподобных нейронов, выжигаемых этой нищеумной поденщиной. И вот тут-то он и появился, с осторожной, ласковой цепкостью сцапав Угланова за руку в институтском дворе, — коренастый, избитый полетами меж какихто ученых советов, планет, не сгорающий в плотных слоях атмосферы, напряженный, ссутуленный, согнутый, как бы сам себя делавший меньше и ниже неопознанный метеоритный объект: с облетевшей уже на ветру — к тридцати? к сорока? — головой, тонким клювом, лягушечьим ртом и прогорклыми, режуще быстрыми, совершенно безумными под еврейским вельтшмерцем глазами.
— Вы Угланов, простите? — Пальцы сразу разжались: не трогаю, все. — Я про вас очень много наслышан, что есть такие вот ребята на физтехе, которые… э-э-э… немного помогают, так скажем, в подготовке… вообще вот гениально… — молотил и тянулся к Угланову снизу озаренно-подсолнечным, жадным («наконец-то нашел вас, ребята!») лицом, не сводя любовавшихся, как бы сразу узнавших хозяина глаз, непрерывно подкатывая обнаженными теплыми волнами к скалам. — Я, собственно, руковожу большой лабораторией в ведущем институте, проблем безопасности, знаешь, конечно… — разговорился навсегда, в Угланова засаживая, всеивая, кто он: две сотни крепостных, гектар лаборатории, подземные ходы выводят на Лубянку, в друзьях — все академики, творцы новейших бомб, хозяева науки, министры, генералы Шестого управления КГБ!.. Бескрайние угодья маркиза Карабаса. — Борис. Брешковский Боря. — И выбросил, как нож, в Угланова дарящую рукопожатие, вцепившуюся руку с такой внезапной резкостью, привычностью, бесстыдством, что он ее схватил, Угланов, защищаясь. — Так вот, есть человек, серьезный, очень сильный, за ним большой завод, огромный, колоссальный сектор сбыта! Я сделал ему все, там как бы все готово, весь корпус диссертации, остались лишь расчеты, и нужен кровь из носа способный математик.
— Состряпать-то можно, но мой интерес? — Угланов взял фрезу и начал вскрытие черепа: что может? хвастливая дешевка? обслуживает мелких за мелкие подачки — рулоны туалетной бумаги с унитазами? — Клиент твой этот кто? На чем сидит конкретно? И вообще, я так мыслю, ты с этого кормишься. Устраиваешь защиту нужным людям. А мы давно ищем концы. Поэтому так: мы сделаем все, но ты всех клиентов заводишь на нас. Нам нужен конвейер, а разово работать мне неинтересно.
— Так в том все и дело, о том разговор. — Брешковский, со скоростью швейной машинки кладя подбородком стежки, закивал, застрял и вгляделся в Артема, любуясь: в тебе не ошибся, не мальчик, сечешь. — Потока не надо, конвейер забудь. Нужны, наоборот, удары очень точечные. — И, подавшись к Артему, как к матери, снизив голос до пододеяльного, после близости в первую брачную ночь, нутряного, дрожащего шепота, сообщил невместимое, страшное, как Гагарин, который молчал и не вытерпел: видел! видел, что Он действительно есть! — Вот этот самый человечек, он из отдела сбыта АвтоВАЗа! Его никак нельзя терять, никак! Ты и тысячной доли сейчас себе не представляешь возможностей! Это будет конвейер — с машинками! — Его трясло, обвитая жгутом высоковольтного разряда рука его притрагивалась к Теме, — не запитаться маниакальной убежденностью от полоумного вот этого устройства было невозможно.
Ермо и Бадри встретили такого — скользко-вывертливого, клянчащего рубль на бензин и заливающего про алмазные телескопические трубки — д’Артаньяна настороженно. «Нет, ты мне объясни, Угланыч, — на сутки заряжал Ермо, — я, может, сирый и убогий. Но только почему он в дело до сих пор не принес ни рубля своего? А мы ему кусок, еще кусок. Ты хоть единственного человека видел из тех, про которых он нам заливает и которым он якобы должен поляну накрыть? Для закрепления как бы отношений. Покажите мне этих людей! „Завтра“, „завтра“ все, „завтра“, пока не родил. Это ж, блин, Хлестаков натуральный! Послушать его — он в ЦК вообще одним пинком дверь открывает. Ау, Угланыч, где ты?! Это ж, блин, прирожденный… даже слова такого не могу подобрать. Материнскую грудь вот сосал и орал, что голодный».
А Угланову этот Брешковский понравился — как явление совсем чужеродное, абсолютно с тобой по устройству не схожее, то могущее делать, что ты сам — никогда, и как раз вот поэтому необходимое. Как природа наносит на кожу рептилий защитный узор, позволяя прикинуться камнем, корягой, травой, — так и Боря всем ходом эволюции был гениально приспособлен к тому, что Угланов вообще отродясь не умел. Древоточцем, лозою жил Боря, прогрызая проходы в ковровых дорожках ученых советов, комитетов, дирекций, президиума Академии наук СССР — от крыльца до стола секретарши, день за днем не пускающей к «Алексанниколаич обедает», подкопами, измором протирался просачивался в услужение кому-то из решающих судьбу: квартиру в новостройке, автомобиль восьмой модели «Жигули»… Был готов послужить человеку носильщиком, рикшей, туалетной бумагой, прямой кишкой, чтоб потом только раз попросить о ничтожном… И почуяв, куда, до каких этажей сможет их протащить этот Боря, улитка (оказалось, до теннисных кортов и в пару с багровеющим, рыкающим на партнеров Б. Н. Ельциным), он, Угланов, поставил на Борину эту способность обволакивать и подселяться в мозги, и однажды средь ночи Боря их обварил телефонным ликующим голосом: все! Бадрик может приехать за своей «восьмеркой» на Калининский утром!
Испарились неверие, презрение, начались их паломничества к жигулевским горам полыхающих девственной краской крыльев, сладко пахнущих смазкой коленных валов, хромированных бамперов, стекол, покрышек и «дворников», обходившихся по госцене, забесплатно и в Москве улетавших за дикие сотни. Бежали, как копченые индейцы майя, священным городом Тольятти на склады! И, нагрузившись до надрыва важных жил, волочили комплекты разумной цены не имевших, бриллиантовых вкладышей на проходную — перли крылья и стекла сорок метров и дохли, даже Бадрик с его цирковой гимнастической мускулатурой шатался; Брешковский тряско семенил, отягощенный «жигулевской» дверцей вперевес, приседал под железным ярмом, обрываясь почти на колени и сбиваясь с бригадного ритма, щека его уже синела от проступающей сердечной недостаточности, в глазах ныла боль — Ермо потешался сквозь слезы: да ну ее на хрен, Борь, брось! брось, а не то кишки полезут через задницу, — но Боря не бросал и хромылял, как будто оставляя за собой на асфальте влажный след, Стахановым навыворот поклявшись тут и сдохнуть, на переднем краю восьмирукой войны за стальную валюту советского мира.
Денег стало так много, что они не вмещались в старый фибровый их чемодан, больше метра в длину, глубиной по локоть, на свинцовых сберкнижках в одиннадцати отделениях имперского банка; Боря неутомимо развивал корневую систему взаимно подпитывающих связей с беззапчастными столоначальниками, с безлошадными директорами ведущих НИИ и пророс в Комитет по науке и технике СССР… А Угланов глядел на растущие ворохи этой бумажной, не могущей подброшенной быть ни в какие костры производства листвы и закупоренно тосковал по железнореальному делу. И казалось, что все прогниет и рассыплется, но не сдвинется ни на микрон в направлении к личной свободе, так и будет все это тянуться репортажами о посевных на советском экране, мавзолейные эти, в каракулевых пирожках и ондатровых шапках, черепахи всех переживут, и Угланов нырнул за спасением в науку, хоть во что-то, что здесь и сейчас может сопровождаться осязаемым выбросом смысла, в первородную сталь и сверхпрочные новые сплавы, ближе к огненной силе, что его притянула к себе изначально, и работал над новым трехспектральным пирометром для бесконтактного измерения температуры металлов при плавке и розливе — улетел в свой Могутов и жил там неделями, подступая вплотную к чугунному солнцу с измерительным зондом в руках и почуяв обваренной кожей те высокие градусы, на которых литейная практика начисто выжигает теорию.
Появился уже Горбачев, в 104-м концертном исполнении провозгласив курс на «новое мышление», — он, Угланов, сперва не поверил, видя только набор отвращения к собственной жизни и согласия с собственным самораспадом. Богом времени стало печатное и микрофонное слово, начиналась эпоха душевнобольных, экстрасенсов, краснобаев, романтиков бунта, в репортажах с далеких планет США и Европа показали народу недоступную жизнь «настоящих», запылали журнальные разоблачения: миллионы удобрили буераки и пустоши, накормив собой светлое будущее — настоящее наше, что имеем сейчас. Но Угланов увидел другое, реальное: воскрешение из мертвых не людей, а дензнаков.
У любого циклопа тяжелой промышленности, у любого НИИ на счету была прорва, шестизначная тьма безналичных рублей, но что именно, где и за сколько покупать из станков и устройств, устанавливал свыше сторукий Госплан, и с живой зарплатной наличностью эта виртуальная сущность не смешивалась. Обрушение «Закона о госпредприятии» (в том числе и «о временных творческих коллективах научных работников») — и в другом, загудевшем, забойном метановом воздухе он, Угланов, прозрел, как от вспышки: дело было не в том, что теперь бесконтактный пирометр, над которым работал, он может продать комбинату как свой, дело было в возможности здесь и сейчас подключиться к потоку размороженных денег; не успеешь сейчас — навсегда опоздал.
Поднял всех по тревоге: на хрен ваши покрышки и «дворники» — вместе с Дрюпой и Бадриком к Гендлину, богу НИИ высоких температур и экстремальных состояний: дайте нам сделать «центр научного творчества», и мы вам будем сами находить, Институту, заказчиков, и работу всю сделаем сами, мозговыми прорывами, штурмами молодых коллективов, ничего нам не надо, только ваше «добро». Обаятельный Бадрик источал убежденность, старший Авалишвили, академик и орденоносец, позвонил кому надо, и у Бори внезапно появилась жена — заржавевшая, ношенная, много старше Брешковского страхолюдная баба, служившая в горисполкоме и сейчас вот как раз — ну и Боря! и здесь взял приданое с процентами! — выдававшая всем разрешения на «личное творчество».
Начинались кооперативы, эпоха беспримерной торговли всем, чего не хватает и хочется вусмерть: потянуло дразнящим шашлычным дымком, жженым кофе и сахарной пудрой из-под зонтиков «Пепси» и «Фанта», аспиранты засели за швейные «зингеры» и вываривали в чанах самопальные джинсы; ручейки, караваны непонятно с какого выезжающих дальше Болгарии избранников счастья привозили обратно компьютеры, за контрольной чертой Шереметьева дорожавшие в тысячу раз, а над этой наземной дымовой завесой существа высшей расы неслышно и незримо делили имперское «все», золотые запасы и землю — на Россию, Армению, Грузию, Украину и Узбекистан. Какое, на хрен, накопление капитала? Весь капитал, все, чем он обеспечен был, возведен и вырван из земли с 30-х по 70-е — каким-то первохристианским трудовым и подневольным рабским длящимся усилием всех русских: сооружения гигантских мощностей, громады ГЭС, разведанная платина…
А помешавшийся Брешковский рухнул в имбецильность, в жизнь насекомых, вирусов, бактерий: раздобыл у себя в институте промышленный лазер и поволок по подмосковным выгнившим колхозам вместе с Бадриком, чтоб рассказать свинаркам о преимуществах сверхсовременной безболезненной кастрации скота: мол, хряк совсем-совсем не мучается и не спадает с туши вообще. Вообразить себе дальнейшее: белохалатные лобастые пришельцы из сопредельного недосягаемого мира научных знаний и секретных технологий сосредоточенно монтируют УСТАНОВКУ на наполненных благоговением глазах коллективного аборигена, три визжащих, ярящихся центнера грязно-серого смрадного мяса подволакивают за ноги к пушке; ультракороткий взмах отточенного лазерного скальпеля — и нестерпимый крик и вздох зарезанной свиньи, бьется в агонии гора и замирает. Борька — того… чего-то не того, давайте Борьку-2. «Ну а этот-то, этот-то че?» — «Ну, это есть у нас такое, физиков, в науке. Ну, допустимая погрешность». Ультракороткий импульс, точечный удар — и нестерпимая животная сирена, землетрясение, судороги, сдох. Запах подпаленного мяса добивает до коллективного колхозничьего мозжечка — «специалисты из Москвы» рвут кабанами на рекорд, и за ними — табун похватавших дреколья туземцев: у-у-убью! Арендованный «рафик» притащился, как с передовой, весь исхлестанный рыжей глиной, с провалившимся задним стеклом. Боря с Бадриком вывалились из салона, словно скатки матрацев из шкафа. «Гиперкастратор инженера Гарина», — из себя еле выжал Ермо, и зашлись, загибаясь от рвущего хохота, все: и Угланов, и Боря, и Бадрик.
А потом он, Угланов, протрясся, отбрыкался, отфыркался и засел за выстраивание схемы трансфузии, обращения денежной крови, длинной, как бычий цепень, и запутанной, как нитяная грибница вспухающего из земли шампиньона.
Шаг 1. Накачать из заводов сколько можно условно-расчетных безналичных рублей. Генералам стальных производств и стройтрестов от этих чернильных миллионов в гроссбухах избавиться было так же легко, как от снега зимой: их никто не хотел брать в уплату за реальные мощности и рабочие руки, все хотели расчета живой, шуршащей наличностью, и живых этих денег у всех было мало, их объемы железно фиксировались свыше; виртуальная масса пустого безнала еженощным кошмаром распирала директорский череп: надо было ее, миллионную прорву, «освоить», год кончается, а триста тысяч еще на счету, и за это — разнос с верхотуры Госплана; увольняли, снижали — за «недорасход». И вот тут и заходит Угланов: не освоили полмиллиона? я вам помогу, подпишите со мной договор на «исследование алгоритма интенсификации нового мышления» — я возьму безналичными. Обналичу за сутки через фонд своей заработной платы и пятнашку живыми рублями вам тогда отсеку.
Он, Угланов, сначала хотел делать вещи реальные — первым делом упал на Могутов: я у вас тут работал, не помните? Вот такой вам не нужен пирометр? Сталевар надевает на морду, как обычные синие очки, как бинокль, и сразу видит температуру в изложнице. И пирометр взяли за 170 000 рублей, а какая бы цифра была в шесть зеленых нулей, предложи он вот этот тепловизор кому-то в Канаде. А потом были индукционные печи, столько жравшие в день киловатт, что дешевле сломать, и они с Ермо снизили потребление в три раза, а потом стало режуще ясно, что если они так продолжат и дальше, с реальным паяльником приближая хотя бы железный — где уж кремниевый? — век, то тогда они непоправимо отстанут, навсегда уйдут вниз, а вокруг будет жир на других нарастать монгольфьерами.
Шаг 2. Стало явственно слышно подземные гул, сотрясение; из проклепанных бронелистов, из решетчатых ферм от вибрации вылезают болты, все уже раскачалось с такой амплитудой, что — рухнет. То и будет, что денег вот этих не будет, бледно-красных червонцев и желтеньких сотен, не станет ни лобастого профиля Ленина, ни земного вот этого шарика, перечеркнутого серп-и-молотом. Им нужны были доллары. Не толкаться же было под навесом сберкассы во Мневниках, не менять по листку содержимое чемоданов вручную, обливаясь мгновенно леденеющим потом, с предвкушением удара в затылок — наползет и накроет сейчас милицейская или бандитская сила, да и времени тупо не хватит: годовой оборот — 115 000 000 рублей, даже без восклицательных знаков, без судорог, как-то быстро привыкли, как рыба к той воде, что она пропускает сквозь жабры, так и жили с Ермо в институтской общаге в своей голой, ободранной комнате и с удобствами на этаже, разве только носились по городу на одной на двоих полыхающей красной «девятке». В общем, надо искать что-то внешнеторговое. Он, Угланов, порыскал бессонной мыслью в железобетонных непролазных, зазубренных дебрях Гос плана и нащупал: ага! Вот лесные хозяйства, рыбпромхозы Камчатки — они за валюту продают свои сейнеры, танкеры крабов японцам, эшелоны ценнейших древесных пород, а вот мазут, и электричество, и бензопилы «дружба» покупают внутри Советского Союза по рублевому безналу. Сгреб в охапку средь ночи Брешковского с Бадриком и — в самолет, на Камчатку, в Хабаровск, и пошли по дирекциям: «Как у вас тут с безналом?» И вожди коренных покоренных народов: «Хреново, все никак не дождемся субсидий от своих министерств. Покупаем народу в Японии шмотки за баксы. Народ вот эти шмотки как-то продает. За рубли, курс выходит — 2-70». — «На хрен надо такое? Мы у вас будем брать этот доллар по пять. Будем за безналичные брать». — «Ну ты сказочник! Кто же даст вам такое — оборачивать, малый, валюту?»
Он, Угланов, — в ряды типографского шрифта новых постановлений правительства: где-то тут должно быть, как воткнуть свою вилку в розетку, продышать полынью для подледного лова. И пробило его электричеством: «разрешается организовывать… в том числе и кредитные организации». Постучаться в Сбербанк с «мы хотим учредить вместе с вами свой банк». Девять месяцев эту дорожку прогрызали в бумагах, в регламентах — учредили коммерческий банк «Революция» и погнали валюту рыболовных хозяйств через собственный счет. Через год на счету — настоящий, тот, который и в Африке навсегда миллион, миллион.
Шаг 3. Ермо рассверлил ему череп: компьютеры. Побежали по всем выезжающим командировочным: привозите компьютеры. Стали брать у них по 30 000 рублей. По НИИ и КБ продавали за 70 000. Только скудный, конечно, очень был ручеек. А хотелось потока, тех, кто может брать тысячи штук, завозить эшелонами. Озирались, и Боря, побегав даже не по Москве — по району, провалился, как в люк, в неприметный такой «Агропромвнешторгсервис», ничего не имеющий общего с рационом воронежских земляных трактористов и тамбовских навозных доярок: там сидели и жили в наступившем для них коммунизме разъевшиеся и покрытые лоском мужчины — дикари, покупавшие лично для себя за бугром, как стеклянные бусы, телевизоры, джинсы, унитазы, хрусталь. Боря въелся и выел «трудовому крестьянству» мозги: две недели вылизывал, гладил, возил по бревенчатым баням, охотам, заказникам, подкладывая мертвые кабаньи туши под сапог и долгоногих проституток — под недолгое сопение покрывающего тела. И под шаманские радения с банным веником и под истерзанные стоны «Борька! Удружил!» учредили вот с этой мразью совместное предприятие «Энигма».
Через год обороты безналичных рублей, леспромхозовских долларов и аграрных компьютеров стали такими, что нельзя не услышать — ДнепроГЭС, Ниагара. Полоснул и разрезал от горла до паха телефонный звонок из Госбанка: это что у вас тут? кто дал право работать с валютой? — Советский закон. Не написано «можно», ну а где же написано тут, что нельзя? Скользкой рыбиной вырвались. На Коньке-горбунке из котла молока. Но котлов было три. Появился сухой и брезгливый гэбэшник Калганов. Очень крупные жвачные парнокопытные, КМС по борьбе, чемпионы по боксу, с поглотившими шею плечами, словно с детства готовились, подкачались насосом к наступлению эры новых викингов, варваров. Позвонил Сильвестр, пригласил пообедать в «Измайловскую». Разговаривал доброжелательно. И смотрел как на узников собственной зверофермы на Тему с Ермо: «Жизнь такая, ребята. Подымаете, знаем, вы очень неслабо — надо как-то того… к пониманию нам с вами прийти. Чтоб спалось вам спокойно. Чтоб спалось не в земле. А не выйдет словами — придется ломами. Под землей, в подвальчике, отсидеться не выйдет. Все равно же ведь выйдете за сигаретами. Мамы ваши — за хлебом. Любимые женщины. По трохами-то как — не успели еще? Так ведь и не успеете».
Надо было решать, под кого — под гэбэшников или под этих, непрерывно смотревших в глаза и готовых пружиной вскочить, отчего в животе холодело и зад примерзал к табурету, как в леднике, и они как-то сразу, инстинктивным движением бесклыких, бескогтистых животных шатнулись в знакомую сторону: люди госбезопасности были рядом всегда, их пасли, вундеркиндов и будущих разработчиков боеголовок и реакторов, с первого курса — никакой паутины и липких касаний, предложений пойти навсегда на паскудство пересказов, «о чем говорили ребята», лишь прямая инструкция для «отличников по недоверию»: если кто-то подъедет к тебе незнакомый с расспросами, что ты хочешь от жизни и что выполняешь для родины, — сразу, будь так любезен, докладную записку в районный отдел. И сейчас показалось: вот с этим безликим и скальпельно точным Калгановым они смогут всегда сговориться по правилам, заключить договор оказания услуг: люди в белых рубашках подъедут и быстро откачают все септики; вся гэбистская псарня сейчас потеряла свой смысл и ищет в запустелой стране себе новых хозяев, мастеров и хозяев вот этого времени.
Он, Угланов, совпал с этой эрой, жизнь его неспроста затолкала вот в эту эпоху, дав ему стать собой настоящим, тем, каким был задуман; целиком это было его, для него, под Угланова время — абсолютной неопределенности и великой ничейности русской земли с ее недрами и ее распыленным на атомы ошалелым народом. И теперь он возьмет вот из этих русских недр и людей в свою собственность все, что захочет, покупая стальные машины и железных людей за консервные банки и стеклянные бусы, словно обожествленный туземцами укротитель небесных собак, обладатель карманного зеркальца и патефона.
3
Больше перед глазами ничего не осталось — последний узор из пупырышков бежевой масляной краски. Ничего не хотел пораженный инсультом обрубок и завидовал деду, которого — сразу, целиком и мгновенно: десять метров до стенки и взорвавшая череп огромная боль. Ну конечно, завидовал с жиру — почти не знакомый с обмочившейся мускульной слабостью парнокопытного, с беспредельной потребностью жить, позабыв холодильные камеры и стояние часами и сутками на одной деревянной ноге в промежутке меж «взяли» и «кончили». И не сдох, не загнулся, конечно, подчиняясь здоровому, жадному телу или, может быть, вложенной цели, на которой держался, как на позвоночнике: обеспечить живучесть и цельность машины, которую выстроил и которой был равен и здесь. И уже, раскаленный и сорванный с приварившего места сиреной Могутова, заломился в стальную, с кормушкой, дверь: дайте сделать звонок его верным, клевретам и купленным, что и как надо делать с «Руссталью», замороженной, вмерзшей во льды… Но бетонный гроб наглухо запаяли снаружи: амбразура работала только на вход, лишь кормушкой, открываясь три раза, чтобы вбросить ему все равно что съестное, блевотное в нержавеющих кружках и мисках советских поездных ресторанов.
Вот что такое смерть для человека дела — отчаянная, обнаженная, неизлечимая незанятость рассудка, лишенного возможности соударения с любой вещью-ценностью, орудовать идеями машин и мощностей и даже узнавать, что с ними происходит и как там изменяется их стоимость во времени. Сесть посреди неумолимо голых стен и отключиться от всего работающего мира. Эталон пустоты, мерзлота, известняковая пещера схимника для покаяния и умерщвления плоти — провалиться в себя и часами смотреть в темноту, пока не различишь какое-то неясное свечение и тени, но он — не схимник, его внутренняя, без подключения к делу пустота, углановская, — страшная.
С соседних трех покрашенных салатовой краской коек перед его приводом явно унесли покойников, и не почуять, где кончается и переходит в воздух скальная порода этих стен, — быть может, в три, в четыре локтя шириной; свет электрический, дневного света, другого нет, нет солнца, не видно небо сквозь бутылочное тучное стекло. Ты тут один, ты даже меньше, чем один. Ты просто мутное пятно на масляной коричневой стене и тишина. Ты — стеклянная емкость песочных часов, в горле которых затвердело время. А потом тебя вдруг опрокидывают. Всегда — когда не ждешь, когда перестаешь. Стальная заслонка кормушки — как в мясо. И, рухнув сердцем, начинаешь быть сначала. И никогда не слышишь подобравшихся шагов: вдоль стального настила по ту сторону склепов проложен резиновый коврик, и вертухай обут в какие-то — резиновые? — тапочки.
Адвокатов ему, разумеется, дали. Одномоментно и в комплекте с холодильником: тюк белужьей икры, пармский окорок, урожай райских кущ, снежно-жирные сливки с элизийских надоев… — все, чего невозможно не дать по СанПиНу для крупного зверя, представителя «форбсовской» расы: чтоб прилично все, чтобы без вони на весь мир про жестокость содержания в неволе и попрание всех человеческих прав и свобод. Захрустели в замковых теснинах железные зубы, отвалилась стальная плита — потерявшего прочность в ногах и ослепшего от огромного света под «куполом» повели по стальному помосту то ли третьего, то ли четвертого яруса над высотным протяжным провалом, рассеченным железными сетками по этажам в дальнозорком расчете на самоубийственный умысел — кинуться: будь хоть центнерной бомбой — сквозь стальные страховки до бетонного дна не добьешь.
Завели в помещение с высокими сводчатыми: там его ждали Тоша и Штоль, долгоносый, изящно худой, облысевший старик с остро-складчатым сохлым лицом и глазами всепонимающего грустного еврея. Как его тут содержат? Пожелания, жалобы, требования? Он сказал: он не чует «Русстали», не решает вопрос по «Русстали» с Кремлем, дайте линию связи; если нет — он, Угланов, истошно начнет голодать… И не жрал двое суток, а потом захотелось со страшной силой, как в молодости — под столом щипать булку на лекциях, запивая фруктовым кефиром, — и еще даже больше: оказалось, не может, не вышел из него протопоп Аввакум… Или кто там отправился в паровозную топку, на примере кого их, пионеров, учили?.. А казалось ему: он железный, за свое, за машину может вынести он и огонь, правда «я», правда «русская сталь» в нем сильнее утробы… И сейчас загибался от близости с пыточным холодильником, полным жратвы: взбунтовались кишки, оживая отдельной сущностью, и крутил себя в жгут, до стеклянного звона в башке, до качавшейся в черепе ртутной, свинцовой, темнотой нажимающей массы, не дававшей подняться с матраса и тянувшей улечься, к земле… И уже как сквозь воду услышал лязг и скрежет замков, поворот своей шконки, как плиты на конвейере, и глазастые бледные пятна, берегущие руки куда-то его повели. Устояв, вырвал руки: он сам — значит, все-таки чуял себя еще он, понимал, оставаясь в хребте неизменным, — и вшатался в какую-то новую, ту же самую будто бы камеру, номер очень такого бюджетного хостела: на застеленных свежей белизной двухъярусных нарах пластались две туши в новых, чистых и вроде недешевых спортивных штанах и борцовках — вот что было тут нового, позвоночные млекопитающие, лишенные того же, что и он; он не сказал «собратья», он — the special one.
Так «они» «там» решили под нажимом упрямого Штоля, повторявшего им: «изоляция», в одиночке держать его — ущемление и «пытки», хотя он «их», Угланов, «просил» не об этом… Неужели сумел он подумать вот это, согласиться на слово «просил»?.. Он просил связь с «Руссталью», с Кремлем, рычаги… И с порога уже отвернулся от дыхания, запахов, глаз этих двух… тех, с которыми будет делить эти… сколько? двенадцать? шестнадцать?.. квадратов пространства; не терпел он вот этого больше всего — всякой формы присутствия рядом чужих, тех, кого он не требовал, не выбирал, человек общежитского, интернатского прошлого, совмещенных кроватей, делимых удобств, и охрану держал при себе лишь для этого — ничего и ни с кем никогда не делить, свое время, пространство, дорогу; свое время и дело делил он с железными, теми, кто его принял и кого выбрал он.
Офицеры охраны с двумя — ну а как же иначе? — просветами на погонах сказали: будут вам адвокаты три часа каждый день, будет вам телевизор, если вы его купите, Би-би-си с Си-эн-эн, извините, не ловятся. И вообще: скоро с вами начнут разговаривать. И Угланов стал жрать — из корытца, сметану, прерываясь и вслушиваясь в жизнь под кожей и ребрами: уж не слишком он жадно? Надо как-то на будущее натаскать свое брюхо, приучиться давить в себе это «набей меня», изнутри разъедающее все его, человекаУгланова, прочности.
Прямо здесь и сейчас надо сделать последнее, что он может еще, и достаточное для того, чтоб «Руссталь» развалилась не сразу, чтоб какое-то время еще продвигалась, жила в соответствии с углановским планом творения, и, пескарь в трехлитровой закатанной банке, он сейчас Тоше вкручивал в мозг: пусть Чугуев и Брайан выходят с официальным под камеры: мы готовы немедленно передать государству наши 44 % «Русстали» под списание всех нам насчитанных и сочиненных долгов, забирайте, владейте с условием, что никакой распродажи прокатных провинций, рудниковых колоний и ГОКов не будет, план творения и оперативное управление — наши. Ну а наша кровь — ваша.
Бросил камень в кремлевское небо — телевизор вываливал только рекламу молодильных кормов и собачьих котлет, выступавший весомо и скромно босой президент то и дело бросал на татами плечистых гигантов, мял скороспелые бока отмытого со щеткой хряка-рекордсмена на образцовой высокотехнологичной свиноферме, перетирал колосья в ласково-признательных ладонях, стоя по пояс в золотых хлебах родного Черноземья, уничтожал словами-градинами, глыбами прожравших целевые средства губернаторов, оделял Интернетом и бальными платьями обратившихся с личной письменной просьбой сирот — никакого Могутова для него показательно, официально не существовало.
СВИДЕТЕЛИ ЗАЩИТЫ
1
Унитаз, телевизор, привинченный стол, холодильник — надо было словами устанавливать «правила пользования», поневоле обмениваясь голосовыми сигналами с «этими»: слово сделало нас, тех далеких клыкастых и когтистых, людьми, как сказал академик И. Павлов.
Этих двух ему явно подбирали в соседи по нарам: Забалуева, мелкую лысолобую гнусь из московского департамента градостроительства, заместителя по освоению пирожных и тортовых территорий столицы с нестираемым штампом «служу москвичам» на замасленных спеленьких губках, и щенка Сашу Щипина, бледнокожего, щуплого «террориста» и «большевика» из лимоновской паствы, засаженного за хранение ржавого нагана и четырех взрывных устройств, собственноручно собранных к началу мировой резни буржуев.
Племенной, здоровей их обоих, Забалуев не спал, не сидел, не стоял, непрерывно вонюче потел, что-то жрал, испражнялся и не мог продристаться от страха, изучал консистенцию, цвет и запах своих выделений, гадая на дерьме и моче, как жрецы Древней Греции по дымящимся жертвенным скотьим потрохам о судьбе; дни его начинались с молитвы об открытии язвы двенадцатиперстной кишки и кончались молитвой о ниспослании маломучительной и несмертельной болезни, вот такой, когда сразу направляют в больницу, под домашний арест из СИЗО и, конечно же, срок назначают условный; в среднем три раза в час замерял портативным жужжащим аппаратом давление, стиснув белую толстую руку липучей манжетой и с надеждой и ужасом вглядываясь в показания дисплея, и, что самое паскудное, не замолкал, вынимая Угланову мозг медицинскими жалобами.
Саша первое время неразъемно молчал, презирая обоих соседних кровососов земли и народа, различавшихся только мощью жвал и размерами брюха, а потом, не стерпев, затянул с верхней койки: «Разве несправедливо, Угланов, то, что вы получили как счет, что пожали сейчас? Только счет этот вам не народ предъявил, а те, с кем вы делиться насосанным не захотели; я бы с вами не так поступил — сразу третью степень дознания: все мешки бы свои развязали в офшорах и в страну по компьютеру и мобильнику слили, самого за Урал, за Байкал… — Задыхался, захлебывался чистотой своих помыслов мальчик со следами недавних гормональных пожаров на бледном тонкокожем безусом лице: несправедливость собственной безлюбости делает мальчиков и девочек неизлечимо, обнаженно восприимчивыми к несправедливости вокруг: я обделен — мир надо переделать. Враг пеленгуется мгновенно — тот, кому „дали“, кого любят, чья закормленность так оскорбительно оплачена твоей обделенностью. — На горбах сталеваров миллиарды свои нацедили. Люди кто для вас? Мусор. Передельный чугун. Отравили весь воздух своими заводскими дымами, углеродом и ртутью, солями металлов. Погубили природу, извели на Урале людей. Запечатали мозг поколению телевизором и упаковкой, и вот вместо того, чтоб вспороть ваше жирное брюхо, поколение вам рукоплещет, вашим яхтам, дворцам, трюфелям как нормальному положению дел. Свою горстку рабочих растлили подачками, чтоб они все молчали, когда вы, Углановы, гнете их собратьев к земле».
— Ты хоть раз в жизни видел — живого сталевара? — отправилон в Сашу с тоской, зная, что попадет, остановит, приварит. — А я с ними мартены ломами ломал…
Саша смолк, онемел и смотрел, не вмещая, на что-то за спиной Угланова: за спиной лились новостные помои, и Угланов крутнулся к тому, что примагнитило щипинский взгляд: там — какая-то площадь Тахрир, хлебный бунт закопченных азиатских рабов, половодье, халва нескончаемых смуглых голов жгущих чучело прежнего бога и звездно-полосатые флаги. Но вот как-то уж слишком, неправдиво тепло по жаре — пригляделся — одеты там люди. И стояли недвижно и немо — валунами, бугристой угловатой каменной кладкой, все — в неярких цветах его родины: основного гранитного и стального холодного серого, голубой растворенной, застиранной сини — ряды прокаленной, литой и самой себе равной завораживающей силы: просто так ее сдвинуть, смести, словно крошки со стола, невозможно. И Угланов почуял — прежде чем выжрал титры по низу экрана — подымавшую и выпрямлявшую огненную, с ним единую, собственную, не предавшую силу своих… И себя самого — настоящим, не могущим быть смолотым в жвалах железным: смерти нет, целиком, моментального и бесследного исчезновения с земли; его личное пламя, которое вдунул в Могутов, не схлопнулось, словно газ на конфорке, в ту минуту, когда привернули, скрутили его, в ту минуту, когда власть железным сказала: никакого Угланова нет, мы пришлем вами править другого; торжество и колючая вода благодарности потекли изнутри и расперли Угланову горло.
В тот же день отрубили ему адвокатов, телевизор не сдох, но пошел роевыми пчелиными волнами, не давая сквозь шорох наведенных помех различить ничего, и на следующий день загремели замки, заскрипели лебедки в залязгавшей лифтовой шахте — и подъем на поверхность, под небо. В нашатырно прохладном приемном покое с вентилятором и панорамной плазмой на еще не просохшей от краски стене ждал знакомый по прежним беседам проводник государевой воли, Константин Константинович или как его там, аналитик-психолог, оснащенный «айпадом» и одетый в «я менеджер по судьбам мира».
— Я смотрю, посвежели, Артем Леонидович. Блеск бойцовский в глазах. — С выражением презрения к зашевелившейся падали: сам же ведь заставляешь нас нажать на тебя до упора, убирая под землю надолго. — Значит, вышел на площадь народ? Встал за правду? Ух, какую картинку вы нам в телевизоре. Солидарность рабочих завода. Просто Мартин вы Лютер какой-то, Лех Валенса от русского бизнеса. Джироламо, блин, Савонарола. Коперник. Это ж какими надо вообще… не знаю… даже не мозгами… одной вот только костью в башке и обладать…
— Ты о чем это, а? — Он хотел посмотреть, охватить, сосчитать, надышаться откровением, видением собственной силы — человечьей, живой.
— На, на, на, насладись… — разрубил Константинов рукой отлично известное им обоим зудящее, нестерпимое, неубиваемое смрадное «это», что начало расти и размножаться почкованием по вине несдохшего Угланова, сцапал пульт со стола, надавил с омерзением и стыдом за всех русских, низколобых, целинных, отмороженно непроницаемых, поджигающих избы свои, уходящих в леса… развернул на экране железное море, и Угланов подался, магнитясь, и жрал: никаких транспарантов на реечных древках, стенгазет, стариковских картонок с «помогите на хлеб» — только хлопало над головами огромное рыжее знамя с треугольной Магнитной горой в шестерне да вдоль первой шеренги железных, полыхая, тянулось полотнище с чем-то белоогромно начертанным, не читаемым в упор по складам, но, как будто услышав его, телекамеры переключились на общий и дали ему все начертание: «УГЛАНОВ! ЗАВОД ЖДЕТ ХОЗЯИНА!» Окончательность мысли железных о нем. Как прокатную полосу, что не износится долго.
Его не было «здесь», он стоял на вершине Магнитной горы и смотрел на кирпичные огнеупорные лица — ландшафты человеческой участи; он не знал поименно их всех, как герои Плутарха солдат своей армии, он не мог различить, опознать в этой массе чьи-то личные неповторимые бугры и обводы, но, царапая лица от левого края до правого, через шаг, через морду срывался в узнавание, как в яму: Скоросько, Бесконвойный, Ермоленко, Горшковозовы, Клюев, Самсоновы, Колотилин, Самойлов, Ершов, Забиякин… инженерная знать и вальцовщики первых разрядов… Создавая стальное дворянство, он платил им на 30 % больше, чем финансистам и лойерам низового и среднего грейдов московского офиса, и сейчас эти лица его окликали и как будто орали опять на него: «Да поди ты и сам посмотри, в рот едрить тебя, умник! Это ж такое может быть, что всех … накроет! Ну а ты людей в цех! Увольняй меня нахрен — не выведу!.. Ну а станина гикнется — чего тогда вообще? Это стану конец, понимаешь ты, стану! Это деталь незаменяемая! Да ты чего?! Как я тебе под клеть полезу при работающем стане?! Снова людьми живыми дырки затыкаешь! Сам к ним иди давай, скажи, куда их посылаешь! Забыл уже, недели не прошло, как трех ребят в конвертерной сварили?!» — И замолкали, разворачивались, выдранные встречным его криком, как из земли, как зубы из гнезда, из своего рабочего «не выйдем» и «не полезем, понял?! невозможно!» «Стан остановим — жрать заводу будет нечего! Я не могу сейчас его остановить! Мне эти десять тысяч тонн нужны, как мама! Да и не мне! Тебе, заводу! Вот договор с китайцами подписан! И им посрать, что у тебя такие шпинделя! Что этот цех стоял полвека без ремонта! На твой металл, наплавленный за годы! Должен уйти состав четвертого, полмиллиона тонн легированной, должен! Или тогда такая неустойка, что лучше всем под кровлю эту встать! Пошел под клеть, пошел! Не останавливай, ты можешь! Ты ж мне блоху под клетью подкуешь на полных оборотах! Ты шпинделя мне подпружинишь на ходу! Давай, старик, давай, я знаю: можешь, бог! Ты ж ведь Чугуев, ну, Чугуев, а не хрен! Вот только в этот раз мне сделай, как прошу! И я тебе тогда стан новенький, с иголочки! Шпинделя тебе новые, муфты! Я тебе все калибры поменяю. Валки тебе титановые — хочешь?! Такие вот, что сносу нет, Семеныч! Такой запас, что внукам твоим хватит. Я привезу тебе их из Германии! Но только дай сперва на них сейчас мне заработать! Да я бы сам с тобой под клеть полез, да только руки — именно, из жопы! Давай, отец, давай, вот я башкой, а ты руками вложимся, нам десять лет, и все у нас тут будет, как в Норвегии, насадим сад и еще сами погуляем в том саду…»
— Прием-прием, Угланов, я Земля. Артем Леонидович, где вы? Устройство издавало позывные, и взорвалась на плазме чернота: тварь надавила с бешенством на кнопку: ну, поцапал глазами и хватит, не нажрешься, тебя не спасет, теперь мы тебе будем включать, что ты будешь смотреть, где и как тебе жить, время «день», время «ночь».
— Ну чему вы вот так улыбаетесь? Ведь для вас это все ничего не меняет. Отношение к вам и без этого… накалено. Дальше некуда. Хотите, чтобы с вас спросили на суде по верхнему пределу? Вы же всегда были такой логичный человек. — И заорал расчетливо: — Что ты уже сидишь, ты это, это понимаешь?! Что ты ближайших пару-тройку чемпионатов мира по футболу будешь смотреть по о-о-очень маленькому телевизору? Вот че ты хочешь?! Чем ты думал, когда свое вот это стадо велел на площадь выгнать, как на бойню?!
— Послал сигнал им ультразвуком вот отсюда, как дельфин? Проблемы ваши, имидж ваш, а я уже сижу, как ты заметил, — как бы по херу. Чего вам надо от меня?
— Чтоб ты пришел к публичному раскаянию, — тварь засадила напрямую, как «чтоб ты сдох», нет времени ни на какие уговоры и приличия. — Чтобы вот это все… — рассек крест-накрест воздух перед телевизором: остановить, убить начавшееся там, что проступает сквозь засвечивающую солнечную муть огнеупорными немыми кладочными лицами; накрыть немедленно свинцовой шапкой-невидимкой, исцелить косметическим лазером этот невозможный нарыв в общем теле российской стабильности, благодарности ста сорока миллионов, осиянных божественной благодатью Кремля: у нас страна безаварийная, у нас такого быть не может никогда. — Чтобы ты вышел к ним, вот этим всем, которые… вот так свое высказывают мнение… и чтоб сказал им через телевизор, что выходить на площадь им не надо, что прикрывать тебя подобным образом не надо. Чтоб ты сказал буквально и конкретно: да, воровал, утаивал налоги. Вдолбить им в мозг, что без тебя завод не остановится. Ну ведь не с Марса же они там — понимают…
И оборвал себя, увязнув в понимании: не понимают, что-то не работает, «там» все его — извечная привычка русской власти выходить к безъязыкому стаду без палки — почему-то вообще не работает. И, не в силах вместить, все они там, в Кремле, приварившись к своим тронным креслам, смотрели на странное, человечески необъяснимое свечение над Уральским хребтом, над Могутовом, бесполезно по много раз вчитываясь в биографию, личное дело Угланова и выпытывающе вглядываясь в неприступно-немые рабочие лики: что же за аномалия такая могутовская? что же с ними там сделалось, сделал с ними за жалких одиннадцать лет своей власти Угланов, что они, сталевары, прокаленные в трех поколениях «классовой» ненавистью, называют его, мироеда, хозяином — как один человек?
— Так, может, ты тогда к ним и пойдешь? И объяснишь, кто вор и кто не вор? — Самого по себе его не существует, но держала его на руках, на плечах несомненно живая, охлажденно-упертая сила железных: вместе с ней он продавит в глотку власти свое — не спасется сам лично, но выплавит из живой этой стали то, что надо ему и под чем русский Кремль не сможет сейчас не прогнуться. — Или чего, придется скорректировать маршруты поездок президента по стране? В обход Могутова, как будто такого города вообще не существует? А ведь его всегда в Могутове так ждали.
— С людьми, с людьми что будет, вот с этими баранами литейными твоими? Уже и так толпа нагрета до предела. Если ее сейчас подкеросинить, это будет такое, что не нужно уже никому! Силовой вариант — вплоть до крови! Ты от страха совсем тут с нарезки сорвался, так хочется в Лондон? А людей, что тебе, крысолову, доверились, — на размен, под катки, под дубинки ОМОНа, и пусть будет что будет, это быдло не жалко.
— Ты попробуй пустить на них этот каток. Это ведь не какието либеральные сявки затявкали — это город стоит и молчит, про который все знают, что там варят сталь. Стопроцентный, кондовый тот самый народ.
— Значит, с сыном решил уже больше не видеться? — Исполняемый ублюдок извлек заготовленное и ударил Угланова спицей в брюшину, в уязвимое место, которое можно нащупать немедленно в каждом, если ты не больной и не схимник, если ты навсегда не один, — засадил, зная, что попадет и проткнет до животного, влажного, кровяного внутри, что не может не взвыть, не рвануться всей силой к отнятому, отсеченному каменной кладкой детенышу. Но Угланов не дрогнул: Ленька в нем болит с ровной, одинаковой силой все время, и вот эти тычки ничего не меняют, не просаживают, не увеличивают.
— Ну ты давай еще пообещай, что ты меня к зверью вот здесь определишь и позаботишься, чтоб мне на зоне самый толстый хер достался. Слушай меня, подгузник: вам по «Русстали» предложение было сделано, официальное, премьеру, в прессе и так далее. Как сделать так, чтобы в моей машине не сломалось ничего. Переозвучивать сейчас не буду. Смысл в том, что банкротства вы делать не будете. Распродавать мою машину по кускам и по ублюдочным приемным семьям вы не будете. Так передай наверх, электролит: что если Кремль принимает эту схему, то тогда я готов все пустить по линии «признание — царица доказательств»: и публично покаюсь, и сделаю все, чтобы люди разошлись по цехам. Ну а нет — значит, будете разговаривать сами. На своем языке. Ты хоть раз в своей жизни общался с живым сталеваром?
2
Выводили во внутренний двор, под слепящее небо. И сгибали, вжимали, засаживали в инкассаторский бронемобиль, несгораемый сейф на колесах, в вертикальный железный пенал, в туалетную, оснащенную стулом кабинку с припекающей темя энергосберегающей лампочкой, и куда-то везли в слепоте, с продолжавшими видеть в транзитной могиле глазами. Заползали в проулок, в заливчик, пришвартовывались аккуратно дверь в дверь, так что не успевали его опалить фотовспышки журналистского стада… Заводили жирафом, бигфутом, наконец-то сошедшим с гималайских вершин на глаза человечества, в нашатырно стерильный, хирургический зал производства правосудия в Святошинском, запускали в аквариум, на скамью подсудимых, отсеченную банковским бронестеклом от теснящихся микрофонов и вспышек. И садился, вставал, говорил в микрофонную змейку, подававшую голос наружу, не понимая, для чего все это — возня в изгрызенной трухе и пушкинские чтения томов — насекомое, ничтожное по сравнению с тем, что уже началось для него.
Судья Мурзилкин мерз за аналоем с пристывшим выражением отрешенности от результатов собственных решений и потаенной, косящей глазами неуверенностью напоминал рекламного страдающего мужа-импотента — то вдруг, подброшенный бесшумным взрывом, вскакивал и убегал на перерыв, словно настигнутый позывом к опорожнению кишки от спекшегося страха… Угланов так упарился в «стакане», что даже больше никого не презирал.
Он думал только о живой плотине из железных, стоящих на его, их общей с Углановым взаимоспаянной свободе, — если какое-то равенство возможно на земле, а не в земле, если какое-то возможно уничтожение разделенности людей, то это равенство только во вложенном в строительство усилии: каждый вкладывается в общую правду созидания чем может, силой умных ли рук, мозгов ли — зная, что, как один человек, переможете и перемелете все чужеродное, что попало камнями и грязью меж стальными валами прокатной машины… и молчание Кремля они тоже смололи: через месяц литого стояния железных на площади — заскрипели лебедки, подымая Угланова на поверхность земли, и сказали ему: предложение принято, быть «Русстали» как целому, на твоих основаниях, вот тебе микрофоны и камера — сдвинь их с места, своих сталеваров.
И, обряженный в черный покойницкий тесный костюм, свежевымытый, выбритый, загримированный, опустился в массивное, вольное кресло и с какой-то сухой колючей водой в нажимных глазах говорил сквозь направленный режущий свет в обожженно-немые, упрямые лица могутовской силы:
— Господа мужики. Вас, я думаю можно вот так называть: господа мужики. Господин — так сложилось в советской и русской истории — это очень такое буржуйское слово. Но на самом ведь деле господин — этот тот, кто умеет и может переделывать жизнь под себя, делать город, в котором родился, и завод, на котором он пашет, сильней и богаче, самого себя делать сильней и богаче. Человек такой знает, что никто за него его жизни не сделает и судьбу его не повернет. И всему, что он выстроил сам, он хозяин. И теперь, когда вы вышли с этой правдой на площадь, с вашим весом считаются все. Вас нельзя не услышать. Потому что, когда остановитесь вы, остановится вся жизнь в стране. Вы делаете эту власть, а не она вас. И сейчас эта власть принимает решение о смене владельца завода. Убирает меня. Уж не знаю, чем я вам так глянулся… я, который десятку из вас точно в морду заехал, Скоросько вон, Пичугину… и гонял вас в три смены шпинделя подпружинивать, и держал на голодном пайке и без света в домах месяцами… все было… но другого директора вы не хотите. И выходите с этим на площадь. Значит, суть дела в чем: что я лично и многие люди в руководстве «Русстали» утаивали от государства часть прибыли. Не платили налоги. Я не буду вдаваться в извилины юридического крючкотворства, все равно прокуроры говорят на своем языке, и нам с вами его не понять. Я буду говорить о главном — о заводе. По факту государство требует от «Русстали» заплатить огроменную сумму налогов. Чтоб ее заплатить, нам придется продавать разным людям на сторону по кускам наши мощности. Рудник тому, разрез другому, шахту третьему. Разобрать и рассыпать все, что мы построили за одиннадцать лет. Все равно что детей своих собственных взять и раздать по приемным семействам. При живых вот родителях, вас. И единственный выход, единственный, чтобы этого не было, — пересилился, выжал, — это будет отдать всю «Руссталь» государству во владение, в собственность. И тогда государство нам спишет все огромные эти долги, и «Руссталь» не покатится вниз и назад по накопленной силе, по прочности. Все, что нужно от вас, — пропустить на завод тех, кого государство пришлет. Я обещаю вам и президент вам это гарантирует, — расчетливо нажал на «президент», окончательность данного слова, приварившего всех к исполнению, — что все техническое руководство останется за старыми спецами. И в правлении останутся люди, которых вы знаете, кость от кости завода. И завод будет жить и расти. Это главное, а остальное — без разницы. Все когда-нибудь ляжем в могилы, и трава на них вырастет. Что касается лично меня. Я, будучи в своем уме и безо всякого давления, заявляю: да, химичил с налогами. Государство имеет законные основания мне предъявить обвинения. Перед вами мне не в чем оправдываться. Про меня вы уже все решили. То, что вы вышли разом на площадь, означает, что Тема Угланов для вас не фуфло. Для меня это главное. То, что вы не забыли меня в тот же день, когда я зашатался и меня стало можно уже не бояться — что кого-то уволю, оставлю без хлеба. Значит, все, что мы делали, было нашей общей правдой. Я вложился не в недра, не в станы, не в домны. Я вложился в людей. Мы с вами показали главное — победили русскую лень и сломали в себе русский страх. Постоянный наш страх перед русским болотом: не шевели его, не тронь и ничего на нем ни в коем случае не строй — все будет только хуже, все отберут, что ты построил, и развалят. Вот биться лбом начнешь — могилу себе выдолбишь. Такая, мол, у нас судьба.
А судьбу эту надо ломать самому. Не смотреть на то, как все хреново и паскудно вокруг, и вот этой разрухой и ленью свою лень оправдывать. И тот, кто это понял, что-то выстроил прочное, как вот этот завод, он уже никогда не вернется в ничтожество. Я все сказал. Спасибо вам за все. — И отключился: сделал все, последнее, без пропусков, дальше железная машина двинется сама — навсегда без него, это смерть, но и еще одно рождение, и кто бы его спрашивал — с неумолимостью выдавливая из… и прожимая, втравливая в зону, в комплектный мир лишения свободы, невыносимый только в первые минуты, лишь при самом вот погружении в него.
ЧУГУННЫЙ ПЕРЕВАЛ
1
Вот оно — то, чего быть не может. Побежав от Натахи, все ж таки опоздал на развод, на короткое самое время, плевок, но вцепились, потащили на вахту составить взыскание, и ему сразу стало понятно зачем, впился в жабры крючок со знакомой силой: Хлябин. За фанерной стенкой горбился над дымящейся кружкой главопер, терпеливый рыбак в камуфляжном бушлате, мастер хитрые снасти плести для подледного лова — на Чугуева поднял дружелюбные теплые глазки, и не собственной волей опустился Валерка на стул перед сильной тварью, приготовившись, зная, что засадит под ребра ему, начинит чем опять его Хлябин.
— Значит, слушай, Валерик, внимательно слушай. Что скажу — вот от этого полностью будет зависеть вся дальнейшая жизнь твоя, вся. Или ты через год к своей бабе пойдешь, или уж тогда в зону пойдешь навсегда. — Превратил глазки в сверла и двинулся по знакомой дорожке в глубь его деревянного мозга. — Звон ты слышал, конечно, — кивнул сквозь окошко на отлично известное всем окружившее зону — все вот эти запретки, канонады-квакушки, что давно никому уже спать не дают. — Понастроили мы тут — «Белый лебедь» и «Черный дельфин». Все непросто, конечно. Очень крупный бобер к нам, Валерик, на днях заезжает. Да и где там бобер? Крокодил, рыбоящер! Ну совсем уж оттуда, — вскинул глазки в надзвездный предел.
Ну конечно, давно уж все поняли, что зайдет к ним в Ишим кто-то очень серьезный, чрезвычайный вообще постоялец… Ждали группу, конечно, террористов каких не на шутку, но вот чтобы один…
— Из него миллион, что ль, вымучивать? — «Вот такой я дур0ак, в голове — только кость, всю рыбалку испорчу тебе, отпусти».
— Под придурка, Валерик? Не надо. — Тварь ему подмигнула блудливо: все, мол, жалкие хитрости вижу твои. — Не налим же, сказал, — рыбоящер. Кто его вот такого мог сюда запихнуть? Да совсем только сильный, совсем. И следить за ним будут — из космоса. И за нами с тобой. И вымучивать будут из него это самое — тоже из космоса. Ну а мы исполнять по нему, что нам скажут. Обвалился на нас… как не знаю… судьба. Не отвертишься, бивень. И тебя, и меня — что не так, — показал насекомое в щепоти, — раздавят.
— Это кто же такой? — клокотнул он неживо, вообще тогда не понимая, для чего нужен он, пробивное устройство, безмозглый колун, чуя только тоску, только детскую слабость ума, как вот в детстве при мысли, что когда-нибудь вырастешь — и придется жить сложной жизнью всех взрослых, с непонятной этой квартплатой, сберегательной кассой, квитками за свет… И всезнающий змий подманил его пальцем на длину языка и, убавив в себе нутряное шипение до минуса, ультразвука вообще, продавил в него, всунул, словно ногу в сапог:
— А Угланов такой, не слыхал?
На него полетела плита, пробивая насквозь этажи; ломовая летящая сила, поездной беспощадно-железный нагон от истока всех чугуевских бед, всей чугуевской дури и мерзости просадил и покрыл эти вот десять лет, и ударил Чугуева в спину, и вынес в то, чего не бывает.
— Это что с тобой, а? Что так трекнулся вдруг? — В глазках твари, рептилии вспыхнули огоньки подозрения, знания, из чего был он собран, Чугуев, в чем сварен, что его, работягу, намагнитило и затащило сюда. — Что, хозяин твой, да? Жизнь твою повернул — за Уральский хребет? Воевать с ним ходил? Бунтовал против барина? И ОМОНом он вас? Ты тогда вот ударил мента своего? Ну так радуйся, что и его завалили, огромного, кто вас гнул до земли и на ваших горбах миллиарды наваривал. Ту же будет баланду из того же бачка, что и ты. Вона как оно все! Справедливость! Или что — оттоптаться теперь захотел? Чтобы он, бывший бог, ощутил, из чего он физически сделан? Ты смотри мне, смотри, бандерлог! Шевельни только пальцем попробуй.
— Так зачем я, при чем?! — трепыхнулся он выдраться из-под судьбы.
— А как раз вот при том, — приварил его Хлябин. — Он же ведь будет в зоне для всех каждый день как магнит. Контингент-то какой. Сталевары, шахтеры. У которых такие, как он, все украли. Про блатных уж молчу. Он еще не зашел, а уже… как сказать-то, не знаю… всем не нравится, в общем. Это ж прямо так и подмывает такого марсианина мордой к параше пригнуть. Посмотреть, а какого там цвета у него потроха. Разобрать чисто из любопытства. Ну и как мне его тут, такого, пасти? Вот один только волос с его головы — и моя голова полетит. Ты что думаешь: мне оно надо? Пас себе тут баранов в ограде, и на тебе вдруг: присылают — слона! Говорят: береги, он из Красной, блин, книги. Для него же отдельную надо зону построить. Он же ведь сюда кум королем, богом, богом в своем самомнении зайдет, всех вокруг презирая и думая, что и здесь мы за ним будем тоже с мигалкой бегать. А побегай из промки в жилуху и обратно за ним с опахалом! Рук не хватит на это, глаз не хватит следить! Он людей-то не видел! Для него «козел» — это еще одно название человека. Ну и будет гумазничать. Обсурлит только так! А народ-то — селитра! Поронут и не спросят! Зверя из Красной книги.
— Это что ж ты меня к нему — телохранителем? — непродышно Чугуеву стало смешно, где-то в нем, как за стенкой, в соседнем помещении для думания, закипел этот хохот.
— Ну вот видишь, — потеплел к нему Хлябин. — А еще дурачком мне прикидывался. Ты же умный мужик. Вообще ни о чем ведь таком не прошу. Строго в рамках закона. Повести себя, как образцовый осужденный. Если что-то такое с ним вдруг, на него кто-то бочку покатит — пресечь. Ну, по матери если кого вдруг обложит, мужиком не того назовет, то да се, бытовые, короче, конфликты. А ты — уши-локаторы и глаза-телескопы. Ты в засаде на случай, если кто вдруг приблуду достанет. Вот всё тихо — и ты тоже ниже травы, только рыпнулся кто на него — и ты рядом! Мы его в твой отряд заведем, самый правильный, чисто мужицкий. И не надо мне тут: ты не справишься, не оправдаешь. Еще как оправдаешь, если выйти отсюда к своей бабе и сыну захочешь. Ты же все эти годы на стреме, наблатыкался, травленный. Ждал удара все время — закамстролить тебя хотели за мента. Из-под ковшика как шеститонного ты увернулся — что же думаешь, милый, не знаю? Ты ж не должен был жить, а вот я тут с тобой живым разговариваю. Ты ж под русскую зону заточен, как агент ноль-нольсемь! Так что делай давай, что сказал. Отработай свои два оставшихся года — и вали к своей бабе, живи!
2
По башке колотили сквозь шконку стальным молотком. Он когда-то любил поезда больше, чем самолеты: те давали увидеть огромность земли — так чеченский Шамиль понял, как он ошибся, затеяв войну с беспредельной Россией. Никогда не давалось ему еще столько свободного времени, и один в своей клетке, в межеумочье плыл, волочился, вмерзал в станционный, состоящий из чистой разлуки и смирения с этой разлукой воздух; воспоминания, как вагоны встречного состава, как вот этот фонарный молочный рассеянный свет наползали, вплывали, текли сквозь него, то неслись с ровным остервенением нагонявшего график курьерского… в совершенно случайном порядке.
То он видел свой собственный бронированный гроб-«мерседес», на тросах подымаемый со дна в длинных космах каких-то заиленных водорослей и тягучих потоках слоистой воды, и чеканно-каленое на любовное бабье загляденье лицо и бараньи, полные восхищения жизнью глаза возмутительно сильного и счастливого Бадри, которого так долго вырезали автогеном из этого утопленного гроба — избитое, поломанное тело с фронтона Парфенона, поросшее густой черной шерстью, наследием примата на античном рельефе дискобола: неужели все это могло так ублюдочно-плево перестать быть живым, чтоб уже никогда ни единой мышцей не откликнуться на мозговой электрический штурм, на пробойную искру любого желания?
То он видел, как будто опять сквозь стекло, отрешенно-измученное, с потерявшими что-то глазами, лицо и отдельно живущие тряские руки судьи по фамилии Мурзилкин — потрогавшего медные начищенные пуговицы на горле, как ошейник, и забубнившего по «папке юбиляра» поздравления, не поднимая застекленных глаз от борозды: «Признать Углановартемалеонитча виновным… и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет… в колонии общего режима».
То он видел согбенного, беспозвоночного Борю Брешковского, что тянулся сиротским побегом к какому-то сильному другу, как к солнцу, обвиваясь лозой вкруг него, и который, бескостный, приказал его все-таки, Тему, убить — за тюменскую нефть, исчисляемую двадцатью миллиардами баррелей… И убил неуемно живучего Бадрика вместо него: многотонную фуру на мосту повело, поперек развернуло, бронированный «мерс» просадил своим носом стальную платформу, и, совместным ударом снеся парапеты, они рухнули сквозь закипевшую воду на топкое дно. Все они: и Ермо, и Угланов, и Боря. Вслед за Бадриком. Общей своей «душой».
То он видел тупое изумление на морде и прорывшую борозду в глине прожженную ногу своего истязателя Цыбы, детдомовского пахана, которому плеснул на ляжку он расплавленным свинцом из припаянной к пальцам консервной жестянки, проварив до кости и почуяв свободу убить, то он видел пустое и гладкое никакое, любое лицо, никакую безлицую голову — как такую налитую белым мутноватым свечением лампочку, и внутри этой лампочки проявлялись сквозь белую гладкость лицевые бугры и морщины всех знакомых людей государственной силы — то поврозь, то все вместе, друг на друга накладываясь и срастаясь в единое неразличимое: президента, Лукьянова, Свечина… вплоть до мелкого гнуса Бесстужего и резцовой коронки, транслятора государевой воли, исполняемого Константинова, и вот этот, последний, отправлял в него, впихивал, досылал до отказа, как кредитную карту в стальной банкомат: «Есть, Артем Леонидович, мнение, что уж слишком вы много на старость себе оставляете. Отдаете „Руссталь“ — хорошо. А все другое, за пределами страны? Один только Луккини Пьомбино. Сталелитейные заводы в Чехии, в Италии. Поместье в Эссексе, недвижимость в Белгравии. Куда ни ткни на карте мира, всюду вы — законспирированный бенефициар. Цифра в девять нулей на счетах в Ватикане у Папы за пазухой. Вы предлагаете нам все это списать в убытки нашей родины? Нет, Артем Леонидович, родина хочет. Вам сколько лет сейчас и сколько вам осталось? До трубки в легких и обоссанных клеенок? Наука нам бессмертия не дала, в ближайшем будущем пока не обещает. Вот этот срок, который мы уже вам, он ведь не последний, он крайний. Вы на второй уже хотите круг? — И орал уже, скот, выпуская холопье свое естество: — Ты ж ведь зоны не видел еще! Ты чо думаешь, а! Там никто не посмеет тебя тронуть руками?! Прокурорский надзор, адвокатская слизь, все права человека для солидных господ высшей расы? Только очень уж это, куда ты поедешь, далеко от Москвы — глухома-а-а-ань! Просто белые пятна и черные дыры за пределами „Гугла“ вообще. Ты про общий режим-то не думай — что там все поголовно за мешок комбикорма сидят, что такие там вот мужички, как соседи по лестничной клетке: майка-треники-пузо-рыбалка-футбол. Очень, очень там разные люди, если можно людьми вообще их назвать. Так что сам закрома все откроешь и взмолишься: все отдам, отпустите! Знаешь, как они сами его называют, режим-то? „Спецлютый“. Значит, можно любое в отношении любого! Ну а мы предоставим отчет всем твоим этим „Хьюмен райт вотч“ — так и так, люди — звери, мы, конечно, накажем виновных. Улыбаешься? Не допускаешь? Отлично. Хочешь я расскажу, чего больше всего ты боишься? Ты вот был всегда занят по полной, сливал, поглощал, ты ворочал потоками, ну а там вот не то что стального завода — даже лобзика, блин, для работы по дереву у тебя там не будет. Только голые стены. И рожи! И ты будешь смотреть в них, как в зеркало. На того, в кого ты превращаешься. Ну не тронет, допустим, руками никто. Все условия, чай-кофе, но зато пустота-а-а-а… Ты же ведь не писатель и не композитор, чтобы было тебе интересно с собой самим. Вот тогда тебе станет действительно страшно. Что угодно, родные, все мешки развяжу, только не полный срок, отпустите. Ну а мы подождем. Это время, оно же — твое. От тебя убывает. Твое неповторимое единственное время. Время жизни без сына. Да без девоклолиток, в конце-то концов, вот пока у тебя еще это работает. Так что думаю, мы к этому разговору вернемся. Через годик-другой. Да и раньше».
Тварь и вправду читала его по складам: он, Угланов, обычный, прозрачный — не готов он отдать, без следа и остатка прожечь свое время. Ленька, Ленька его — невозможность уткнуться в живое тепло меж цыплячьим плечом и разбитой, собранной заново и покрывшейся шерсткой уже головенкой. Вот уже год, как в Леньке нет его, углановского, пламени. Он, Угланов, не видит, не увидит, как сын вырастает и вырастет из оползшей его, отстыкованной жизни совсем — никакого другого у них с Ленькой времени «завтра» не будет; «завтра» вылезут новые мальчики и другие отцы полетят в ощущении: бессмертен — видя и осязая, как маленький сын все надежней, все тверже ступает по предательски скользкой земле и без нужды в твоей поддержке семенит, преследуя невиданных пернатых и кошачьих; как выпал у него молочный первый зуб, как усложнился его маленький словарь, его копилка с брошенным когда-то в нее единственным двусложным «папа-мама», как на коньки он встал в своих доспехах и вот уже с такой хищной статью режет лед, весь ощетиниваясь крошевом в мгновение разворота.
Он и сейчас уже не видит и не знает, с кем подружился его сын за эти месяцы и как много прибавил с тех пор в той своей голенастой, цыплячьей, тонко-жильчатой силе… И летел вместе с Ленькой сейчас, как тогда, над своей уральской гранитной страной, нескончаемым каменным штормом, грядами валунов исполинского роста, чуть подернутых там, сплошь закрашенных здесь голубой и лиловой патиной, изумрудной накипью, ядовитой желтью слоистых лишайников, — раскрутив ради Ленькиных глаз вертолетные лопасти, открывая несметь за несметью градаций холодного, строгого серого, обрываясь, как яблоко с ветки, наполненным сердцем перед вспыхнувшей вдруг во всю ширь окоема прокатанной сталью, неподвижной водой, такой огромной, что уже не понять, чего больше внизу, полированной этой воды или каменной тверди… И все больше воды, отражающей небо и бег облаков: остров в озере, озеро в острове — водяные, гранитные, земляные круги немилосердным предъявлением глазу и рассудку нечеловеческого умысла, творения до нас, без нас и не для нас. И качался сейчас вместе с Ленькой в резиновой лодке на озере, на прозрачном, просвеченном солнцем до дна Тургояке, так что видели сквозь свои тени подплывавших к наживке золотых окуней с ирокезом на спинах, — Ленька умолк, магнитила вода, то, как она все пропускала, проводила в неискаженной первородной чистоте; дань восхищения немого живой водой в глазах его стояла по края… И уже через миг, через вечность верещал его сын на земле, сунув руку к надменной расплюснутой морде издыхающей щуки: из пробитого щучьим компостером пальца, набухая, чернея, выжималась слеза, и Угланов схватил, присосался — чтоб почуять сейчас за зубами тот внезапный соленый железистый вкус, новизну своей крови, ее изначальность. Чтобы сразу почуять: сына он не отдаст, ждать не станет, когда это время пройдет, срок лишения свободы, любви, и они друг для друга станут с Ленькой неузнаваемыми — сразу и навсегда вот на этом огне началось в нем движение — протиснуться к выходу из обнявшей тюрьмы, из сдавившей земли.
Про устройство той жизни, в которую ехал, везли, знал не больше, чем новорожденный на входе. Но знал: там живут тоже люди, жрут их жадность и страх — значит, может он с ними, Угланов, работать, значит, может купить. Зона — это не скотомогильник с сибирской язвой, а тоже непрерывно работает и на вход, и на выход — как домна, просто домна иной, неизвестной пока что конструкции. В каждой домне есть свой iron dam, перевал, отделяет поточный чугун он от шлака, разделяет людей на свободных и мертвых, и вопрос только в том, сквозь какую он летку, Угланов, сольется — сквозь чугунную или сквозь шлаковую.
3
Словно сбросили кровельный лист с высоты десяти этажей. Громыхнуло: Угланов, выйдет из телевизора прямо к ним в зону Угланов, и не то чтобы всех обморозило, нет, — все споткнулось и двинулось дальше точно так же, как шло, но уже в ожидании, что не сегодня, так завтра привезут шапито; поползли, забурлили по баракам базары: это как же он будет тут жить? кем его, олигарха, по понятиям считать, и кем сам он, Угланов, жить в зоне захочет?
— Да парашу пускай канифолит, — одни сразу цвикали отварной слюной сквозь зубы. — Ну вот кто он по жизни? Рвачило. На мужицких горбах в прежней жизни наездился — пусть теперь пошнырит, да вот чуть надави — сам опустится, сам, если только его дубаки всею сворой не будут водить и на цырлах перед ним лебезить: «кушать подано» — ну, тогда уж конечно.
— Да и здесь королем будет жить, — говорили другие. — Вот зайдет — и мы все его, может, вообще не увидим. Что, на промке, что ль, будет горбатиться? Вообще по отдельной проходит статье. Что ему мужики и блатные? И на суд-то — по ящику видели? — в инкассаторском броневике с огоньками возили. И на кладбище тоже с мигалкой поедет.
— Э, хорэ парашулить, философы. Что сейчас-то галдеть ни о чем? — Тут уже и блатные прорезались. — Черт из мутной воды. Вот зайдет — и тогда поглядим. Пусть покажет себя, кто он есть. Сам себе место определит. А пока — посередке, мужиком пусть заходит. Сван сказал: олигарх — не косяк. А вообще на хрен надо подарок такой. Нам под этого шварца и так уж весь грев перекрыли. Ни тебе марафета, ни чифа, ни пряников с шоколадной начинкой. На мобилу глушилки поставили. Шмоны. Вот какую житуху мы через него поимеем. Он еще не зашел, а уже радиация.
Радиация, точно. Он, Чугуев, почуял знакомую тягу, что его волочила куда-то, и своей уже силы в нем не было — упереться, врасти в безопасное место и хотя бы понять: вот куда его тащит? Та же самая тяга, что и дома тогда, как Угланов обрушился на Могутов, на всех, пошатнув, накренив жизнь железных людей, словно палубу, покатив по наклонной и погнав друг на друга людей, как зверей, и тогда он, Чугуев, в слепоте своей думал и верил, дурак: это сам он, Валерка, целиком выбирает дальнейшее, участь, и идет, куда хочет. Может, и не Угланов был хозяином этой магнитящей силы, даже точно не он, точно так же, как все, увлекаемый ею и ей подчиненный, но она приходила, как ветер, всегда вместе с ним, и Угланов ее наводил на других, и опять вот сейчас на Валерку нашлет, и поедет Валерка куда-то и уже не соскочит.
Остальным-то на зоне чего? Ну судили, рядили, набросившись с жадностью, но под этой клокочущей шкурой, пузырями, кипящей водой было в каждом на зоне глухое, неподвижное и равнодушное знание: ничего не изменится, срока точно уж не сократит никому, не приблизит далекую волю, крыльев не опалит, веток не обломает этим метеоритом «Угланов», потому что уже крылья те перебиты, потому что уже сам себе навсегда испохабил ты жизнь, и в другом направлении она, твоя жизнь, от падения Угланова не развернется.
Шапито, зоопарк привезли в последнюю неделю ноября и еще десять суток выдерживали в карантине с этапом, и у всех, марширующих в чернобушлатной колонне, как бы сами собой поворачивались головы и косили глаза на бетонную стену ПКТ, за которой держали небывалого монстра: какой он? что он чует сейчас, менжанулся, дрожит? или ждет, когда выведут в зону, в спокойной уверенности, что никто не посмеет к нему прикоснуться руками? Про других-то блокариков и не думал никто, мелкий мусор, сопутствующий появлению крупного зверя, — двое полуцветных, остальные по серости, вот один только был порешенный с поганой статьей и не просто лохмач, а целкарик, и пока еще вроде сказали, непроткнутый: наказать должна зона, пропустят. Но вот будто и не было этих всех остальных: загремели затворы, захрустели замки, завалились в восьмой их отряд дубаки с белобрысым румяным начотряда-скотом Пустоглотом, прикрутили таблички с какими-то Ф. И. О. и статьями-сроками ко шконкам, как-то вспышкой вдруг потемнело и сделалось тесно в бараке — и, живой, осязаемый, каланчой, распоркой в двухметровом проеме, несуразный, нескладный, застрял и вошел к ним Угланов — в новой черной нетраченой робе с нашитой чистой белой нагрудной биркой, оболваненным коротко, как и все, по стандарту, но другим, отделенным, магнитным куском, обращенным ко всем отжимающим, не подпускающим полюсом; тот же самый, такой же, которому он, Чугуев, влепил той стекляшкой с пяти метров в затылок и закрыть мог вот этот мыслительный глобус тогда насовсем — окажись он поближе к нему, окажись та стекляшка тяжелой, граненой… и сейчас бы его здесь, Угланова, не было, ни бакальской руды, ни застрявшего пальника в устье шпура, по которому бил он, Валерка, кувалдой, ни рекордов по выплавкам первосортной могутовской стали, ни вот этой тюрьмы для Валерки, ни паскудного Хлябина, ничего вообще.
Не вмещавшийся в стены барака Угланов шел как будто бы прямо к нему, на него, никакого Валерки не видя, никого даже не презирая, всех уже заключив для себя в одно целое и как будто бы морщась от засухи, для него наступившего времени постоянства лишения всего, в чем его был, Угланова, смысл: управлять и владеть всей могутовской огненной литьевой и прокатной мощью. Ощущалась тяжелая, неизлечимая пустота вот под этой лобной костью и вот в этих руках, потерявших все кнопки, всех железных людей, проводящих по цепи его волю; вот теперь по его мановению, слову ничего на магнитной земле не подымется и не подвинется — так же сам он, Валерка, долго чувствовал эту пустоту в своих помнящих пику руках и тоску по родному плавильному пламени, и тупой железной скобкой защемляло нутро ему, сердце, когда слышал и видел из зоны он по телевизору, что в Могутове что-то построили, завели без него там, Валерки, небывалые новые мощности, и ведь мог бы вложиться своим существом в эту силу и он. И наверное, вот и поэтому, показалось, Угланов ничего не боялся и всех презирал — потому что все самое страшное с ним уже сделали: не убили, но вырвали смысл из мозгов — обезделили и обессталили.
— Здравствуйте. Я Артем Леонидыч Угланов, — заходили какие-то в нем рычаги, собирая из звуков слова словно на незнакомом и ненужном ему языке, но придется учиться, подавать с неизбежностью что-то наружу. — Это, — дернул рукой со спортивной сумкой, — на общее. Или как это вы называете, на общинное благо, короче, — без сомнения, что кто-то из рук его примет эту сумку с харчами, а если не примет, то ему все равно, и вот точно метнулся за сумкой шнырь Василек. — Я всегда буду класть, когда мне будут в зону закидывать что-то. Брать не брать — ваше дело. Говорить, что я с вами жить буду на равных, не буду, потому что я тот, кто я есть, и пасти меня будут особо. Но вот все-таки воздухом, — без зазрения и страха скривился, — нам дышать тут одним. И кисляк я мандячу, как сказал мне вчера в карантине один, — это не потому, что все люди для меня тут дерьмо, а потому, что мне сам воздух здесь не нравится. Не терплю, когда кто-то говорит мне, как жить, что и когда я должен делать, вплоть до срать. Вот менты говорят. Как и вам. В общем, нам этот воздух делить, все объекты… хм… общего пользования, и хотелось бы как-то без взаимного хамства. Вот и все, что хотелось сказать. Остальное — в процессе сосуществования.
И ведь слушали все, как советское информбюро, Левитана из раструба, — человека, который один выходил на сто тысяч железных в Могутове и на глотку их брал, превращавшихся в слух, и не делась сейчас никуда, не ослабла магнитная сила его: что ему сотня зэков, по всей жизни и так-то почти безъязыких от страха и усилия не совершить никакого проступка, даже слова и взгляда вот лишнего бросить, за которые в крытку менты их посадят или ночью свои же сквозь матрац поронут.
Бросил в тумбочку что-то и разлегся под пальмой, и еще с ним, Углановым, двое зашли: первый самый обычный, Известьев, первоход, но с понятием, похоже, мужик, коренастый, с накопцем такой, молчаливый, вот со 161-й статьей, ювелирку, сказал, засопорил по дурости, но второй вот, второй — этот самый целкарик решенный, белотелый и рыхлый очкарь, от всего, ото всех открепленный: жить недолго совсем человеком осталось ему, он и сам это чуял и с привычностью вздрагивал от любого удара железом и шороха. Здесь оно-то, конечно, в мужицком отряде на такое охотников нет и никто греховодника пальцем не тронет, но блатные, они не промедлят… И конечно, паскудно было всем с этой вздрагивающей кучей соседствовать: ведь свою же девчонку опомоил приемную, ягняша вот совсем, если верить, конечно, — и смотрели все, чтобы об него не зашквариться, от стола его гнали: ушел! твоя миска отдельно! Только вот ведь вся штука: к Угланову льнул, как теленок прям к матке, Вознесенский вот этот, насильник, переполненных рабской надеждой глаз не сводя со стального, большого, что его застоит, не отдаст петушить… И Угланов — как будто не видел осуждения всех: самым легким, привычным, общественнотранспортным, право слово, движением руки прикоснулся к плечу — законтачился с пидором! И не раз и не два сделал то по оплошке и в какой-то глубокой задумчивости — хотя разницы нет, и не скажешь блатному: «нечаянно» — разговаривал с ним, Вознесенским, все время о каких-то московских неведомых стройках, пил чай, придвигал к нему кружку, дозволяя на шконку усесться — свою.
Весь барак онемел: что ж он делает, а? С самых первых шагов подрывает уклад, ставит на уши зону, воровской ему ход не указ. Ведь теперь самого, самого за такое вместе с пидором этим блатные на правило поставить должны. На другого бы сразу прикрикнули: стой! сам козленочком станешь! — а с Углановым все языки прикусили, только вот от него самого уже, на вольтах анархиста, шарахаются: чтобы, шаркая, не зацепил. А тому в их отрядном строю — хоть бы хны. Правофланговым в первой шеренге по росту из локалки в локалку шагает, надо всеми на две головы возвышаясь, жердина: вот и так ото всех был в отряде отдельным, заключенным как будто в невидимый шар своей силы, навсегда ему данного, взятого им мирового значения, веса, а сейчас еще этот косяк осенил его, монстра, еще больше, пугающе выделив из отрядной колонны, и от этого только ему будто лучше, Угланову, — что теперь в умывальник заходит один, что в колонне соседи от него отстают и боятся запачкаться, что везде, где он встанет и сядет со своей ладьей и чаем, начинает вокруг него сразу расти пустота, как проталина, как дыра в простыне под упавшим горящим окурком.
Все и так двуряшились, как маятники, и друг с дружкой лаялись до хрипоты: можно брать из того, что Угланов кидает в отряде на общее, или брать от него западло (а уж там хаванина была — и на воле такой не видали), и шипели одни: что ж, как Шарик, на задние лапы перед ним за кусок колбасы? — а другие: да где тут подачка? так оно испокон — каждый, сколько он хочет, отделяет на общее, отделил не по-гадски — чего ж вам? А сейчас-то уж точно: нельзя ничего из рук пидора брать! И гудит и дрожит напряжением воздух. Так оно-то понятно, чем кончается — с каждым. Но сейчас-то — Угланов: как с ним? Мужикам-то чего — ни при чем, сторона, пусть он сам в своей силе и спеси один перед волчьей мастью козлится, и пускай его, монстра, дубаки берегут. Вот Чугуеву только беда. Протянулась меж ним и Углановым ниточка и продета сквозь ребра, сквозь жабры его, и идет он за ней, этой ниткой незримой, словно бык за своим, через ноздри продетым кольцом: прихватил его Хлябин, закрепил за Углановым лично: каждый шорох лови, каждый выблеск меж зэковских век ножевой… И дрожит в нем вот эта пронизавшая тело струна, и еще тем паскуднее, что никто, кроме Хлябина, этого про Чугуева в зоне не знает: что все время таиться он должен, не глазами, а нюхом, вот самой своей всей зрячей кровью непрерывно любое движение в сторону монстра ловить, человека, которому он с такой дикой силой не хотел поклониться когда-то в Могутове и которому служит сейчас все равно, бережет его рабски, караульной собакой, готовою прыгнуть на каждого, кто занесет на Угланова руку.
И вот мысль в его пустотелой башке — залетев и забившись чугунной мухой: а чего он старается так, трансформаторной будкой ходячей живет каждый день в напряжении? Да пускай поронут его на хрен, Угланова, вообще запичужат! И всему тогда сразу конец, радиации этой, магниту! И чего ему будет, Валерке, за то, что не поймал, проглядел? Хлябин, тварь, ему сделает, как обещал? Вот под землю его новым сроком зароет? Да его самого тогда, Хлябина, выметут с зоны, если только с Углановым что-то случится. И уже никакой над Чугуевым власти у паскуды не станет… Ну конечно, ага! Запустил уже Хлябин в него свое жало, и из этого трупного яда не выбежать.
И еще одна мысль в скворечник: так ведь это Угланов, Угланов все так и задумал — сам на пырло полез, специально с этим пидором вот законтачив и горючую злобу блатных на себя навлекая: вот подколют его, повредят, хоть один волосок только тронут — и немедленно все налетят, «красный плюс» и «права человека» на ранение крупного зверя, и поедет на «скорой» с мигалками в специальную личную зону с бассейном, или, может, в больничку на белые простыни, ну и срок ему сразу, конечно, за такие страдания срежут, как оно для людей высшей расы испокон повелось: с земляными, отребьем девять лет он сидеть не намерен, не будет. Ну а что от такого удара вагонетка с каким-то Валеркой под откос полетит — так Угланов как раньше никакого Валерки в рабочей несмети не видел, так и здесь, в муравьиной кучке зэков, тем более. Как же просто, легко человеку вот этому уничтожить свою несвободу, тюрьму. И, казалось, уже целиком, навсегда в нем, Валерке, прогоревшая злоба — что его понесла на Угланова в той проклятой стекляшке в тот день — полыхнула сейчас в его ребрах: вот и здесь он, Угланов, в ограде сам себе выбирает дальнейшее, несгибаемый, вечный хозяин судьбы, и своей, и Валеркиной, и сейчас вот опять, сам не зная того, он, Угланов, Чугуева тащит, навсегда убирая под землю. И опять вот, опять раскаляющим жжением в руке захотел он, Валерка, ударить — наконец чтоб Угланов почуял, что его можно тоже согнуть, как легко он, Угланов, ломается, как легко просквозить ему глобус, подвести ему дух кулаком прямо в сердце, засадить в него страх, вынимающий все у него из нутра страх животного, бить и бить кулаками сквозь хрипы и хруст, чуя, как разрываются чисто телесные нити, все опоры и уровни в этом устройстве, чуя, что он, Угланов, такой же, сделан так же, из тех же костей, видеть кровь в доказательство, брызнувшие, как арбузные семечки, зубы… даже вот не убить, а чтоб просто почуял окончание силы и жизни своей — всей своей требухой Угланов. На раздаче в столовке подсекли Вознесенского этого, по ходулям погладили сзади пинком — сковырнулся всей своей беззащитной, мягкой, задрожавшей тяжестью вместе с грохотом миски по кафелю и вот так сразу отяжелел, переполненный хлынувшей немощью, словно квелая тряпка горячей водой, что не мог сам подняться из разлившейся лужи шамовки, словно из-под него самого натекло, подрывался, толкался, елозил, слепо шаря по полу слетевшие с носа очки, и безного валился раз за разом назад…
А вокруг приварились все к лавкам, конечно, увлеченные жизненно важным процессом поглощения пищи; дубаки все пристыли по углам, как стоячие утопленники, и вот тут — в протяженной, далеко разносящей все звуки тишине безучастности, напряженного, жадного, потаенно-глумливого как бы внимания всех — безусильно толкнулся из-за своего островного стола и во весь свой уродливый рост распрямился Угланов. И пошел по проходу, не почуяв упругого, злого, никого не пускавшего воздуха, и уже шевелил, тормошил, подымал перед всей волчьей мастью целкарика и все делал с таким выражением лица, что как будто в стоячем общественном транспорте или там на вокзале в проточной толпе поднимал повалившегося: что такое, дед, сердце?! ты меня сейчас слышишь, глухарь?! где лекарство, лекарство твое, валидол?! что ж ты, скот, подождать-то не мог помирать, пока я на своей остановке не вышел?
И уж тут мог почувствовать каждый: сейчас. И Чугуев почуял: сейчас — когда их на помывку, согласно отрядному графику посещения бани, через день повели. Вон они, расписные, в котельный подвал за спиной у ослепших дубаков сквозанули. И вот что ему делать, Валерке?! На всю эту вот Сванову свору за Угланова гавкнуть и пойти молотить кулаками? Вот опять когти из-под ногтей выпускать, и гвоздить, и ломать тех, кого он не хочет, за того, кто ему лично на хрен не нужен? Чуть не взвыл сквозь зубовное сжатие, угодив меж знакомых валков: и недели еще от явления Угланова в зону не минуло, а уже зажевало и тащит его на знакомое место, в мокруху! И вот тут вдруг в предбаннике шмон: по пятеркам вовнутрь впускают, проступил, как в проявочной мутной воде, в опустившихся снежных сиреневых сумерках Хлябин, раздраженноленивый, как слесарь-сантехник в небогатой квартире, — походил между голых белотелых мосластых и спускавших на шмоне портки, поравнялся на дление с Валеркой и впрыснул: «Не вяжись, не вяжись вот сейчас ни во что», — и еще никогда он, Чугуев, с такой облегчающей радостью не вбирал этот гадский голосок, шепоток: расцепились, ослабли на глотке холодные зубы, на огромное это мгновение оставив его на свободе… под потекшей, горячей, заковавшей его, словно в панцирь, в родовую рубашку водой.
А Угланов — сходил нагишом на разбор, тонкорукий, костистый, обтянутый тонкими мышцами, и вернулся таким же, как гусь из воды, не оплавленным, не покоробленным, не разбитым железным куском, ничего в себе не потеряв, ни в ногах, ни под ребрами, разве только подрагивал, как собака, загнавшая крупного зверя, а не как вот дрожат все спасенные и пощаженные. И вошел, как вбежал, под стегавшую воду, с наслаждением смывая, соскребая с себя все то грязное, в чем только что побывал, — вот с такой окончательной освобожденностью, что сразу поняли все: навсегда он, Угланов, с блатными решил свой вопрос, никого петушить и пичужить не будут.
4
Разогнулся, шагнул на ослабших ногах под огромное черное, зазвеневшее женским металлическим голосом небо. Ослепили прожекторы, подхватили мясистые крепкие руки, и расщелиной между живых камуфляжных оград пошагал, побежал к типовому фургону этой «Почты России», чуя, как он ломается посередине в хребте, что-то, тварь, в нем срабатывает, заставляя его семенить в полуприседе, что-то в каждом с рождения, что в тебе отзывается на полыхнувший подгоняющий крик спецконвоя… Значит, в поры каких-то неведомых пращуров, деда вошел и впитался овчарочий лай «коридоров»… И уже засадили, подпихнув с вертухайской сноровкой, в стакан, и свалился напротив конвойный майор: выражение глаз продавщицы сельпо, увидавшей отчетливо, несомненно столичного гостя, — все они на него так смотрели, конвойные.
И приехали быстро, протащили коротким конвейером: «медосмотр», потрошение баула и… вот они, настоящие, обыкновенные зэки. Между серых зернистых козинаковых плит, под затянутым сеткой небом томились стоймя и на корточках шестеро обхудалых и плотных в спортивных костюмах: веки вспухли и отяжелели настолько, что уже не могли шевельнуться, шевелились едва и сползали свинцовые жалюзи на глаза, на пристывшие рыбьи зенки и рачьи шарики, и никто не вклещился в него, не ощупал, продавливая… лишь один сразу впился сквозь стекла в него беспокойно-больными масличными глазками, неправдиво живой среди этих кадавров: непонятно вообще, что его затащило сюда, в наказание за что, от какого линейного ускорителя элементарных частиц оторвали вот этого 35-летнего мальчика, толстякасисадмина с гладким пухлым лицом, в шерстяных, словно связанных бабушкой и натянутых любящей, самой ласковой в мире рукой на ребенка вещах. Заселился и жил в этих преданных, ищущих и впивавшихся в каждого глазках беспредельный, горячечный страх перед «больно», разрывающим «больно» неминуемой дикой расправы, посуленной ему: «за такое с тобой там сделают вот что»…
Громыхнули засовы, и быдло, подчиняясь тому, что уже хорошо изучило, друг за дружкой резво повалило наружу: «Рахимкулов… Джикия… Яровенко… Известьев…» — семенящей пробежкой, как в туалет, провалились один за другим в жестяное нутро автозака; дверь всадили на место, задраили, замахали водиле: пошел!
«Вознесенский… Угланов…» — ну да, повезут его с этим, безвредным. Этот Спасовоздвиженский дернулся, как на страшном физкультурном уроке на спортивный снаряд — пытку всех тюфяков, ощущающих кожей презрение мартышечьи ловкого класса, — и, конечно, споткнулся обо что незримое, оборвался и клюнул откидную ступеньку с виноватым страдальческим взмыком: опять! Спецконвойные туши качнулись к нему и, как будто снимало их здесь телевидение, взбагрили тюфяка за подмышки, заглядывая в лицо, как футболисту сборной после верхового кровавого столкновения с противником… И полез уже сам он, хозяин телевизора, внутрь, в отсек с длинной жесткой скамьей вдоль борта. На скамье уже горбился этот, зажимая салфеткой рассеченную бровь, — кротко-коротко глянул на Угланова спрашивающими, совершенно безумными глазками, и задраили тут их одних, проложенных ничтожной полоской пустоты, но как будто незримым стальным полотном… Зарычал, загудел ровной тягой движок, и они поползли, содрогаясь на рытвинах, повернули, рванули по свободной дороге форсажем… Зябкий голый отсек на ходу прогревался от днища, и уже через полчаса тут у них наступила бензинная Африка.
Заварным студнем стыло, тряслось и качалось молчание, и на полном ходу, в ровном реве мотора он отчетливо слышал непокой и дыхание ближнего парнокопытного — излучение, просительный ток и потребность с Углановым заговорить, и не раз и не два сисадмин, крупно вздрогнув, подавшись к нему, обрывал свое это движение «послушайте!», чуя, что он, Угланов, не станет, не спросит: «что болит у тебя?». Автозак тряхануло как следует и трясло уже безостановочно — волочило на задницах, словно по стиральной доске, молотило, мотало; человека швырнуло к нему — мясом в мясо, влепившимся мягким, упругим, как налитая грелка, плечом — и отбросило сразу, или сам откачнулся.
— Простите! — тем неслышным, не слышащим, слышащим, что его не услышали, голосом, за который всегда не прощают, смотрят сквозь, придавая прозрачность пустоты попросившему. — Обратиться к вам можно? Вы простите, не знаю, как правильно к вам…
Их обоих трясло на ухабах, но у этого щеки подрагивали так, словно он за зубами держал свое сердце, лягушку, нестерпимо болящие глазки вымогали, молили, будто он был, Угланов, у него перед страшным последний… из взрослых, за кого еще можно схватиться… что-то детское, чистое в них, не один только ужас животного.
— Ну а раньше ты как обращался ко всем? — И хотел еще и: «ты откуда?», «где ты жил до тюрьмы?».
— В смысле — к вам, по понятиям. Мне сказали: нельзя, мне нельзя к вам в тюрьме обращаться… прикасаться нельзя ни к кому, — задохнулся в прохватившем его понимании, что Угланов ему как засадит сейчас!
— Чего-чего? — И уже понял все, что-то сразу бодливой, сучковатой корягой всплыло из донных отложений детдомовской памяти — про «обиженных», «пидоров»… и корябнуло, нет, ободрало: значит, вот кого сразу «они» подсадили к нему — чтоб, забрызганный, он подцепил и заехал на зону зашкваренным, чтобы все от него воротились, отбегали, чтоб не заразил!
— Я так больше не выдержу, вы!.. Не смогу прокаженным! Когда все, когда все от тебя убирают свои вещи, тарелки… И это! То, что делают там… — захлебнулся подкатившей к горлу блевотой от представления, — если вы… если там вы со мной… — он кричал распухающим горлом, давился, тридцатипятилетний огромный ребенок, узнавший: там, куда его тащат, живут людоеды.
— Не ори! Кто ты, что — по порядку! — Запустился в башке счетчик Гейгера, как ему самому теперь выскочить вот из этой заразы.
— У… у меня статья сто тридцать два, — не сомневаясь, что Угланов знает шифр. — Я не могу об этом даже говорить. За изнасилование… д-д-дочери, — сказал нутром, натужившись на схватках и разродившись уточнением, которое он вообще, Угланов, не воспринял. — Семь лет ребенку, семь! Она, Дианка, ну… я не ее биологический отец, но она моя дочь, понимаешь, моя! Не как дочь, а моя! Как я мог?! Вот каким это органом, местом физически?! Это ж даже не Волга впадает в Каспийское море, это суть, естество человека! И вот это мне им приходилось доказывать: я человек! не могло, быть не может! Это мой, мой ребенок, она — моя жизнь! Вот Дианка моя и жена. Она у меня — первая, одна и навсегда! Я ж даже не поверил собственному счастью! Когда я ее встретил, мне даже стало страшно. Что мне это дается, жизнь дает мне ее, вот такую, какую я давно не надеялся встретить. И все у нас, как надо. Как у моих родителей, как у ее родителей. Дианка вот сразу ко мне потянулась… — в нем захрюкали клапаны, ринулась и по горло его затопила вода. Высоко перешагивая слезы, потащил вброд историю жизни своей, наступающей смерти, которая официально оформится завтра. — Легли в больницу прошлой… то есть этой зимой, — заключил он жену и ребенка в привычное прошлое «мы», как в какой-то сияющий шар. — Очень больно глотать, температура ночью вдруг — тридцать девять и восемь, мы на «скорой» в больницу, забили тревогу. Ну а потом в больнице нам анализы. Сперматозоиды в моче. — И передернулся от омерзения бездонного, как в миг плевка в священное их «мы», в тот самый шар сияющего счастья, внутри которого соединяются их руки и перепуганные губы приникают к исцелованному лобику самым надежным в мире градусником с кровью вместо ртути. — Нам не сказали ничего, родителям, — зачем?! Зато вот сразу сообщили куда надо! Сразу меня, меня и заподозрили! Ну кто еще-то, правильно? Отец! И началось, поехало все дальше, как снежный ком с горы, уже не остановишь. Явились следователь, тетки из опеки. Все осмотреть, Дианкины игрушки. У нас была корзина для белья — вот всю ее изъяли. Ходит девочка в садик? Какие взрослые мужчины могут находиться в вашем доме? Ну, значит, папа! Отчим?! Так тем более! Мне как сказали, я мгновенно отключился вообще, куда-то шел, куда меня повесткой, и ничего вокруг не узнавал: все то же самое вокруг, двор, где я вырос, но я не знал уже, как это называется, забыл слова, названия вещей. Я думал, что это дичайшая, невероятная ошибка, такая глупая, что это скоро все поймут, всё прекратится это, остановится… Ну ведь могли же они там, в лаборатории, что-то перепутать, все эти баночки, пипетки свои, скляночки… чье-то еще взять по ошибке, не Дианкино… ну, там, не знаю, мальчика-подростка… и вместе с этим страх все время — что кто-то мог с Дианкой это сделать… Это в чьи же мы отдали руки в больнице ее?.. Уж мы и так ее, и сяк, чтоб рассказала, — и ничего, таращит свои глазки, обыкновенная, веселая, такая же! Да если б было что, да разве б мы в своем ребенке не увидели?! Да и врачи потом смотрели девочку… ну, там… и никаких там повреждений, все, свобода! Это огромнейшее было для нас с Маринкой освобождение от страха, что кто-то что-то мог с ребенком в самом деле! И все равно мне предъявляют обвинение! Это потом уже в развратных только действиях. Постельное белье смотрели. Сто повторных анализов — там какие-то смывы, соскобы со всех наших трусиков — чисто! Да только следствие уперлось в самый первый тот роковой анализ сумасшедший! И экспертизы, экспертизы нам еще! И главное, вся эта мерзость на ребенка выливается! Они ж ведь за Дианку принялись! Работа с психологом! Вот где, я вам скажу, извращенцы-то истинные! Вопросы: папа тебя трогал? трогал тебя за попу или нет? на колени сажал? целовал? Нет, блин, в скафандре космонавта должен папа! Вы хоть раз в жизни видели вообще — живого ребенка?! Который сам к тебе на шею: папка, на верблюде! И «пыс-пыс-пыс» мы делали в кустах, и сколько раз трусы меняли. Это ж ведь жизнь живая — это понимаете?! И Угланов почуял удар, мягкой легкой детской тяжестью в грудь: возвратился, влепился подброшенный Ленька — и мужик этот вот точно так же подбрасывал и за попу подсаживал девочку на надежную нижнюю ветку, чтоб она дотянулась до медовых светящихся яблок под солнцем.
— Ну а потом они заставили Дианку рисовать, ну и она нарисовала — Мурлехрюнделя. Психологичка эта посмотрела и там такие признаки в зверюшке обнаружила, что однозначно вот ребенок подвергался… Пускай сама врачу покажется сначала! И на детекторе вопросы эти все — да ну меня на полиграфе просто колотило. Мы заплатили официально двести тысяч через кассу, а полиграф нам этот: вы дайте мне вот лично еще триста, чтоб на какой-то вас другой аппаратуре, без погрешностей.
— Ну так и дал бы.
— Дал! Но только нам сказали: поздно. Жене в глаза наш следователь: поздно!.. — Сказал: раз мы уже вот это дело возбудили, то вот такие педофильские дела у нас уже закрыты быть не могут. Что если им теперь признать, что облажались, тогда их всех в прокуратуре снизят сверху донизу. Что ты уже по всем телеканалам педофил, так что ищи для дочки нового отца, а этот твой, он сядет полюбому и назад человеком уже не вернется.
Угланов засадил без жалости в захрюкавшую гору, бил — чтобы почувствовать свою отдельность от него, себя — другим, единственным, стальным, бил — чтоб не чувствовать рванувшийся меж ребер и пробирающий обоих их сквозняк, ток одинаковой, одной и той же боли, уничтожения, немощи, потери… и закричал в закрывшие лицо, словно пробоину в обшивке, эти пухлые трясущиеся руки:
— Предлагали тебе порешать? Говорили жене, собирала чтоб деньги? Ты кто вообще такой?! Работал кем, работал?!
— Я… архитектор… был, — закашлялся тот пылью над руинами жизнестроительного плана: затевалось на годы, как будут строиться дома, распределяться действующие силы и нагрузки по незыблемым фермам и радугам арок, но пришли взрывники с капитанскими звездами и лиловой заразой гербовых штампов — и как же это было на него, на все его, Угланова, похоже — скелеты прожитых конвертерных цехов и железное эхо рекордов по выплавкам небывало живучих могутовских марок.
— Архитектором где? Что решал ты такое? Что и где ты построил?
— Да какое значение теперь?.. — В самом деле: зачем? все одно уж теперь зажевало и тащит. И с какой-то детской гордостью и мольбой: «я хороший!»: — Ну, я много успел. «Дельфос-Плаза», «Грюнвальд», это наши проекты, на Заречном, на Сретенке…
— Как вас зовут?.. Вадим. Артем. — Он разглядывал жирное, как бы вовсе бескостное тело: ничего, что бы сразу не чвакнуло и смогло упереться, — понимая, что он приварился, Угланов, к этой мускульной слабости, участи, что так просто уже, наступив сапогом на макушку, продавить эту тушу под лед, отпихнуть от себя у него не получится. — Значит, слушай меня. На конвой я нажму вот сейчас, чтоб тебя поселили по первости не со зверьем. А потом тебя вызовет кто-то из начальства колонии, станет спрашивать: что ты умеешь, кем хочешь служить? Скажешь: ты инженер, можешь строить, и просись на такую вот должность, не в барак, а в отдельную будку, говори, строил дачи, коттеджи, Пугачевой, Киркорову, вот и им будешь строить бесплатно. Ну а дальше посмотрим. Напрягу свои «хьюман райт вотч». В телевизоре снова покажем тебя, дочь твою, чтоб сказала, что она тебя любит и хочет, чтобы ты к ней вернулся домой. — Это не было жалостью. Ни плохим ни хорошим он, стальной архитектор, машинист, быть не может. Ощущение собственной правды в другом человеке — вот что это было.
ЧТО-ТО ОТ ЧЕЛОВЕКА
1
Арматурные прутья, засовы, магниты. Трафаретные надписи на засиженных гнусом плафонах: «больше трех человек не входить». Завели в «смотровую» на прозекторский свет. Камуфляжные туши, караульные жертвы служебного собаководства подступили к нему вчетвером со знакомым уже выражением стыдящейся нищих прилавков, жадноглазо-обиженной продавщицы сельпо, но и зримо прямясь, вырастая, наконечником силы, приказавшей Угланова сделать таким же, зажимаемым с той же режимной мерой жестокости, наделяемым теми же граммами пайки и квадратными метрами на человека, что и все земляные, черноробные люди-обсевки с трафаретными бирками «за разбой», «за грабеж» и т. д.
— Заключенный, представьтесь. Убор головной свой снимите.
— Осужденный Угланов, — сдернув шапку без всяких, поискал основного, в чьи уши всадить. — Гражданин майор, я хочу сделать сейчас заявление. Тут со мной поступает в ваше распоряжение гражданин Вознесенский. Человек по поганой статье. Вы хотите, чтоб он прямо здесь и сейчас окочурился? Человек с больным сердцем, дохляк, истеричная личность, — не давая опомниться — в эти словно зажегшиеся новым светом глаза, под обрезанный лоб, козырек камуфляжного кепи. — Я, конечно, не врач, но вы сами смотрите: он страха почти что уже неживой. И сейчас его в камеру с кем-то засунуть, ну с такими, конкретными — он и шуточек даже в свой адрес не выдержит. Так что я настоятельно вас попрошу, — все никак не давалось ему без усилия это вот слово: «прошу», — обеспечить защиту. Изолировать от нежелательных всяких соседей. А то ведь если что, это так завоняет. Понимаете ведь, что колония под микроскопом. Ну а тут только новый этап — и такое. Кому это надо? Я совсем не хочу вам указывать, что и как вам тут делать, но, наверное, все-таки как-то не надо доводить до такого. Чтобы сдох человек. В этом случае я не намерен молчать.
— Доведенную вами информацию принял, гражданин заключенный. — Силовое устройство наконец распознало купюру и ответило водопроводным сливным обрушением и клокотом.
— Я хотел бы и письменно сделать сейчас заявление насчет гражданина. На имя непосредственно начальника колонии. Чтобы все строго в рамках законности. Мы же ведь уважаем закон?.. Что испытывал он? Возбуждение в железнодорожном студеном будоражащем воздухе нового, незнакомого города и уже одновременно с этим какое-то вялое безразличие привычки, растворение в том, что давно началось для него, и уже не потряхивало от телесных контактов с уродами: заголиться, нагнуться, раздвинуть, присесть. Давно уже известная столетняя рептилия в прозекторских перчатках и халате диктовала под запись родимые пятна и отсутствие татуировок на коже, прямо здесь и сейчас, показалось, меняется кожа: «Сдаем, сдаем одежду, до голых мест снимаем все, друг друга не стесняемся. Двойные носки? Двойные забираем, не положено».
По ступенькам в подвал — Вознесенский тащился за ним, всею шкурой дрожа, что отцепят. В банно-прачечной мгле среди кафельных стен разбирали мочалки и шайки, терлись лыком с кусками дегтярного мыла скользким блеском облитые спины и плечи этапа: купола и кресты, подключичные звезды, зверинец, только у одного эпидерма была совершенно чиста от чернильной проказы. Их никто не заметил, вошедших, — умели не заметить они, лишь один мощногрудый, распираемый мускульным мясом урод, приварившийся к лавке, наставил на него видовые, полорогие бычьи лупастые зенки — не участки чувствительной слизи, а еще один мускул, исполнительный орган такой — и смотрел тяжелее все и тяжелее, широко разбросав заклейменные звездами глыбыколени и не скрыв, выставляя приметный свой хобот, уже будто бы полунапрягшийся и готовый немедленно вздыбиться в боевую таранную лупоглазую стойку.
— А здороваться надо? Когда к людям заходишь? — как-то вот без угрозы, показалось, совсем: натаскали его, что ль, менты, чтоб не гавкал? — Или что, западло, олигарх?.. Глянь, бродяги, с кем мы жопа к жопе! Угланов! Вот тот самый владелец заводов! А скажи-ка ты нам, олигарх, кем на зоне-то думаешь жить? Погасить это мясо — и нечем! Неужели он должен, железный, с порога учитывать, отзываться вот этому даже скоту?
— Так зайду, и братва разберет, — это кинуть ему вот сейчас, и довольно, мелочь он, шелупонь, попадет на серьезного вроде деда Гурама — так со шкурой сразу эполеты все эти отпорют, и как будто еще кто-то здесь точно так же подумал, в чьем-то кашле послышалось то же презрение к быдлу.
— Это правильно ты, — с непонятным удовлетворением. — Оба-на, пидорок… — Вознесенского, быдло, приметил: сисадмин осязаемо дрогнул и осел животом, как на бойне, вжавшись в угол и впившись в мочалку, в сберегаемый, как драгоценное самое, пах. — Олигарх, ты смотри, прям к тебе так и липнет. Ты его часом — нет? Пока ехали, а? Или он тебе сделал? С заглотом? А чего? Он для этого к нам и заходит. Чё ты влез сюда, солнышко? Что, не терпится, да? Так давай я тебя прямо здесь отфоршмачу. Чё, не поэл?! Сюда иди, взял! Принимай, что положено, за щеку!
И волной от ног, живота Вознесенского перекинулась дрожь на Угланова: обессиливающе захолодело в паху, все, что ниже спины, вмуровалось в неподъемно-бетонную мерзлую тяжесть, и в разрыв с нутряной низовой этой немочью — раскаляющим жжением в руке — он почуял потребность ударить, размозжить эту гнусь, кусок мяса, в той своей великанской, стальной, нагибающей все «Арселоры» и «Митталы» на планете руке.
— Ты бы чавку захлопнул свою, — приказным ровным голосом обыкновенным, а в руке ничего не осталось, обессталел и нечем убить… и смотрел — продавить! — глыбе мускулов прямо в глаза, и не мог сделать собственный взгляд и слова ломовыми, тяжелыми даже в своем ощущении, навсегда вот отсюда, с порога, оставшись только с тем, что под кожею, что в нем самом, только с тем, с чем родился и с чем сбросят в яму. — Дубиналом по яйцам, смотрю, захотел? Рыпнись только, дебил! По углам посмотри! Чё ты видишь? Ничё? А они тебя видят, менты, как в реалити-шоу «Дом два». Или думаешь: Угол вот здесь, а менты там ослепли? Так попробуй, попробуй. Самого вот сейчас переделают в девочку. — Бил вот в эту мясную, бетонную гору, корчась от омерзения к себе: никогда еще не выступал он так дешево, так шакальи хвастливо прячась мелким дрожащим зверьком за хозяйский сапог, за облезлых шерханов камуфляжной раскраски… Ну а что еще мог он сейчас?
Не сорвался, не смял, только вглядывался звероподобно в молчании, разрывая в Угланове что-то свирепеющим взглядом, угрожая сорваться всем своим «больше тонны не класть», но забил ему в череп Угланов, похоже, пару мерзлых гвоздей, прихватив его намертво к лавке.
— Ты ничё не попутал сейчас? — с угрожающей расстановкой. — Ты сейчас на земле, понял ты?! Тут все это твое, на земле, не влияет. Здесь с тебя может каждый за слово спросить. И зашкварился, Угол, сейчас ты по полной! На кого сейчас тянешь? На меня, Витю Ярого?! Ты на весь уклад жизни людей потянул, когда голос сейчас свой за пидора поднял! Не всекаешь, что этот пидор — решенный?! По-любому проткнет его зона! И тебя заодно вместе с ним!
— А тебя, Ярый, как? За такое?
— Какое?!
— А за то, что его прямо здесь вот собрался. Это кто так решил? Это ты так решил? Ну а кто ты тут есть? Ты сюда от братвы за порядком следить, что ль, поставлен? Кто ты есть вообще? Я тебя, например, вот не знаю, про такого вот вора не слышал. А с людьми я общался. С Сашей Курским, с Захаром, со старым Шакро. Да уйди ты отсюда уже! — рявкнул за спину на Вознесенского — как на слабую, стыдную часть себя самого, от себя отдирая ее, чтобы не поглотила его целиком, затопив его заячьей, травоядной дрожью. — Пошел на выход быстро! К ментам беги, к ментам! — и, опять глядя твари в глаза, нажимая в ответную: — Даже я, человек без понятия, понимаю: решить должны люди. Сходняк.
— Да чего тут решать?! Все пробито давно! Курку, курку свою зафилярил родную.
— Так чего же еще на этапе его не поправили? Значит, было сомнение у людей, кто он есть и кем жить ему тут? Ну а ты, значит, взял и решил? И спросить люди могут за такое — с тебя! А с меня спросит кто за него, так я всем обосную: и кто он такой, и чего я творю.
И закончилось все, так и не полыхнув. Все возились безлико, безгласно и мляво, избитые долгой дорогой, но конечно же пеленговали, вбирали — выходя из подвала, споткнулся взглядом на мужике: никакой, стертолицый, каких тьма на черкизовском рынке с борсетками и напузными сумками с выручкой, и мужик сразу спрятал глаза: «я — пятно на стене, знаю место», но само выражение глаз, краткий выблеск: место сразу угадывается по тому, как глядит человек, — не усилие страшно глазами нажать, как горилла по фамилии Ярый, а ни в чем показном не нуждавшаяся, в дополнительной, дыбом поставленной шерсти, способность задавить и сломать… а еще он все видел, вот этот мужик, охлажденно, прозрачно, рентгеновски все понимал: сколько весит Угланов, и какой будет отзвук, вибрация, трещины от углановских первых по зоне шагов, и, наверное, даже что Угланов задумал на ближайшие дни, и недели, и месяцы… Интересный мужик — или ты никакой не «мужик»? Ни презрения, ни одобрения, ни страха в глазах его не было — для него все углановское, все, что сделал Угланов сейчас, не имело значения. Пропускать сквозь себя взгляды всех, как сквозь воздух, пустое, не отражаться в полированных поверхностях и при этом вполглаза, вполуха, в экономном режиме все видеть и слышать — вот что он выбрал сам, вот каким он хотел быть на зоне сейчас, этот «псевдомужик».
У двери душевой напряженно томились охранные туши: вот и вправду бы тотчас рванулись на крик и на грохот падения, ударов, застояли, спасли… Покривился опять от презрения к себе. На поверхности выдали черные робы, майки-алкоголички, трусы, круглоносые боты из черного кожзаменителя — все, похоже, действительно новое, но пропахшее мерзостью пайки, казенщины, гуталином и хлоркой, войной с мышами. Расписался за новую кожу свою в разлинованной ведомости и услышал: Известьев, фамилия «мужика» оказалась Известьев.
2
Спустя двое пустых, убиваемых чтением суток — в общей камере с этим Известьевым, Вознесенским, Джикией — разрубающе грохнула сталью кормушка. Вознесенский, отхваченный грохотом от спасительно сильного «друга», потянулся губами, лицом за шагнувшим на выход Углановым; повели, дали воздух и небо, праздник легким, костям, ничего не успел он увидеть: дислокации, плана, устройства — лишь заборные прутья и сетки притравочной станции. Сразу — под козырек двухэтажного белокирпичного здания: здесь засели хозяева зэковских судеб, но не собственной участи. Завели в кабинет: за хозяйским столом строго пучил налимьи глаза подкопченный кабан в распираемой плановым жировым накоплением рубашке с погонами, генеральный директор ФГУП «ИК „Колокольчик“», полковник, и приметно страдал, пораженный болезнью «Угланов»: все его повседневное, что привычно текло, остановлено, потому что прислали к нему вот сюда государева вора, контейнер со значком «радиация», основной фактор риска для сердечно-сосудистой — на дальнейшие девять огромных и медленных лет!
— Заключенный, представьтесь.
Еле он удержался от «Усама бен Ладен» — отчеканил по форме. Разрешили присесть. Тут же рядом за столиком «для посетителей» — явный командировочный, присланный от заветных трех букв, ФСБ, с ровной полуулыбкой принадлежности к силе; в уголке притулился, сцепив пальцы лесенкой, третий — лысолобый, неясный, с майорскими звездами.
— Значит, так мы, Артем Леонидович, с вами решим предварительно. Согласно распорядка, согласно распорядка… Как время карантина ваше выйдет, поступите в отряд, отряд, можно сказать, примерный, образцовый, но я вас все равно предупреждаю, чтоб не было потом эксцессов и претензий: в отношении ко всем заключенным попрошу проявлять вас предельную вежливость. Никакого вот этого вашего… высокомерия, а то эти ведь тоже не мальчики-зайчики, и на всякое резкое слово реакция может быть очень острая. Теперь касательно трудоустройства… Вы хотите под крышей в отряде сидеть или как-то вот все-таки потрудиться желаете? Вы какой специальностью, таксать, владеете?
— Человек управляющий. Я хотел бы у вас все возглавить.
— Чего?! — Жбанов потяжелел от усилия выправить заревевший, вошедший в крутое пике истребитель — нарастала, как в линзе, с погибельным воем земля.
— Ну, чего у вас есть? Швейный цех, лесопилка, метизы, подшипники? Вот все это хозяйство у вас и возглавить. Сколько у вас голов бесплатной рабской силы? Триста, четыреста, сколько? Прямое субсидирование из федерального бюджета — за освоение только надо отчитаться. Это ж ведь золотая модель. Никакому Китаю не снилась. Мне б на воле такую модель — тысяч десять таких вот бесплатных зэков — я сейчас бы вообще был уже на Луне. Дайте мне производство и всю бухгалтерию — и я вас тупо в лидеры области выведу за то время, пока буду срок отбывать. Среди малых и средних предприятий Сибири.
— Вы это что?! — Водопроводным подыхающим сипением врезал Жбанов и закричал, поозиравшись по сторонам собачьими рывками: «вы это слышали?! не только я один?» — Да ты ж за это и сидишь! — И на московского командировочного: «правильно?» — словно в единственно доступную ему отдушину в кремлевское надзвездное «туда», где про Угланова, про всех решают всё. — Куда, какую бухгалтерию? Вам не положены хозяйственные должности! Мы вам, Угланов, предлагаем работу по благоустройству территории и настоятельно рекомендуем не отказываться.
— То есть в петухи меня определить вам показалось как-то мало — надо еще и через швабру протащить. Чтобы уже наверняка, по всем параметрам всей вашей публике на зоне показать: вот кем я был и кем я стал. Сделать меня неприкасаемым и сексуально притягательным для озабоченных ублюдков. И после этого меня же оградить от этих домогательств — изолировав в помещении камерного типа. Я ничего не пропустил? — читал по редким крупным буквам их мозги: как они просто все сцепили и покатили на него вот эти бочки септиков, чтобы его, Угланова, согнуть.
— Да что вы нам?.. Какие петухи?! — взорвался паровозным пыханьем полковник. — Вы нам, Угланов, тут не выворачивайте! Ишь ты, нашелся тут: на швабру он не хочет! Все тут, в колонии, осужденные — мусор, а он один такой тут господин. Мешок зерна украл с телеги — это одно, выходит, отношение, а миллиарды если воровал, тогда пылинки тут с него сдувай. Так не пойдет! О каком наказании тогда речь вообще? Вы тут находитесь на общих основаниях, Угланов! И отношение к вам здесь будет, как ко всем! Если ты вор — обязан выполнять! Значит, согласно распорядка и уголовно-исполнительного кодекса, статья сто шестая, администрация колонии имеет это право — всех заключенных абсолютно привлекать и привлекает их в порядке очередности к уборке территории. И значит, в случае отказа от работы мы будем вправе вам назначить наказание. Трое суток штрафного изолятора будет. А в случае повторного отказа — по верхнему пределу, до пятнадцати! — У меня аллергия. Жесточайшая форма.
— На что?
— На метлу. На половую тряпку и другие знаки высокого достоинства на зоне.
— Что там у вас по состоянию здоровья — это решат сотрудники санчасти, — даже без сладострастия врезал, урод: ты пошути еще мне, пошути! ты у меня теперь всегда будешь здоров, как космонавт! — Я смотрю, чуть чего — сразу сердце у них! Сразу язва у них! И откуда вот только берется? Видно, плохо на воле питались. С трюфелей вот такая изжога.
— А ваш повар готовит осьминога на гриле?
— Посещение ларька — по отрядному графику, — поматросовски жертвенно стиснув губы над целью, сбросил авиабомбу полковник. — Больше ста рублей в день тратить с личного счета заключенному не полагается.
— Вообще не смешно ведь, Артем Леонидович. — Столичный аудитор умаялся терпеть и бросил через стол с подчеркнутой ноткой сострадания: — Давайте говорить по существу. Что сейчас вы конкретно хотите? Что сделать для вас? — С проникновенно-подчиненной издевательской дрожью: — Чтобы вы не устроили нам опять голодовку для читателей и телезрителей.
— Вознесенский Вадим Алексеевич, — надо с этим решить навсегда, с этим взрослым подкидышем, что к нему припаялся и делает уязвимым его самого. — Человек с петушиным клеймом. Обеспечьте защиту ему. Не бла-бла, а дубинкой, решеткой, стеной. Вот его в ПКТ посадите.
— Это тот, педофил, что ль, который? — покривился на новый источник заражения Жбанов, как будто не знал. — Оградить и пресечь — это наша обязанность, но… что же, мне раскладушку рядом с ним теперь ставить в бараке? У меня тут вам не это самое, не Алькатрас. У меня тут один контролер на полсотни голов. Что молчишь, безопасность? Скажи! — зыркнул на непроявленно-мутного рисовальщика галочек и кружочков в блокноте — подчиненно тот вскинул заболевшие глазки и, приметно страдая в направленном свете «отвечать у доски у нас будет…», загундел неуверенно и несвободно, выдавая сомнительное для себя самого, но уж если спросили, он скажет, кочегар, сход-развал, руки в масле:
— Тут один вариант: сразу — в сучий барак. — Вот каких-то четыре пипеточных капли — и решение вопроса. — Если сам заключенный не против…
— Да не против, не против, — сразу вклинил стамеску он в щель. — Человек — архитектор, проектировал целые микрорайоны в Москве. Где еще вы такого возьмете? Все подземные коммуникации по линейке прочертит, как надо. Неужели какой-нибудь конуры для него два на два не найдется? Чтобы тупо на ключ изнутри запиралась? — И посматривал в ровные, стертые глазки майора теперь, понимавшие больше, чем хотели они показать: очень часто природа наносит на кожу ядовитых рептилий безобидный древесный, растительный земляной серо-бурый узор: так, корявый какой-то комочек, листок, ничего не шевелится, что могло бы метнуться и впиться, а сквозь эту обычную землю, листву за тобой наблюдают глаза… И вот этот Известьев — сосед по этапу — такой же.
— Есть такая каморочка, — выцедил шестереночный, втулочный человек безопасности по фамилии Хлябин. — Только это в восьмом вот отряде у нас — вместе с вами, выходит, мы могли бы его разместить. Ну, на первое время. И вот как-то приглядывать за обоими будет полегче.
— Там же Гуров у нас, — гавкнул Жбанов.
— Выписывается Гуров, на свободу, — протянул с сожалеющей и завистливой дембельской интонацией Хлябин: мол, мы все тут не звери — по-соседски живем; и уже с облегчением оглядывал всех: отчитался, решил, знак вопроса зачеркнут. Только ведь получалось по сути: заострил «петушиный» вопрос, заселив Вознесенского с ним, Углановым, вместе, повязав их и сплющив на глазах у всей зоны в «голубые друзья»; ничего просто так он Угланову делать не будет, начинаются шахматы — выжить Угланова из барака в ШИЗО, придавить одиночкой, напитать пустотой, чтобы сделался от вымывания податливым. И Угланов не просто начинает вторым — он не видит доски, он не знает, как ходят фигуры, видит только бетонную стену сейчас, за которой уже начались копошения, клокотание варящегося отношения зэков к нему.
3
Словно боялись не нажраться, жрали его все. С благоговейной жадностью туземцев, сбежавшихся на огненное зарево и алюминиевую тушу рухнувшего «боинга». С какой-то детской, выпытывающей «кто ты?», невыносимой неотступностью, когда не понимаешь, каким тебя видит и что про тебя разумеет совсем еще новый и чистый, впервые как будто открывший глаза человек. (Молодых было много, почти детей, детдомовцев с губастыми мягко-округлыми, не выросшими лицами, как будто здесь, на зоне, и родившихся и ничего не видевших иного.) С подстерегающей собачьей пристальностью, волчьей, с недоуменной тупой, бычьей наволочью, с застрявшей каменной угрюмостью обочинных людей. С низкородной, холопьей, не прощающей собственной низости злобой. С неподвижным и непроницаемым недоверием крестьян и рабочих, от макушки до пяток похожих на землю, которую пашут, и чумазые шпалы, которые в землю кладут. Исподлобья, набыченно, вяло, сквозь тоску, мародерски, украдкой, ножевым тусклым выблеском, стертой, отсыревшей спичкой, мигнувшей во внутреннем мраке, из укромных углов и с удобных позиций, непойманно — жрали. Даже не выедали глазами, а внюхивались, с неприметной, но осязаемой силой вбирая, изучая движения нового зверя.
Из протяжного спального, тесного от полусотни двухъярусных коек, помещения — в «комнату отдыха» с телевизором, нардами, шашками — в умывальник, уборную всех советских вокзалов, больниц и казарм с туалетами типа «очко» — на огромный проточный, долгожданный и не насыщающий воздух под глухой пустотой ноябрьского неба, в огороженный сеткой асфальтовый двор выдвигаясь, толкаясь, вышатываясь, чуял на себе волновое магнитное это внимание всех: надо было привыкнуть, подождать, пока новая кожа его приживется, огрубеет и полностью потеряет чувствительность или, может быть, сам он, Угланов, скорее, сотрется и смылится вот об эти глаза, станет им, «мужикам», через месяцы или даже недели таким же привычным, как они все друг другу и сами себе.