Афганец. Лучшие романы о воинах-интернационалистах Дышев Андрей
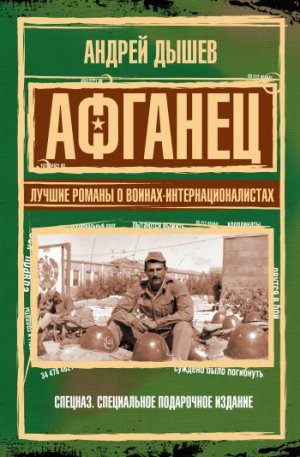
Жестока война: чтобы ты продолжал жить, кто-то должен умереть…
Когда спрыгнул на землю, лопасти уже тихо покачивались над вертолетом, как хрупкая, невесомая паутина.
— А ведь страшно, Валера, да?
Бикинеев хвастун. Он, как сытый кот, зажмурил глаза, скривил тонкие губы:
— Летать вообще страшно. Что здесь, что дома.
— И все же предпочтительнее дома, правда?
— Понимаешь, золотце, мы тут как врачи. Велено геморрой лечить, значит, будем лечить.
Я не успел отойти от вертолета. Внезапно на «уазике» подъехал комэска, подскочил к Лукину и Бикинееву и что-то сказал им резким тоном. Я услышал только: «А если б грохнулись, кто отвечал бы за него?..»
«Пугает, дятел! — зло думал я, вышагивая по железному настилу рулежки. — Ребятам ни за что ни про что вставил…»
Я, непонятно почему, чувствовал себя чуть ли не на равных с комэской…
Ровно через год в таком же вертолете сгорел мой коллега военный журналист Валера Глезденев.
Легкомысленно воспринимать жизнь как вечное, обязательное приложение к своему «я». Жизнь, друзья мои, — это подарок судьбы, великое благо, выданное напрокат во временное пользование; это хрупкое, капризное и дорогое средство для удовольствия, не имеющее гарантийного срока.
Я сопровождал корреспондента из окружной газеты в комендатуру Кундуза. Сели рядом на броне, свесив ноги в люк, покрепче натянули панамы на головы, чтобы их не сдуло ветром, и сунули в рот по сигарете.
Когда бэтээр пересек КПП, солдаты, сидевшие сзади, без команды клацнули затворами — зарядили автоматы. Корреспондент оглянулся, дотронулся рукой до кобуры, висевшей у него на поясе, но ничего не сказал.
Мы ехали по разбитой асфальтированной дороге. Круглые и овальные ямы водитель аккуратно объезжал.
Уже вечером, когда благополучно вернулись в гарнизон, корреспондент сказал:
— Всю дорогу я думал о том, что чувствует водитель, лавируя между ям… И о снах солдата, который в это время спокойно спал на полу бэтээра.
А я думал о том, чтобы привезти его обратно живым, но не сказал об этом.
По обе стороны от шоссе тянулись маленькие, убогие поля. На них, сгорбившись, что-то копали или пололи женщины. Попадались редкие хвойные посадки, утратившие свою зелень из-за плотного слоя пыли на них.
Грязные дети на обочинах в серых мешковатых одеждах махали нам руками. Какой-то мальчуган бросил навстречу бэтээру палку, как гранату. Старцы на ишаках останавливались на обочине, ожидая, когда за нами осядет пыль.
Чаще стали попадаться глинобитные постройки — серые, потрескавшиеся, обрушенные. Останки высоких дувалов. Маленькие, как с картинки, симметричные крепости.
Начинался Кундуз.
Проехали овощную лавку. Ряды отполированных, сочно-красных помидоров, пучки зелени, бледно-зеленые арбузы…
Поворот налево. КПП.
Комендант был в майке, энергично вытирался полотенцем. Высокий лоб, переходящий в обширную залысину, гладко выбритые щеки, внимательный, даже настороженный взгляд. Он холодно поздоровался. Коротко ответил на вопросы. Разговор не клеился.
— Давайте вначале пообедаем, — предложил он.
В особняке, где разместилась комендатура, когда-то сладко жил брат Амина. Беломраморный туалет, биде, высокие потолки, широкие окна в комнатах, лоджия.
Солдат-повар, подчеркивая особую значимость своей должности, неторопливо разливал в алюминиевые тарелки щи, ставил на стол блюда с яблоками, арбузом, виноградом.
После обеда курили в кабинете командира роты. Отдыхали в глубоких креслах. Было спокойно, сытно, уютно.
Постучавшись, зашел солдат:
— К вам из «Спинзара» трое афганцев. Впустить?
Немолодые, но энергичные афганцы уже шли к ротному, заранее вытянув вперед руки для пожатия. Ладони их тонкие, хрупкие. Троекратно прижались щека к щеке — этакая имитация поцелуя.
— Садитесь, дорогие гости, — сказал комендант, бросил взгляд на ротного и незаметно вышел.
Афганцы сели на широкий диван, обтянутый кожзаменителем, рядом с маленькой ружейной пирамидой. Откашлялись. Замолчали.
Мы не стали мешать разговору и вышли на улицу. Комендант через минуту подошел к нам.
— С вами поедет мой помощник Саша, — сказал он. — Будьте осторожны.
Грязно-желтый «уазик» с афганским номером мчался в центр города. На круглой площади стоял царандоевец в белой форме и руководил движением транспорта. Неподалеку от него прижались к бордюру два бронетранспортера.
— Афганские?
— Наши, — ответил Саша. — Снова кто-то затариваться приехал.
«Уазик» подрулил к тротуару. Мы вышли, оглянулись по сторонам. Дети стайкой облепили машину. Паленый вышел из дукана, подбоченил руки:
— Идите ко мне! Что хотите?
Мы попали в его цепкие руки. Парнишка в кожаной кепке с калькулятором в руках стал рекламировать товар:
— Это только привезли, четыре тысячи, по-вашему двести шестьдесят. Это — три тысячи пятьсот, двести тридцать три по-вашему… — И в подтверждение своих слов он ловко тыкал пальцем в клавиши калькулятора и показывал нам высвеченные цифры.
Долговязый подросток на велосипеде, опираясь ногой на ступеньку, махал нам рукой, приглашая прокатиться. Бритые пацанята с любопытством рассматривали фотоаппарат корреспондента из Ташкента. Один вцепился руками в ремешок и загорланил:
— Продай!
— Не могу, я им работаю, — пытался убедить пацана корреспондент, осторожно отрывая цепкие пальцы от ремня.
— Ну продай! Скока? Продай, командор!
— Он не продается…
— Продай! Прода-а-ай!
Малец уже просто издевался над корреспондентом.
— Отстань! — не выдержал корреспондент и осторожно оттолкнул от себя пацана.
Вокруг собирались зеваки. Пацан вытаращил глаза, отступил назад на несколько шагов и вдруг во всю глотку заорал:
— Эй, командор! Я тебя вдую, понял? — Глагол, правда, звучал более откровенно.
Сидевший у входа в дукан старик с непокрытой головой свернул под себя ноги, положил на колени коричневые руки. Наверное, он ни слова не понимал по-русски, потому и не оценил бесстыдства дерзкого мальчишки и не сделал ему замечания. Он внимательно смотрел на нас, глаза не опускал ни на минуту и не менял застывшего выражения, а точнее, невыражения лица. Ни любопытства, ни отчужденной неприязни. Казалось, он лениво изучает нас.
Корреспондент фотографировал детей, кадр за кадром, взводил затвор и тут же протягивал руку для очередного пожатия, отвечал на один и тот же вопрос «Как дела?», несколько скованно смеялся, постоянно проверяя рукой наличие кобуры и ее содержимого, и кидал короткие взгляды на бритого хулигана. Два юных продавца сигаретами с лотками на ремнях демонстрировали перед фотоаппаратом свой товар, дурачились, ставили друг другу «рога», когда корреспондент прицеливался в объектив.
Сказать, что афганцы относились к нам недоброжелательно, значит сказать грубо. Просто в их толпе мы чувствовали себя неуютно.
Заболел наш солдат-наборщик. Началось с того, что он раз двадцать сбегал в туалет, но ни разу не добежал. Шанин, осторожно обходя коричневые брызги на бетонном полу, приказывал дневальному не жалеть хлорки. Потом солдата проводили в госпиталь. Неделю у него держалась высокая температура. Он пластом лежал на койке, не мог ничего есть, только все время просил воды. Капельницы и уколы с жаропонижающими средствами почти не помогали ему. Иногда он приподнимался с подушки и слабо кричал: «Духи! Духи! На фуй! На фуй!» Когда он пытался что-то съесть, его тут же рвало. Скулы его заострились, коричневое лицо иссохло.
Кузнецов все время сообщал нам о его самочувствии.
— Тиф, — без всяких эмоций говорил он. — Кризис может продлиться десять дней… Остается ждать и надеяться на лучшее.
Жизнь, здоровье, карьера — это были в Афганистане весьма зыбкие понятия. Командир мотострелковой роты старший лейтенант Кавыршин казался мне слишком молодым и незрелым для этой должности. Но дело в том, что ротным он был назначен взамен офицера, покалеченного взрывом.
— Ему оторвало обе ноги и сильно повредило правую руку, — рассказывал мне Кавыршин таким спокойным голосом, будто речь шла о вымазанном костюме и заляпанных брюках.
— И как же он будет таким?..
— Жена под его диктовку пишет нам письма.
— Она осталась с ним жить?
— Видимо, да. — Кавыршин, однако, пожал на всякий случай плечами.
— Где его оперировали?
— В киевской клинике микрохирургии. Сейчас у него почти восстановилась подвижность правой руки. А недавно перевезли в другой институт и готовят протезы.
— Что он думает о своем будущем?
— Из армии увольняться не хочет. Надеется преподавать в институте военное дело.
— Как это случилось?
— Колонной проезжали мост. Первая бээмпэшка прошла нормально, а его подорвалась. Управляемый фугас… Сразу же увидели, как от шоссе в заросли бежит афганец — молодой парень, почти мальчишка. Мы хотели его расстрелять, но люди упросили. Сказали, что это сделал дехканин. Соврали, конечно… Машину перевернуло кверху гусеницами, а башня улетела метров на тридцать. Похожий фугас мы вчера сняли и расстреляли.
— Послушай, неужели в банды берут, как ты говоришь, мальчишек?
— Ты не понял. Это был не член банды, а обычный пацан… Ведь за каждую подорванную машину платят большие деньги.
— Чьего производства фугас?
— Итальянская мина плюс мешок со взрывчаткой.
— Как его настроение по письмам?
— Довольно оптимистичное.
— Сколько ему лет?
— Двадцать пять…
Если война в Чечне — это война зрелых контрактников, то война в Афгане была мясорубкой для юношей. Представители ограниченного контингента в подавляющем большинстве были молодые люди. Средний возраст солдат и офицеров боевых подразделений — от девятнадцати до двадцати пяти лет. С точки зрения военачальников, молодежный характер нашей армии — огромное преимущество. Но почему-то не с восхищением и гордостью, а с болью и состраданием смотрели на бойцов заезжие певцы, артисты, корреспонденты невоенных газет.
Слякотной и мокрой осенью к нам в гарнизон с концертной группой приехала Людмила Зыкина. Ее поселили в двухместном номере гостиницы, из окон которого была видна лишь бесконечная желто-серая пустыня.
Я выбил себе разрешение встретиться с ней.
Певица сидела на койке, застланной синим солдатским одеялом, выпрямившись, сложив руки на коленях, словно в президиуме торжественного собрания.
Но была она по-домашнему простой. Сразу же стала расспрашивать меня о том, как служится, страшно ли бывает в бою, о планах на будущее. Она ни разу не опустила глаза, внимательно глядя на меня. И тогда я снова почувствовал, что меня — пусть незаметно, неуловимо — жалеют, что эта необыкновенная женщина, повидавшая всякого в жизни, по-матерински страдает за всех нас.
— Я не выбирала себе профессию певицы и не думала о признании. В одиннадцать лет пошла работать на завод, потому что началась война и надо было помогать фронту. Представляете, я была токарем! Была такая же голодная, как и вы… Молодость! Столько энергии, планов, целей и… наивности. Хотела вступить на заводе в комсомол, но там не было первичной организации. Это была для меня трагедия… Я знаю, и у вас бывают трагедии. Они многое переоценивают в нас и делают мудрее. Учитесь чувствовать боль — свою или чужую, — пока не переболит до конца…
Так или приблизительно так говорила певица. Низкий грудной голос. Блестят глаза. Морщинки у глаз. Руки «лодочкой» лежат на коленях.
Певица мировой известности. Лауреат Ленинской премии.
Усталая женщина в матерчатых мягких полусапожках. Сумрачная комната с видом на бесцветную тоскливую пустыню. Пуховый платок поверх высокой прически…
Людмила Зыкина? В Афганистане? Невероятно. Так же невероятно, как если бы ко мне прилетела моя мама.
Нашим боевым агитационно-пропагандистским отрядом ненавязчиво и тонко руководил Сергей Палыч Мищук — обаятельный и гибкий дипломат, способный убедить в своей правоте, кажется, самого Аллаха. Афганцев он знал не хуже опытного востоковеда, держался с ними так, будто они находились на территории СССР, а не он в Афганистане. Мне казалось, что его даже душманы знали и любили, и потому ездить с Мищуком в Кундуз было удивительно приятным делом.
Вот как-то я поехал вместе с ним в гостиницу «Спинзар». Мы остановились в тени тихой аллеи. Я вышел из машины размять ноги, прошелся несколько раз мимо солдата-афганца, стоявшего у входа в гостиницу. «Сарбоз» долго водил туда-сюда зрачками, сопровождая меня взглядом, пока не попросил запечатлеть его физиономию моим фотоаппаратом. Сделать снимок, однако, я не успел. Пустынная всего минуту назад улица стала стремительно наполняться людьми. Забелели седые бороды и чалмы старцев. Замелькали землистые лица немолодых женщин с детьми на руках. Люди шли толпой молча, быстро, и в решимости, застывшей на их лицах, было что-то такое, от чего хотелось надежно спрятаться или же встать рядом с аксакалами в их мрачный строй.
Ибодулло Шарипов, переводчик агитотряда, красавец-таджик, к счастью, стоял рядом, и я вполголоса спросил его:
— Игорь (так, на русский лад, мы обычно его называли), кто эти люди?
— Кажется, это по поводу каравана, — вслух подумал он.
Люди остановились у входа в «Спинзар», несколько старцев подошли к солдату. Женщины прижались ближе друг к другу, опустились на корточки, с волнением глядя на своих стариков, и, казалось, совсем не обращали внимания на истошный плач своих детей.
Из двери наконец вышел Сергей Палыч, которого, как уже знаем, даже душманы любили. Шарипов, как тень, встал рядом с ним.
Подошли три аксакала. Один из них заговорил. Поднялись с корточек и другие. Кольцо людей вокруг нас становилось плотнее с каждой минутой. У входа в «Спинзар» остались только женщины с невыносимо кричащими детьми.
Афганцы говорили долго, вплотную приблизившись к Сергею Палычу. Остальные изредка что-то добавляли, кивали головами, соглашаясь со словами старейшин.
Ибодулло быстро переводил:
— Вертолеты сожгли весь караван… Он вез из Пакистана товары для продажи… Во всем караване было только три винтовки для защиты от бандитов… У торговцев огромные убытки… Погибли невинные люди…
Сергей Палыч внимательно слушал. Лицо его было спокойным, без каких бы то ни было признаков растерянности, словно десятки обозленных глаз вокруг были слепы и его не касались.
У меня мурашки пробежали по спине. Затылком я чувствовал дыхание толпы, тихий говор, кашель, вздохи.
— Переведи, Шарипов, — начал Мищук.
На двух языках звучали одни и те же слова. Мищук твердо и уверенно произносил заранее подготовленную легенду. Аксакалы слушали, чуть наклонив головы и приоткрыв рты, глядя то на Сергея Палыча, то на Ибодулло. Темные, глубокие глаза в обрамлении морщин мудрости отражали отношение к этим словам. Старики не верили советским офицерам. Они знали, что мы, как всегда, лжем.
— Вертолеты на цель навел ваш человек — торговец из Кундуза… — медленно говорил Мищук, чтобы Шарипов успел точно перевести, чтобы афганцы смогли правильно понять и чтобы успеть продумать очередную фразу. — Этот человек клялся Аллахом, что караван вез оружие… У нас не было оснований не верить этому человеку… Вертолеты сделали то, что должны были сделать с караваном, везущим оружие… Виновники этой трагедии — те, кто дал нам ложную информацию. Всё.
Я вдруг вспомнил, как недавно просил Валерку Бикинеева взять меня «на караван», и почувствовал, как всего прошибло холодным потом.
Старики не расходились. Пер7еговаривались между собой, обсуждая услышанное.
Неподалеку остановился БТР. Широкими шагами сквозь толпу шел высокий прапорщик.
— Едем, товарищ подполковник? — спросил он Сергея Палыча. Мищук, думая о чем-то своем, машинально кивнул и, не оглядываясь, пошел к своему «уазику».
В тот день, казалось, даже неунывающий Паленый разговаривал с нами холодно и деньги, не считая, кидал куда-то под прилавок. В Кундузе был траур.
Обедать мы пошли в местную харчевню. Навстречу нам вышел хозяин в когда-то белом фартуке и угодливо показал нам на дверь своего заведения.
— Поднимайтесь на второй этаж, — сказал нам Ибодулло, — а я что-нибудь закажу.
В сумрачном зале стояло несколько очень грязных столов, загаженных мухами. Два деревянных столба поддерживали провисший потолок. За столбами на парах сидела группа мужчин разных возрастов. Увидев нас, они замолчали, поставили в ноги пиалы и стали искоса следить за нами.
Казалось, что весь город ненавидит нас из-за этого проклятого каравана!
Мы поднялись по крутой и шаткой деревянной лестнице на второй этаж, вышли в темный коридор, по обе стороны которого были двери, запертые на огромные амбарные замки. Коридор вывел нас в небольшой светлый холл.
— Садись, братва! — скомандовал Юрка Шилов, командир группы агитотряда. Он устало спустился на стул, с наслаждением вытянул ноги и положил автомат себе на колени.
Мы сели вокруг стола, дружно сдувая с него крошки. Шилов передернул затвор автомата и поставил его на предохранитель.
— Рекомендую всем сделать то же.
Зачавкало железом оружие. Пришли пообедать, называется. Я подошел к огромному, во всю стену, окну. На перекрестке остановились машины, пропуская караван огромных, ободранных местами верблюдов. Тяжелые тюки раскачивались между обвислых, как шутовские колпаки, горбов. Рядом суетились погонщики, размахивали руками, кричали. Беспорядочно сигналили машины, осторожно протискиваясь сквозь затор. Верблюды, однако, соблюдали при всем при этом полное безразличие к людям, машинам и повозкам; не опуская массивных голов, они с высоты своего роста косили вниз и шевелили мясистыми губами. Верблюды пришли сюда из Пакистана, они десятки раз рисковали жизнью, они всего несколько раз ели и пили за все время долгого пути, они не замерзли на страшном морозе ночного Гиндукуша, их не сломила жара Джелалабада. Их, в конце концов, не разорвали на кровавые куски советские вертолеты. А этот глупый мальчишка орет, размахивая руками, пугает, брызжет слюной.
— Не стой там, — вяло посоветовал Юра Шилов.
Вошел хозяин с подносом в руках. Быстро расставил на столе железные миски, ложки, тарелку с горкой золотистых лепешек, что-то коротко сказал Ибодулло.
— Нам желают приятного аппетита во имя Аллаха.
— А руки помыть? — Шилов пошевелил в воздухе своими пальцами.
Афганец принес кувшин с водой, удивленный столь непривычной просьбой, тут же поливал тонкой струйкой, по полу заскользил ручеек.
Разобрали миски с пловом — мелкой вермишелью с мясом и изюмом, рвали темные лепешки, еще теплые и невероятно вкусные, заливали плов мясным соусом из крохотных жестяных блюдец. Потом наливали во французские стаканы индийский чай из афганских чеканных заварников.
Ибодулло расплатился с хозяином. Мы вышли на улицу и плотной группой зашагали вдоль торгового ряда. Шарипов ежеминутно находил знакомых, протягивал руку, здоровался, спрашивал что-то, что-то отвечал. Дуканщики манили нас, показывали пестрые жестяные банки с чаем, пачки американских сигарет, бутылки кока-колы, лимонного напитка, кульки с арахисом, кишмишем. Другие протягивали только что снятые с мангала шампуры с ароматными кусочками мяса. Третьи поглаживали ладонями чеканные бока металлических чайников, кувшинов, овальных блюд. Отказываться от изобилия предложений было настолько трудно, что мы вообще перестали смотреть на товар, придав своим лицам озабоченный вид.
Или, может быть, всем нам было стыдно за вертолетчиков, которые сожгли мирный караван и убили ни в чем не виновных торговцев?
В студию звукозаписи мы пошли вдвоем с Ибодулло. Там нас ждали. Хозяин студии и его сын готовили к работе мощный «Шарп». Ибодулло должен был записать репортаж для местного радио о дружбе и сотрудничестве воинов советского гарнизона и жителей Кундуза. От собственного кощунства нам всем было тошно, но приказ есть приказ. Во лжи, лицемерии и кощунстве и заключается суть контрпропаганды.
Ибодулло сел у микрофона, достал текст, прокашлялся. Кажется, он забыл слова, которые собирался сказать.
Я вышел на улицу. Шарипов через полминуты тоже показался в дверях:
— Знаешь, что-то не получается…
Я ничего не ответил, хотя прекрасно знал, что у него там не получается.
— Надо подключить женский голос, а?
За женским голосом мы пошли в женский лицей. В прохладном зале, похожем на деревенский клуб, мы встретились с председателем провинциального комитета женщин Афганистана. Молодая женщина сказала нам «садитесь» на дари, указала рукой на пухлый, словно надутый воздухом, диван. Сама села напротив.
Смуглая, черноглазая. Поверх юбки и блузки — ярко-желтая кофточка в обтяжку. Скрестила на огромном животе руки. Устало откинулась на спинку. Председатель ждала ребенка.
Записаться на радио она согласилась сразу, мы облегченно вздохнули…
К «Спинзару» шли пешком. Шарипов — впереди, я, озираясь по сторонам, сзади.
— Игорь, а почему ты не носишь с собой оружия?
Не оборачиваясь, он буркнул:
— Да хоть это, может быть, внушит им доверие к нам. Хотя…
Он не договорил, махнул рукой. Из Кундуза мы выехали уже в сумерках.
Чувство смятения и одиночества: в столовой не накрыта почти половина столов. Люди уехали на войну.
О крупных операциях можно было узнать и по тому, как в наш медсанбат приезжает дополнительная группа врачей.
Зашел в редакцию знакомый офицер — он только вернулся из Кабула, где лечился от ташкентской гонореи. Рассказывал, что в палате венерологического отделения, чистенькой, теплой, лежали пять офицеров. В то же время хирургическое отделение задыхалось от избытка раненых — перевязанных, загипсованных, ввинченных в илизаровские клетки. Раненые солдаты лежали на койках по два человека, многие укрывались шинелями и бушлатами. Койки стояли даже в темных, душных коридорах, куда набивали человек по сто. Раненым катастрофически не хватало мест.
Некстати приехала с концертом Эдита Пьеха. За час до концерта в Доме офицеров исполнительница «Огромного неба» своими глазами видела, как на взлетную полосу грохнулся «Ми-6», ярко вспыхнул, зачадил. Взрывная волна хлопнула по окнам модулей. На сцену певица вышла сама не своя. Ей надо было петь, а она не могла. Собралась с силами, зажмурила глаза, сдерживая слезы, и запела свою знаменитую песню. Ту самую. Никогда больше я не слышал такого надрывного, идущего из самой души пения. Потертые войной мужики, сидящие в зале, плакали вместе с ней.
В гарнизоне надолго пропал свет. Наших движков не хватило для всех полиграфических машин, и газету печатали вручную. Оттиски получались отвратительными, невозможно было что-либо прочитать. Тогда Шанин остановил процесс и принялся отмечать наступающий праздник Великой Октябрьской социалистической революции. А утром следующего дня в редакцию зашел член ЦК КПСС в сопровождении командира дивизии. Опухший Шанин представился. Член ЦК КПСС попросил свежий номер газеты. Шанин сказал: «Сейчас отпечатаем!» Но член ЦК КПСС не стал ждать и ушел, а командир дивизии объявил Шанину десять суток ареста. Меня вызвали на совещание к начальнику политотдела.
— До выборов осталось две недели, — негромко рокотал рослый, полнеющий подполковник. — На избирательных участках уже все должно быть готово… Ну, и самое главное.
Он остановился, заложив руки за спину, и надолго обратил тяжелый взгляд в окно.
— И самое главное, — повторил он. — Имейте в виду, что, если кто-то из солдат в день выборов зайдет в кабину для тайного голосования, считайте, что ваш партийный билет на моем столе.
Смешно! Люди каждый день видели смерть и рисковали жизнью, а начпо пытался напугать их исключением из партии. Но самое смешное, что этого боялись!
Шел второй месяц тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года…
Камера в гауптвахте, в которой Шанин отбывал свой срок, была малюсенькая, с выбеленными известью стенами, с топчаном в углу. Никто ее не охранял и не запирал. Все дни напролет Шанин лежал на топчане, не снимая бушлата и фуражки; он много курил, читал толстые журналы и иногда тихо смеялся неизвестно чему. Завтракал он консервами, которые я ему приносил, обедать ходил в редакцию, ужинал и ночевал у себя в кабинете. Никто из начальников ни разу не проверил Шанина на гауптвахте. Он мог бы и не ходить туда вовсе.
В нашем Доме офицеров показывали очередной фильм про войну. Какой-то милитаризованный культпросветработник зациклился на этой тематике, думая, наверное, что на войне людям надо крутить фильмы о войне. А люди хотели фильмов о любви. От войны всех уже тошнило.
Мы с Юркой Шиловым сидели рядом и дышали в воротники, чтобы носы согрелись. В кинозал вошли двое: он и она. Офицер придерживал беспалой ладонью женщину за локоть и искал свободные места. Женщина покачивала корпусом и улыбалась знакомым. Я первый раз видел, чтобы офицер вошел в кинозал с женщиной под руку. Это был вызов.
— Они ведут себя как муж и жена, — сказал я.
И отгадал. Они недавно расписались в Кабуле, в советском посольстве. Офицеру оторвало пальцы на левой руке: неудачно обезвредил мину. Что-то в семье у него не сладилось, и жена подала на развод. Второй женой его стала машинистка из штаба части.
На фильме мы с Юркой отлично выспались.
Удивительное дело: на войне, казалось бы, только и мечтать о том, чтобы выжить, не подхватить тиф и гепатит, но людям этого мало, они, как заведенные, говорят не наговорятся о семейном счастье. Его-то, счастья, и в Союзе не всякий видел. Наш начальник типографии прапорщик Володя поведал мне грустную историю своей семьи. Вторая его жена с письмом прислала список товаров, которые он должен был ей привезти. Володя тряс бумажкой у моего лица и орал так, будто я был в чем-то виноват:
— А первая, бывшая то есть, женка, как узнала, что я в Афгане, так пишет: «Может, помиримся, Володя?» Тоже заграничных шмоток захотела, сука!
Он показывал мне фотографии обеих своих жен. Каждая из них была раза в два толще Володи, и мне от этого было мучительно жалко его.
Наш корреспондент Василий Тимошенко стал отцом в Афганистане. Бегал по редакции с пачкой серых фотографий и показывал всем свою голопопую дочку. Потом обклеил этими фотографиями стены своего кабинета. Долгое время мы все любовались галереей пеленочек, распашоночек, чепчиков, слюнявчиков и искренне желали нашему юному другу не оплошать во второй раз и обязательно заделать сына.
Из отпуска Вася вернулся подавленным. «Я развожусь», — сказал он без лишних подробностей. И развелся. Похоже, не его это оказалась дочка.
Век неверных жен?
Шанин, естественно, тоже был на грани развода. Жена слала ему письма с угрозами. Он прятал Гульку в платяном шкафу, когда в его кабинет рвался пьяный начальник политотдела, чтобы застукать Шанина на месте, так сказать, преступления. Он стоял перед ним навытяжку, когда начпо обещал вписать ему в личное дело аморалку. Начальникам ничего не стоило изломать, исковеркать всю его судьбу.
И все же Шанину завидовали, завидовали, завидовали!
Письма из дома я получал очень часто. Наверное, даже слишком часто. От них веяло далекой и неправдоподобной жизнью, в которой были трамваи, гастрономы, докторская колбаса и пиво… Иногда почта давала перебои из-за нелетной погоды, тогда письма я получал раз в неделю, но пачкой. Читал я их по часу.
Это был допинг, обязательное условие здоровой нервной системы — получать из Союза письма. Без них можно было сойти с ума.
Но до меня письма читала какая-то цензура. Никто не знал, зачем она это делает и где сидит, но все знали о ее существовании и все ее ненавидели за то, что работала скрытно и нечестно. Почти каждое второе письмо было либо распечатано, либо заклеено после вскрытия. Делал это какой-то грязный неряха. Он ляпал клея столько, что письмо внутри присыхало к конверту. Его приходилось осторожно отдирать, но почти всегда часть текста пропадала. Как будто в насмешку на конверте в таких случаях ставили штамп: «Поступило на узел связи в распечатанном виде». Какую же тайну искала цензура в письмах из Союза?
Читать чужие письма всегда низко и подло, во имя чего бы это ни делалось.
Я никогда не собирал и не хранил писем, а сжигал их в печке. Этот ритуал навевал смертельную тоску, но отказаться от него почему-то никак не мог. Зимой их светлое пламя приносило свою толику тепла в мой кабинет. Печь, надо сказать, я всегда топил щедро, до отказа набивая ее нутро углем. Иногда приходилось включать кондиционер — так было жарко. Одной хорошей закидки угля хватало на всю ночь; по утрам под слоем пепла можно еще было найти тлеющие угольки. Никакие электроприборы не могли тягаться с этим незамысловатым чугунным творением космической эры.
Из-за ареста Шанина мне подвалило работы. Через день приходилось до полуночи вычитывать газетные полосы. Строчки плыли перед глазами, я тер переносицу, ежеминутно вставал из-за стола и курил. Прыщавый солдат-наборщик ковырялся выколоткой в гранках под тусклой лампой, дышал на замерзшие пальцы, согревая их, бережно доставал из кармана и подкуривал смятый, в рыжих пятнах бычок, делал две-три затяжки, обжигая пальцы. Неразговорчивый, терпеливый, исполнительный… Я смотрел на его черные от краски руки, на грязное хэбэ, на розовые щеки с прозрачной щетинкой и думал о том, что у него есть отец и мать, для которых этот невзрачный, уродливо обстриженный парнишка — самое дорогое, по ком столько выплакано материнских слез.
Всех бы их наградил, будь моя воля. Даже если они не ходят в засады и на операции, даже если война для них несмертельна. Но «выбить» медальку для солдата из «небоевого» подразделения было делом безнадежным. Наборщики об этом знали и болезненно переживали. Они считали себя людьми второго сорта. Второй сорт — это те, кому жизнь здесь была в какой-то степени гарантирована.
Каждый день я встречался с людьми, которые такой гарантии не имели. Они педантично подробно рассказывали о том, как умирают другие. Сначала это казалось мне кощунством, а потом я понял, что те, кто жив, и те, кого уже нет, — на одной ступени. И стремление подробнее, в деталях, обрисовать облик смерти — это попытка приучить себя, свое сознание к тому, что всякое может быть.
Знакомый офицер как-то мечтательно предвкушал свой отпуск. Рассказывал мне, как они с женой вместе поплывут в круиз на шикарной «Грузии», в каких кабаках побывают. А через минуту раздумывал уже о жутких вещах: о том, что если его «хлопнут», то гроб не войдет в прихожую квартиры родителей: там слишком тесно. Он рекомендовал мне чаще подставлять лицо солнцу, чтобы оно стало смуглым. Тогда труп не будет отталкивающе синим… Всем своим видом он демонстрировал, что относится к этим вещам как к чему-то обычному, естественному. Может быть, он разыгрывал передо мной спектакль? Или таким образом пытался успокоить сам себя?
Юрка Шилов не был такой мрачной личностью, во всяком случае, я всегда его хорошо понимал. Ему, конечно же, было страшно первым входить в нехорошие кишлаки, но он входил, потому что это было его служебной обязанностью, работой. Он много раз бывал под обстрелом и, не бравируя, рассказывал мне, как это страшно. Но о смерти он никогда не говорил и, по-моему, старался ее даже не предполагать. Он не хотел признавать ничего, кроме жизни.
Как-то мы заговорили о Львове — родном для нас городе. Оказалось, что там мы могли видеть друг друга из своих окон. Открой форточку, свистни — другой прямо в квартире услышит. В тот день, когда мы нашли друг друга как соседи, мы решили обязательно встретиться во Львове, свистнув из окон, и сходить в хороший кабак. Пару раз мы с ним в деталях обсуждали, как отмоемся, отскоблим афганскую грязь, побреемся трофейным «шиком», наденем беленькие рубашечки, возьмем под руки своих дам, сядем за столик с белой скатертью и закажем самые дорогие блюда. И в тот день, мечтали мы, шампанское будет литься рекой, и музыканты будут исполнять только жуткие афганские песни.
Мы действительно встретились с ним во Львове и сходили в ресторанчик. Но все было совсем не так, как мы мечтали.
Мы с Шиловым были ровесниками, окончили одно училище, только разные факультеты. Однако я подсознательно чувствовал его превосходство, считал, и не без оснований, что он тверже стоит на ногах. Он, как я уже говорил, командовал группой в агитотряде, имел в подчинении солдат, которым мог приказать выполнение боевой задачи. На первом нашем совместном выезде в «нехороший» кишлак я старался быть ближе к нему и реагировать на любую ситуацию, только исходя из реакции Юрки.
В Баглане, три месяца спустя, я с четырьмя солдатами влип под перекрестный обстрел. Василий Бенкеч, водитель бронетранспортера, на котором я был старшим, не справился с управлением и на полной скорости съехал с дорожного полотна. Колонна, увлеченная боем, умчалась дальше. Застрявшая в кювете машина стала отличной мишенью для перекрестного огня. Я приказал солдатам занять круговую оборону, чтобы не позволить засевшим в дувалах гранатометчикам прицельно выстрелить по бэтээру, ибо в машине, на командирском сиденье, в просторном бушлате с капитанскими погонами сидела медсестра из медсанбата Ирина.
Полчаса мы отстреливались, ползая по сырому кювету. Одни. Я не знал, придет ли к нам кто-нибудь на помощь, и вообще, живы ли те, от кого я ждал помощи. Наконец нас выволокла из-под огня БПМ из батальона политработника Саши Воронцова. Ирина долго ничего не могла сказать вразумительного, только тихо всхлипывала и не поворачивала лица. А потом тихо и обиженно произнесла: «Вы так ругались матом!» Она оставалась женщиной даже в минуты смертельной опасности.
Когда я доложил старшему колонны подполковнику Скороглядову о том, что техническое замыкание колонны бросило нас на произвол судьбы, он, едва изменившись в лице, коротко отрезал:
— Надо было сразу выйти на связь и доложить о себе… Мы подумали, что это твой маневр, что ты нарочно съехал в кювет, чтобы укрыться от огня.
А девчонка не скоро пришла в себя.
«Судьба журналистов щадит, — по-своему объяснил я Юрке причину своего везения. — Они ей нужны для того, чтобы запечатлеть историю». И странное дело — после этого Юрка стал тянуться ко мне, старался на выездах быть рядом со мной, словно и в самом деле надеялся укрыться от беды в лучезарном сиянии доброй магии.
А долгая дорога во львовский кабак началась у нас с поездки в «нехороший» кишлак, где должны были вести агитработу активисты НДПА и местный мулла. Наша техника осталась на шоссе, и мы пешком пошли на центральную площадь. Кишлак казался совершенно необитаемым, но тихий скрип дверей за нашими спинами и запах очагового дымка говорили сами за себя. Юра нес автомат стволом вниз, руки в карманах, будто — извините за каламбур — с неохотой шел на охоту. У кишлака была дурная репутация потому, что неделю назад здесь был обнаружен склад с оружием. Так вот, глядя на вялую невысокую фигурку Шилова, я испытывал нечто вроде зависти, что вот идет человек, такой же, как и я, но тем не менее ничего не боится. У меня самого все сжалось внутри от зловещей тишины, и каждую секунду я ожидал выстрела.
В центре мы осмотрели несколько сарайчиков, крытых соломой и щедро засыпанных овечьими шариками. Настроение у нас улучшилось, потому что за нами по улочке уже шла боевая машина пехоты. Затем приехала «летучка» с громкоговорителем, и мулла первым начал свою работу. Низким, певучим голосом он призывал к чему-то дехкан, что-то обещал им, в чем-то убеждал. Люди стали подходить, контакт был налажен, но в это время четверо молодых афганцев из провинциального комитета НДПА сорвались с места и побежали на вершину сопки, которая возвышалась над кишлаком. Когда я спросил у старшего нашей группы, чем были взволнованы эти ребята, он ответил: «Они знают свое дело, не надо обращать внимания». Однако общее спокойствие было уже нарушено. Люди, окружавшие муллу, перестали слушать его воззвания, повернули лица в сторону сопки и стали напряженно следить за бегущими. Пять минут спустя старший группы подозвал к себе Шилова и сказал ему: «Ну-ка, садись на бээмпэ и шпарь за ними». Напоследок предупредил, чтобы понапрасну огня не открывали; ведь тут вроде как агитработа идет. Шилов как будто ждал моего взгляда, моего движения навстречу ему и кивнул головой, приглашая прокатиться. Мы сели на БМП, взлетели на гребень сопки. Это оказалось ровное, как стол, плато. Вот выехали на эту лунную поверхность, машина остановилась, и мы, как матросы с корабля, ищем землю, то есть группу наших афганцев. Пусто, ничего не видать. Интуиция подсказала Юре направление движения, и мы рванулись дальше. Минут через десять увидели их. Парни вразнобой рассказали, что заметили вооруженную группу. Душманы, или кто они были — сказать трудно, заметив преследование, стали убегать. Эти догонялки продолжались минут двадцать, до тех пор, пока группа неизвестных не спустилась вниз и не растворилась среди кустарников. Юра был старшим здесь, ему надо было принимать какое-то решение. И вдруг мне нестерпимо захотелось, чтобы Юра поделился со мной властью на правах земляка, и тем самым повлиять на ход дальнейших событий. Перспектива проявить себя вдруг вскружила голову. Я предложил свой план: взять наших бойцов, ребят-афганцев и устремиться вниз, прочесать кусты и найти возмутителей спокойствия. Юра — парень выдержанный, хорошо маскирующий свое настроение. Но я заметил — мое предложение ему не понравилось. Он долго думал, покусывая кончики черных усиков. Но что произошло с афганцами! Узнав о моем желании продолжить поиск, они горячо заговорили, перебивая друг друга. Ни в коем случае! Не надо их искать! Они ушли далеко! Это безнадежно! Я, впрочем, и сам уже понял, что это безнадежно, потому воспринял их слова с некоторым облегчением. Юра в это время подозрительно смотрел на афганцев. Потом он вышел на связь со старшим и доложил обстановку. Тот коротко и ясно ответил: «В авантюры не ввязываться!» Так ничего я не добился. И у муллы-краснобая, думаю, тоже ничего путного не вышло. Люди разошлись по своим хибарам, никто не стал его слушать.
— Ты знаешь, — сказал мне позже старший группы, — эти парни из провинциального комитета больше всех были заинтересованы в том, чтобы та странная группа на сопке не попала в наши руки. И весь кишлак был в этом заинтересован… А бедный мулла надрывался целый час у микрофона, убеждая всех в наших добрых намерениях.
Вся беда в том, что перспектива проявить себя в Афганистане вскружила голову не только мне одному…
В районе кишлака Ишкамыш пара советских бомбардировщиков случайно сбросила несколько бомб на свою же колонну. Три дня гарнизон бурлил, обсуждая это событие. Говорили, что осколком поранило лицо командиру дивизии. Я видел генерала издали в те дни, пытался найти шрам, но ничего не заметил.
От Афганистана не было отдыха даже ночью: травили душу какие-то мрачные сны. Их я иногда записывал по свежей памяти, будто пересказывал фильм. Это были записки сумасшедшего, и я на всякий случай прятал их подальше от чужих глаз. Как-то ночью я проснулся от сильного озноба — снились резиновые игрушки с вздувшимися, отвратительными мордочками. Включил свет. На электронных часах высвечивалось время — ноль часов ноль минут. Я откинул с себя одеяло и опустил ноги на пол.
На полу сидел маленький мышонок и, не шевелясь, смотрел на меня. Я бросил в него сапогом, испытывая брезгливость. Мышонок был похож на резиновую игрушку…
За окнами тихо тарахтел движок — ровно, на одной ноте. Днем этого звука я почти не замечал. Ночью же хотелось вторить ему и выть по-волчьи.
Из-за сильных морозов Гуля перебралась к нам в редакцию — в машбюро политотдела стало очень холодно, и у нее замерзали пальцы. Шанин поставил для нее стол в моем кабинете, где она стучала на редакционной «Москве». Мне было приятно, что эта красивая девушка много часов каждый день проводила в моем кабинете, и я мог незаметно смотреть на нее. Только трудно было сосредоточиться и работать. И вообще, с ней наедине я чувствовал себя неловко. Шанин часто подходил к ней со спины, смотрел, как она печатает, касался ее плеч руками; она, не оборачиваясь, склоняла голову набок, чтобы щекой прижаться к его руке. В такие минуты я старался не смотреть на них, хотя именно в эти минуты меня для них вообще не существовало. Я тихо и абстрактно завидовал Шанину, и он это понимал. Я завидовал ему и… жалел его. Близкие мне люди были очень далеко от Афганистана, и в этом было мое преимущество перед Шаниным. Гуля была свидетелем всех служебных неудач и неприятностей Шанина. Он вообще не мог скрыть от Гули, своей походно-полевой жены, ничего.
Они, как ни странно, часто ссорились. Это напоминало взрыв. Конфликты возникали, как могло показаться, на совершенно голом месте и очень резко и быстро достигали апогея. В службе, в отношениях с офицерами Шанин был сдержанным и спокойным. Но в ссорах с Гулей это уже был другой человек. Он метался по редакции, он лупил кулаками по стенам, он напивался «до дров». Как-то он заперся в нетопленой парилке, попросив меня передать Гуле, что уехал на засаду. Я не мог соврать Гуле, что Шанин уехал на засаду, тоже залез в парилку, где до глубокой ночи мы при свече пили спирт и вслух читали Вознесенского. А потом, спотыкаясь, я несся в женский модуль за Гулей, потому что Шанин стал разбивать свои кулаки о стены, рвать какие-то письма и кричать: «У меня все-таки есть дочь! Это самое главное!! Ты меня понял??» Он пытался обесценить в своих глазах то, что связывало их с Гулей.
Гуля не относилась к тем женщинам, которые требуют, чтобы их долго в чем-нибудь упрашивали. Она оделась за каких-нибудь две минуты и, придерживаясь за мой локоть, пошла в редакцию.
Еще очень долго из кабинета Шанина доносились крики, плач Гули, стук падающих предметов, но запас моих сил иссяк, и, заткнув уши подушкой, я заснул.
Утром меня разбудил Шанин, что бывало с ним довольно-таки редко. Он выглядел, конечно, свежим. Улыбнувшись, протянул мне какую-то книгу. Я раскрыл титульный лист. На нем был нарисован силуэт двух рук: маленькой и большой. Ниже написано: «Андрею в знак благодарности за сохранение семьи. Олег, Гуля». Семьи, правда, тогда они еще не создали — сохранять, таким образом, мне было нечего. И вообще, считал я, ничего страшного между ними произойти не может, при условии, что оба останутся живы и здоровы.
Но гарантировать этого им не мог никто. Чрезмерная концентрация оружия в каком-либо месте всегда создает угрозу жизни человека. Автоматы, патроны, гранаты были, пожалуй, самыми привычными и доступными вещами в гарнизоне. Сомневаюсь, что кто-либо вел учет боеприпасам. В нашем редакционном сейфе хранились три «калаша» «АК-74», несчитаное число патронов к ним и десяток гранат с запалами. Ключи от сейфа носил не Шанин, а начальник типографии прапорщик Володя. Человек он был добросовестный и вполне зрелый, но чрезмерно вспыльчивый, а потому и непредсказуемый. Особенно когда выпивал. А выпивал он часто. Каждый день. Как-то во время ужина тяжелый хлопок ударной волной потряс окна и двери столовой. К подобным звукам офицеры гарнизона привыкли относиться совершенно индифферентно, и я бы не придал звуку взрыва никакого значения, если бы не реплика одного офицера, прозвучавшая подозрительно эмоционально: «В редакции шарахнуло!»
Когда я прибежал туда, Шанин и прапорщик стояли почти вплотную друг к другу у входа в солдатскую палатку.
— Ключи! — зло говорил Олег, и по его голосу я понял, что прапорщик имеет прямое отношение к взрыву.






