Герман: Интервью. Эссе. Сценарий Долин Антон
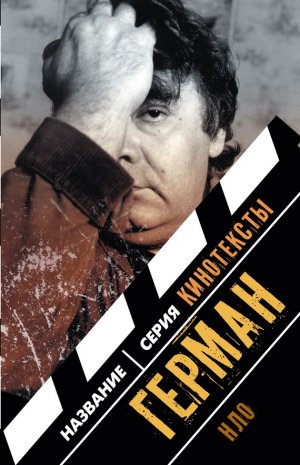
На роль командира партизанского
отряда Локоткова пробовались
Алексей Глазырин
и Евгений Евстигнеев,
но утвердили в итоге Ролана Быкова
Каким тогда было ваше отношение к Тарковскому? Изменилось ли оно со временем?
Когда мы снимали в Калинине, однажды вдруг пришли местные артисты. Пришли и говорят: «Сегодня в пять часов утра в нашем кинотеатре будут показывать “Андрея Рублева”. Скидываемся по три рубля». Абсолютно все тогда было запрещено… Выходим без четверти пять. Идем – ночь, зима, по сугробам бредут люди. Садимся. Полный зал. Думаю: сейчас нам покажут кинохронику, как он писал иконы. Но показывают нечто другое – прекрасного «Андрея Рублева». Выходим, стоит грузовик. В него судорожно закидывают коробки с пленкой, ж-ж-ж-ж – и уехал. Никто, кажется, тогда даже не настучал. Потрясение на всю жизнь.
Для меня с тех пор «Андрей Рублев» – главный фильм Тарковского. «Солярис» – слишком советский фильм. Там пилот Пирс сам не видел хронику, которую привез: не могло такого быть! Я не верю… Все фильмы Тарковского – великие, но только в «Андрее Рублеве» я чувствую, что он по-настоящему залез мне под ребра.
Кстати, с Тарковским я знаком не был. Из моих картин он видел, кажется, только «Двадцать дней без войны». Но довольно много обо мне говорил. Я был для него один из трех или четырех российских режиссеров – вместе с Параджановым и Сокуровым. Он обо мне сказал однажды такие слова: «Это очень хороший режиссер, но он никогда не будет знаменитым». Я попытался однажды ему дозвониться, но глухо молчал телефон: я был тогда во Франции, а Тарковский уже совсем был плох. Просто хотел ему сказать, что здесь его все любят и ждут… Мне казалось, что он почему-то жутко безвкусно одевается – эти длинные костюмы из дешевой материи. Но глупо оценивать его фильмы в категориях «хорошо» и «плохо». Он свое место занял бы даже в том случае, если бы сделал одного только «Андрея Рублева».
Вы упомянули Калинин. «Проверка на дорогах» снималась там?
В разных местах. В том числе на рынке в Черновцах – там снимали Германию, в конце. Только на рынке можно было танки гонять по кругу. Еще снимали на закрытых танкодромах в Солнечногорске. А кроме того, в окрестностях, в лесу неподалеку. Нетрудно было искать натуру: была нужна Россия, Россия, Россия и много русских людей. Ведь и фильм об этом: «пожалейте русского солдата». Есть там эпизод, когда Олег Борисов и Заманский уходят ночью на операцию. А там горит костер, у него какой-то человек играет на гармошке, и танцуют какие-то люди. Что-то в нем было такое тоскливое, что я дал ему играть на гармошке много метров! А на гармошке играл местный спившийся прокурор, который наутро повесился… Что до Калинина, то в его окрестностях мы нашли ту деревню, в которой начинается действие фильма.
Легко нашли?
Наоборот, было очень сложно. Во время выбора натуры группа даже восстала против меня. Они сказали, что не могут столько искать натуру без обеда – и отказываются. Сказали: «Вот столовая, мы уходим есть, а ты хоть увольняй нас на следующий день». Что самое ужасное, ушла и Светка. Я сказал: «Суки, бляди!», – но они ушли. А мы уже полтора месяца к тому моменту искали брошенную деревню, но найти не могли. Слухи были о таких деревнях, а найти их можно было только в тайге. До них и не доберешься. Нам была нужна брошенная деревня, чтобы ее сжечь. Я выхожу из столовой, километрах в двухстах от Калинина, а там сидят на углу мужики. Спрашиваю: «Ребят, а у вас брошенной деревни нет?» Они смеются: «Как раз у нас и есть». – «А где?» – «Да вон там, если перешагаешь через то поле, где говна по пояс, – так сразу за ним».
И я пошел. Один, с палкой. Прошел через невероятную грязь. Не знаю, по-моему, эту грязь должны покупать все европейские страны – она не только вылечивает от всего, она резину расплавляет! И вышел. Хоть плачь – все, что мне нужно! Брошенная деревня. Ни души. Оставленные кувшины, тряпки какие-то висят, огромный продавленный коровник, запустение полное и много домов. Я бегу – а я жирный, с трудом бегу – обратно. Там все пообедали и выходят: «Ну, поехали?» Я отвечаю: «Пешком поехали, суки!» И мы пошли туда все вместе.
Так каждый раз и месили грязь?
Потом на место съемок мы ездили на танках и бэтээрах, поскольку картина была военная. Бэтээры застревали! А еще лучше, чем танк, проходила лошадь. Был у нас прелестный консультант и прелестный дядька – генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза Драгунский. Он очень нам благоволил. Его дружок – генерал, тоже Герой Советского Союза Сабуров – командовал партизанской армией в 35 тысяч человек во время войны, на границе Украины и Белоруссии… Так вот, Драгунский приехал к нам на бэтээре КШ – огромном, высоком, для пушек, – а на нем сверху был ЗИМ. Он пытался руководить нами из ЗИМа, и я с трудом умолил его спуститься вниз, выпить водки.
Снимали в тех условиях, которые обнаружили, или строили свою декорацию?
Сначала мы вызвали охрану, чтобы дома не растащили на дрова: ведь именно по этой причине исчезают деревни в России! Но охрана запивает и сжигает один дом, а там каждый дом на счету. Тогда мы вызываем комбинаторов. Они смотрят и говорят: «Алексей Юрьевич, у вас восемь домов (а они к тому моменту еще один сожгли). Давайте мы вам сделаем двадцать! Мы их привезем и подвесим – точно такие же. Будет перспектива улицы – огромной, длинной, деревенской, засраной улицы. Недорого!» Договорились, они уехали и быстро вернулись. Привезли с собой плоские картонные избы. И вот настает один из первых съемочных дней. Приехала массовка – люди из этих мест, которые все знают, потому что их тут на самом деле бомбили со страшной силой. Как только первый пиротехнический взрыв – крик, ор, истерики, слезы… И побежали к тому же лесу, к которому во время войны бегали. Были среди них и охотники, у которых отобрали лицензии за отстрел лосей. А по всей улице висят эти избушки, грея мое сердце.
Наконец приходит материал. Замечательно бежит массовка, прыгает одноногий мальчик, а в воздухе на толстых веревках висят избы! Иванушка-дурачок какой-то. «Это что такое?», – говорю. «Это потому что мы вам сказали снимать в 12:05, а вы снимали в 12:15. А тут каждая секунда важна». Пересъемка… Опять висят избы! Комбинаторов я выгнал, избы они увезли; ничего совместить было нельзя, и откуда они это придумали – я не знаю. Дальше я помню только, что во всех углах «Ленфильма» стояли эти избы с длинными веревками. Никто их не брал.
Как вы шли к ощущению почти документальной достоверности? Копировали хозяйственную хронику? Как-то особенно работали с декораторами и художниками-постановщиками, с костюмерами?
Во всех фильмах мне очень помогали щиты. Они до сих пор стоят на студии. Щиты, на которых настрижено много-много кусочков из классической живописи. Земной. Бочка брейгелевская, у бочки дядька. Дворец. Сральник. Саночки. Шапочки, перчаточки, сапожки. И классика, и неклассика. Это – к последней картине. Штук сто их было.
У меня таких щитов было полно по каждому фильму. По ранним фильмам – фотографии. Я время от времени должен был к ним сбегать, у них посидеть. Там я понимал, вру я или не вру. В них я или не в них. Надо было напитаться до предела, а потом вернуться и посмотреть на свой кадр: похож или нет? Если нет – снимать заново. Собирать мы их начинали в самом начале. Мы садились за режиссерскую разработку, и специальный человек в это время набирал фотографии. По «Проверке на дорогах» – лица, лица, лица. Мне надо было видеть лица.
А когда мы готовились к «Двадцати дням без войны», это сделал Симонов. Он выступил по телевидению и сказал: «Если у вас на чердаке лежат старые вещи, которые вам не нужны, мы их купим – хотя у нас совсем немного денег на это, но в них снимутся люди, они помогут воспроизвести эпоху. Если есть старые фотографии – несите».
Как мы собирали это все, унижались, платили фронтовым фотографам! Как старались… До сих пор помню фотографию солдата без ноги, который несет сапог – и в нем портянка чистая. А потом на картину «Лапшин» поездом, на платформах, привезли для съемок наш автотранспорт: он был весь обклеен моими уничтоженными щитами – тем, что осталось от «Проверки на дорогах»… Их использовали, чтобы не поцарапать автобусы. Как обшивку. Я ничего не мог сделать. Мне это не принадлежало, картины были выброшены на помойку. Был приказ: «Фильм изъять, всех виновных в изготовлении строго наказать».
А как вы одевали партизан – в соответствии с немецкой хроникой?
Для «Проверки на дорогах» у нас было еще довольно мало старых вещей. И я не сразу осознал, что партизаны у нас в фильме ходят как-то не так одетые. В какой-то момент мне удалось узнать от партизан, что те, как они сами сказали, «были на довольствии у румын и немцев». Но это было категорически запрещено снимать фотографам! Чтобы сфотографировать, их переодевали. А мы переодевали партизан обратно. На человеке обязательно должны были быть немецкий китель или цепочка, еще побрякушка какая-нибудь. Сапоги, брюки офицерские. Были перемешаны яркие элементы костюма. У нас, к счастью, были и румынские, и немецкие, и венгерские костюмы, были кожаные куртки, были советские офицерские костюмы.
Помню, в какие смешные вещи я влипал. Стою и рисую российский триколор на каске Заманского – это был символ освободительного движения. Светлана подходит и спрашивает: «Что ты делаешь?» Я говорю: «Триколор рисую». Она отвечает: «Нет, гляди глубже. Ты кладешь нашу картину на полку». Говорю: «Знаешь, они такие серые, они ничего не знают – что такое полустертый триколор?» Но они все знали. Даже знали, что лакированный козырек Петушкова – как я его ни маскировал под артиллериста – обозначает, что он из НКВД. У них у всех были лакированные козырьки.
Единственная серьезная накладка в «Проверке на дорогах», которой я сейчас очень стыжусь, – это немцы-эсэсовцы в черных шинелях. На самом деле на операции эсэсовцы в черных шинелях не ходили – они ходили в общевойсковой форме. Обидная штука. Я ведь с самого начала вместе с художником по костюмам принимаю одежду каждого человека, включая массовку.
Помимо неточности в костюмах, которую мало кто заметит, кроме вас и некоторых историков, «Проверка на дорогах» имеет еще одно принципиальное отличие от ваших последующих картин: закадровая музыка.
Музыку к фильму писал Исаак Шварц. Не могло быть и речи о том, чтобы не он писал мне музыку! Он был мой довольно близкий дружок. Я его очень уважал за музыку, хотя он был халтурщик – писал невероятно быстро… Впрочем, Пушкин тоже, возможно, был халтурщик. Один халтурщик может написать «Не обещайте деве юной…», а другой не может. Исачок был наивный. Он развелся со своей женой Соней – маленькой и толстой, а его дочка родила ему внука-негра. Сумасшедший дом. Шварц при мне дико кричал на Гришку Аронова – обвинял его в том, что тот скрыл секрет: оказывается, можно, когда ты спишь с женщиной, закрыть глаза и представить себе другую! Этим, собственно, занимаются все – от индейцев до жителей Крайнего Севера. Но Шварц был возмущен: «Идиот! Я бы никогда не ушел от Сони. Я бы закрыл глаза и всех перетрахал».
Шварц написал музыку – ну, разошелся! Симфония. Куда ни подставляю, все гадость. У него еще сложились жуткие отношения со Светкой: она сказала, что от его музыки не совсем падает в обморок от счастья. Я так сделал, что Шварца увели, и взял два кусочка замечательной музыки – немножко украденной у Малера, правда. Поставил музыку в начале, когда угоняют коров, и в финале, когда они катят машину, которая не может завестись. Только эти два кусочка поставил из всей шварцевской музыки. Я считаю, что правильно сделал. Музыку я подобрал замечательную, хотя никто не обращает на нее внимания. Какая потрясающая музыка! Но Шварц обозлился – не то слово. Он вошел на худсовет, подошел ко мне и говорит: «Я знал, что у вас обрезают, но чтоб так обкорнать!» Повернулся и вышел, стуча по полу каблуками. Через некоторое время он извинился, и мы полюбили друг друга обратно.
Полюбили – но вместе больше не работали. Почему?
На «Двадцати днях без войны» он тоже должен был писать музыку. Но я перед этим посмотрел «Дерсу Узала» Куросавы, и музыка Шварца там мне жутко не понравилась. Я позвонил Исааку и сказал: «Исачок, нас судьба развела. Мы должны любить друг друга, но не работать друг с другом. Ту музыку ты написал замечательную. Но когда на секундочку мне приходит в голову, что хотя бы четыре ноты из этого твоего Куросавы ты вставишь мне в “Двадцать дней без войны”, мне делается худо. Давай не будем вместе писать?» «Ну давай не будем!», – дико обрадовался Исаак. С тех пор мы любили друг друга на расстоянии, но работать с ним больше я не хотел.
Я тогда решил, что вообще без композитора обойдусь. Я всегда помнил замечательную фразу Товстоногова, от которого я ничего не взял как от художника, но который научил меня парадоксальному пониманию искусства: «Если в спектакле есть одна фраза, которую нельзя положить на музыку, в этом спектакле музыка не нужна». Так я и решил. В «Двадцати днях без войны» музыка может быть любая, но не композиторская. Взял инспектора оркестра, назвал его композитором, а музыку собрал всю сам.
Когда вы поняли, что «Проверка на дорогах» – крамольное кино, которое не пройдет цензуру? Или это было очевидно с самого начала?
Мы снимали «Проверку на дорогах» и показывали материал на «Ленфильме». Меня все время хвалили! Поэтому момента, когда я из обласканного режиссера превратился в суку подлую, я как-то даже не заметил. После просмотра в обкоме встает человек и говорит: «Я – директор таксомоторного парка № 9. Мы выполнили план по горюче-смазочным материалам на 101 %, а по экономии ветоши – на 100,6 %. Мы получили благодарность от ЦК профсоюза нефтяников. И мы категорически возражаем против того, что герой – шофер такси! Это клевета! Наши таксисты с утра до вечера верно обслуживают советский народ».
Я говорю: «Это таксисты – самые лучшие люди у нас? Я от Московского вокзала ехал до канала Грибоедова, у меня было 50 копеек. На 49-й копейке он выключил мотор и потребовал, чтобы я покинул машину. С таксистами надо работать, работать и работать». Толстиков тогда говорит: «Картина несовершенная, мы ее принять так сразу не можем. Надо думать. Но в чем Герман прав – так это в том, что такси у нас в городе работают плохо, и на них много жалоб. Какой у вас таксомоторный парк – девятый? Поставьте этот таксомоторный парк на бюро обкома». Мы выходим в коридор, и тот идет, а рядом какой-то зам: «Иван Иваныч, ну какого хуя ты полез, теперь же копнут и снимут тебя!» И я говорю: «Да, Иван Иваныч, какого хуя ты полез, а? Таксисты – не таксисты, что ты в кино понимаешь? А кем герой может быть? Мотористом? Летчиком? Швеей?» Он отвечает: «Герман, мне и картина понравилась! Это я, старый дурак, перед пенсией решил выпендриться, про себя напомнить. Понимаешь, орден очень хотелось… А теперь выгонят». Не знаю, чем кончилась его судьба, но моя кончилась плачевно.
Полным и окончательным запретом?
Ненавистью. Меня жутко ненавидели, хотя я, как сказано в Энциклопедии отечественного кино, не был ни диссидентом, ни формалистом. Не понимаю, за что. Может, дело в том, что я был с ними как-то брезглив? На каком-то этапе я понял, что мне никогда не договориться с Советской властью. Никогда.
Однако были люди, которым я благодарен до сих пор. Секретарь обкома по идеологии, член ЦК Зинаида Михайловна Круглова – реакционная женщина по всем показаниям – мне просто жизнь спасла, когда на меня покатилось все с «Проверкой». Ей почему-то не захотелось, чтобы фильм закрывали. Или я ей понравился, не знаю. Или картина понравилась. Она меня пригласила, чаю налила. Штрафного человека, которого выгнали с «Ленфильма», поила чаем! А потом сказала: «Знаете, это же не вы написали, а ваш папа! Потом сценарист Володарский… Это не вы настояли, что будете это ставить. Вы предложили, они согласились и дали вам. Дальше вы выполнили задачу на пять с плюсом. Кто виноват? Тот, кто разрешил вам выполнять эту вещь на пять с плюсом, а не вы. Я перечитала первоисточник, в сторону вы не отклонялись». Благодаря ей меня не заменили на режиссера Казанского, который бы изрезал картину змейкой: она запретила и приказала: «Работайте с Германом». Я же тем, кому она приказала, ответил: «Всех вас когда-нибудь выгонят, а я ничего больше с картиной делать не буду».
Хочу еще сказать, что главным редактором Первого творческого объединения была прекрасная, умная и честная женщина, плечо которой мы всегда ощущали и с которой дружим до сих пор – Фрижетта Гукасян. Сколько она из-за меня вынесла… Спасибо ей.
Несмотря ни на что, все-таки картина легла на полку.
Картину не принимали. Она поехала в Москву и встретила такой бешеный отпор, что его смысла я не понимаю до сих пор. Раз не принимают, два не принимают, орут, говорят: «К прокурору!» Со мной к начальству ходили Герасимов и Симонов, за картину вступились партизанские генералы Карицкий и Сабуров, дважды Герой Советского Союза Драгунский, нетитулованные партизаны… А еще Хейфиц, Козинцев, Товстоногов: мы поссорились с ним, когда я уходил из БДТ, он со мной много лет не разговаривал, а помирились на подпольном просмотре «Проверки на дорогах».
Все писали письма в ЦК, в Москве меня ненавидели, но возникла заминка. Вдруг Всесоюзное идеологическое совещание, там выступали Демичев – еще секретарь ЦК – и Суслов. Один из них сказал: «А на “Ленфильме”, словно бы в пику “Освобождению”, сделана картина, из которой получается, будто война у нас шла в своих окопах. Сделал ее такой Герман. Вы, товарищи, эту картину не видели – и не увидите». Не помню, была ли картина названа антисоветской. «Проверка на дорогах» была строжайше запрещена, запрещена насмерть. Я должен был пасть, а картина легла на полку. Нам приказали покинуть Москву в двадцать четыре часа.
Вообще-то полка была делом чести. Лечь на полку – это было еще не так просто! Это было то же самое, что для индийского сипая получить расстрел из пушки, а не повешение, которого они боялись больше всего. Ведь для полки был нужен общественный шум, а еще – признание того, что ты снял художественное произведение. Если ты этого не добивался – даже если твое произведение было расхудожественным! – тебя любой мудак резал, склеивал все, что надо, в итоге – полная херня, а ты получал четвертую категорию и позор, поскольку фильм выходил под твоим именем. Я сильно переживал, когда «Проверка на дорогах» легла на полку. Светка говорит, что я месяц пролежал, отвернувшись к стенке. Может быть, преувеличивает. Мне-то кажется, что не месяц, а дня три.
Вы сказали «подпольный просмотр». А что позволило устраивать такие просмотры? Это же было опасное дело?..
Я уже был не пальцем сделанный – заранее понимал, что фильм ляжет на полку. Что делать? Мы приезжаем туда, где печатаются копии: одну-то надо было напечатать! Печатает копии такой Боря Лобанов. Привозим туда багажник водки и начинаем спаивать цех. Когда цех весь уже качается, мы бракуем части, а бракованные части Боря Лобанов относит в машину. Они на самом деле не бракованные, они – самые хорошие. Таким образом мы делаем копию, увозим себе, прячем под кровать. И начинаем просмотры. Чаще всего – на киностудии имени Горького, в Москве. Их помогал там устраивать режиссер Илья Гурин: он фильмы по папиным книгам снимал, он папу любил. Он был хорошим человеком, он меня жалел. Будучи секретарем партийной организации студии, он поздними вечерами устраивал просмотры, на которые являлись разные люди. В том числе большие чины.
Другие серии просмотров нам устраивал тот самый генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский, который был консультантом на картине. Он при Сталине был командиром корпуса – то есть трех дивизий! – но по чину был полковником. Тогда он подписал заявление об уходе из армии, а танкист он был исключительный: дважды Герой Советского Союза, он еще и имел Большую сионистскую звезду «Самому храброму еврею Великой Отечественной Войны», которую присуждает международный Еврейский комитет.
Прелестный человек. Была у него жена Женя – хохлушка, называвшая его Димой. Она нас кормила, обогревала – у них в гостях мы все время что-то пили и ели. Все бы хорошо, но он был старше ее лет на двадцать пять. И всю жизнь коллекционировал рога – в Сибири, в Закавказье. Однажды я вошел к нему на веранду и увидел, что вся стена в рогах, а рядом молодая Женя в китайском халате с драконами и с украинской косой… Редкостное было зрелище. Им мы благодарны на весь остаток нашей жизни.
Были на ваших просмотрах простые, неискушенные зрители – обычные советские люди? Какой была их реакция?
На одном из показов, где картину смотрел Товстоногов, вдруг оказался и Ролан Быков, который тогда был в Ленинграде. Он картины не видел и примчался на просмотр, а рядом с ним была огромная тетка в белом грязном халате в обтяжку, весь в штемпелях. Ролан ко всем бегал и говорил: «Двадцать пять рублей, утром отдам». Я всем сказал: «Не давайте – он и рубля не отдаст». Я Ролана очень любил, и он меня тоже, как потом мне сказала Лена Санаева, но отношения у нас были очень напряженные. Потом выяснилось, что эта тетка – заведующая матрасами гостиницы «Ленинград». Ролан пьяный заснул с сигаретой и прожег в матрасе огромную дыру. Она его не выпускала смотреть картину, пока он не отдаст двадцать пять рублей за матрас. Он взял ее с собой как зрительницу, надеясь на просмотре добыть деньги. Но она растрогалась, картина ей понравилась, и она вообще простила Ролану этот матрас.
Когда фильм уже лег на полку, кто-то попробовал как-то этому противостоять?
Инициативу проявил Лев Копелев, с которым я довольно долго до этого дружил – ведь Светлана была его аспиранткой. А тут я на него здорово обиделся. Однажды раздался звонок в дверь, и вошли два корреспондента «Нью-Йорк таймс» брать у меня интервью в связи с тем, что легла на полку «Проверка на дорогах». Их прислал Лева, с адресом и телефоном. Это было совсем не дело! Это было мое дело – вызывать или не вызывать «Нью-Йорк таймс». Ведь мне тогда звонили и Солженицын, и Белль, но я от всего отказывался.
Может быть, это меня тогда и спасло, как ни странно. Именно тогда было решено меня перевоспитывать. За меня заступалось очень много людей, они утверждали, что я талантливый человек. Собрали ЦК и приняли решение: «Он не придумал, не сочинил, не обманул, а снял то, что было напечатано в повести. И снял весьма хорошо. Его надо перевоспитать в советского кинорежиссера, а не уничтожать. Работа над ним поручается Константину Михайловичу Симонову и Александру Васильевичу Караганову». Вот такое постановление было принято. А директора «Ленфильма» – вообще-то хорошего человека – уволили со студии.
Каким же образом проходило перевоспитание?
Мне сразу предложили сделать фильм по стихотворению Симонова о Мате Залке. Совместный с Венгрией и Испанией! Они покупать умеют… Я все это прочитал, и Симонов нас свел с резидентами в Испании, которые рассказали нам историю испанского золота. Но мне не очень хотелось снимать о Мате Залке. Мне рассказали, что он в России был комендантом писательского общежития и все время гонял Мандельштама из комнаты в комнату. И стал мне Мате Залка неприятен.
Да и потом Симонов мне сказал: «Леша, я взялся вам помогать, потому что мне понравилась ваша картина. Но я не хочу себе на всю жизнь нажить проблем с картиной об испанском золоте. Вы себе представляете, во что вы меня втягиваете? Завтра в девять утра я вам даю десять названий. Одно из десяти вам подойдет – из него мы и будем делать кино». Наутро я явился к нему и увидел этот список. Тоска, ничего поставить было нельзя. Зубодробительно неинтересно.
Тогда вам и попались на глаза «Двадцать дней без войны»?
Эта повесть как раз тогда вышла. Были у Симонова и другие вещи про того же героя, Лопатина – более ранние и более интересные. Но мне начал ночью сниться южный город, засыпанный снегом, в котором живет женщина то ли русской, то ли прибалтийской внешности, не приспособленная к снегам. Живет с маленьким ребенком. Такая Демидова. И герой туда приезжает, у них роман в ужасном, голодном, стылом городе. И это будет хорошо. Я подумал: «Ташкент зимой, мороз… Засыплю среднеазиатский город снегом!» Была у меня еще идея снять вообще весь фильм в поезде. Как герой встретил там летчика-капитана, потом женщину, влюбились, трахнулись, доехал до Ташкента, получил телеграмму и поехал обратно. История, в которой ничего не произошло.
В общем, я дал телеграмму из Коктебеля Симонову, что все его предложения не годятся, но я готов снимать «Двадцать дней без войны». Он очень обрадовался, вызвал нас в Ялту, в свою правительственную резиденцию с лифтом и фонтаном… И мы начали писать.
Что-то изменили, что-то оставили – любовь он писать не умел, это было достаточно грубо. Светлана сначала плакала, не хотела, устраивала скандалы, говорила, что мы пропали и поставить это нельзя. Но мы взялись за работу. Мы должны были написать сценарий, а Симонов – его выправить. После этого Симонов вдруг вызвал Светлану – у нас тогда денег совсем не было, – и она принесла чек на десять тысяч рублей. Он ей сказал: «Я этот сценарий не писал, я не хочу быть черным человеком. Как автор книжки беру свою часть, а вам, как авторам сценария, – эту». И отдал деньги, хотя мы об этом не договаривались.
Да, Симонов в вашей судьбе явно не был черным человеком.
Он был сложным человеком, но в нашей судьбе он был просто спасителем. Спас он многих – не только нас. Но для нас он был очень многим. Очень. Я знал его с раннего детства. Он с папой работал еще в Полярном. Помню, как Симонов в нашей ленинградской квартире стоит около окна с мамой. На Марсовом поле тогда фонари не горели. Ночь, очень сильный дождь. Ставни открыты, очень крупные капли дождя на стеклах, будто глицериновые. Перед ними – полная тьма. Стоят они у черной бездны – просто дантов ад! Мама, которая почему-то очень боялась Симонова, говорит: «Не правда ли, Костенька, похоже на Париж?» Какой Париж?! Дыра черная! Но Костя говорит: «Ну что вы, Таня! Гораздо красивее, гораздо красивее». Помню, я услышал их и испугался. Я подумал, что они сошли с ума.
Симонов принимал активное участие в подготовительном и съемочном процессе?
Он, например, на съемках начал нам объяснять, что у Лопатина должна быть потрепанная кобура. Тогда я на него заорал: «Константин Михайлович, давайте не будем путать! Вы не воевали под Сталинградом. Вы там были, и один раз вам разрешили дать очередь из пулемета в сторону немцев. Вы не плавали на подводной лодке. Вы на ней плыли один раз к румынским берегам – это тоже подвиг, но все-таки вы не солдат Великой Отечественной! Знаете, какая была паника, когда в часть приезжал даже корреспондент из армейской газеты? А вы из самой главной газеты в стране приезжали. Будете мне ерунду рассказывать – я вам расскажу всю правду про партизан. Как они финнов накалывали на борону. Как в тридцатиградусный мороз наливали пленному в сапоги воды, выставляли на холод на два часа, а потом уже с ним разговаривали».
Очевидно, он вам не только мешал, но и помогал? Как-никак фронтовой корреспондент, повесть отчасти автобиографическая.
Когда мы с Симоновым работали, он нас возил в архив КГБ под Москвой. Мы по дороге работали. Он на магнитофон наговаривал, что нужно сделать, а потом проводил нас в этот архив через четверо ворот. Нас запирали в комнате, где мы могли читать, что хотели, а потом ехали обратно – и по дороге опять полтора часа работали.
Симонову было нужно узнать о судьбе несбиваемого капитана Арапова, получившего три ордена Красного Знамени. Дали ему ордена за то, что он нашел три наших армии, отбившихся в наступлении под Москвой. Симонова удивляло, что человек с тремя орденами Красного Знамени, кончивший Высшее летное училище, любимец Жукова, до смерти в 1943 году всю войну пролетал на У-2 и как был капитаном, так и остался. И в деле КГБ на Арапова он прочитал надпись красным карандашом на полях: «Утверждал, что Троцкий, хотя и сволочь, замечательный оратор». Если бы Арапов не погиб в воздухе, он в 1945-м бы сел.
Кто еще кроме Симонова был вашим консультантом на той картине?
Многие пытались. Скажем, вызывал меня Павленок и читал мне лекцию, как надо снимать фильмы о войне и как надо показывать фронтового корреспондента. Я подумал-подумал и все отдал консультанту на Ташкентской студии. Так в фильме появилась сцена, где Никулин спрашивает консультанта на съемках: «А вы на войне были, товарищ консультант?» – «Нет, а какое это имеет значение?» – «В нашем деле решающее». После этого Павленок меня возненавидел лютой ненавистью.
Откуда пришла идея ключевой, самой радикальной сцены фильма – монолога летчика-капитана?
Симонов нам предоставил живородящий источник. Он, когда приезжал из фронтовых командировок, все записывал и даже прятал. На его записях куски глины и травы прилипали к листам. Именно там были прекрасные записи о летчике-капитане, который Лопатину кулеш варил, брил его, стелил постель… Стал его рабом на несколько дней. Симонов нам все это отдал, и тогда появился этот эпизод с летчиком-капитаном. Тот же эпизод был им самим описан в журнальном варианте повести.
Я очень хотел поработать с Евгением Леоновым и роль летчика-капитана предложил ему. А еще Ролану Быкову, Шукшину и Петренко, который ее в итоге и сыграл. Остальные трое отказались ехать в Среднюю Азию. Ставь вагон здесь, он качается, сзади крутится среднеазиатский фон! А лететь туда… У Леонова было плохое сердце, Шукшин снимался. Кстати, Шукшина Симонов предложил – он ему первый и позвонил. Шукшину показали «Проверку на дорогах», они с Лидой в финале очень плакали. Шукшин тут же куда-то убежал и принес обратно книжку, которую нам со Светкой подписал – какие мы настоящие. Он пригласил нас в гости. На стол поставил огромную бутылку водки, черную икру и масло. Но мы не договорились. Я не мог это снимать нигде, кроме как в настоящем поезде. Это – 30 % успеха. А Шукшин тогда набрался и ответил на мой вопрос об антисемитизме одной фразой, которую я запомнил: «Я не антисемит, просто Хейфица не люблю».
Оставалось двое, оба сыграли блестяще: Петренко и Ролан Быков. Быков маленький, в какой-то кожаной куртке – сразу понятно, за что жена бросила. Но… Там сыграл, тут сыграл: неинтересно. Оставался Петренко. Как сыграть, я его выучу. Задача же была в том, чтобы 310 метров проговорить, и никто бы не зевнул. Удержать зрителя в одном положении, не потеряв напряжения. Там только один есть надрез, а все потому, что Петренко выматерился.
Я написал тогда моей монтажерше Евгении Андреевне Маханьковой, чтобы вырезала «еб твою мать». Очень была талантливая, меня уважала и боялась как огня. Приезжаю месяца через два из страшных степей, а мне навстречу по коридору бежит маленькая Евгения Андреевна с папиросой. И на весь коридор кричит: «Алексей Юрьевич, увольте меня, я недостойна быть монтажером и недостойна работать даже с таким молодым режиссером, как вы!» Что случилось? «Я потеряла “еб твою мать”! Все время носила в сумочке, чтобы не пропало, не дай Бог. Кто-то специально вытащил и выбросил, чтобы вы меня уволили!» Я говорю: «Евгения Андреевна, ну что поделать…» Она спрашивает: «Вы же будете озвучивать?» А я ответил: «Нет. Это озвучить нельзя. А если можно, то только первые четыре фразы. Дальше – нет». Мы поставили там пружины, поролоны, но звук весь записан синхронно. Этого тогда никто не делал, но я не мог иначе.
Эта роль Петренко – совсем маленькая, но, пожалуй, одна из лучших у него.
Монолог он записал с дубля, наверное, двадцать пятого. На пробах получилось обалденно, но потом он подойти к этому уровню уже не мог – с этим поездом, холодом, степью за окном, огоньками в степи повторить пробу был не способен. В один прекрасный день он мне говорит: «А ты знаешь, что у меня не все хорошо с головой? Я время от времени лежу в психиатрической больнице». Может, фокус такой придумал, чтобы от меня избавиться? Он потребовал его быстрее снимать. И последние трое суток мы снимали его без перерыва. У оператора Валеры Федосова на объективе камеры была такая резинка – так ему резина за это время въелась в кожу вокруг глаза так, что мы потом его неделю оттирали. Сняли мы так три дубля. Через один прошла царапина, второй тоже был испорченный, а третий мы взяли…
Долго считалось, что Петренко играл в «Агонии» у Климова и у Рязанова в «Жестоком романсе», а мой фильм – такой эпизод. Но через много лет, когда мне что-то вручали в Сочи, Петренко сказал мне на ухо: «Моя лучшая роль – в “Двадцати днях без войны”, и не думай, что я этого не понимаю».
В момент выхода картины этого не оценили?
По техническим причинам! Когда картина вышла, Ирина Павловна Головань мне сказала: «Алексей, я захотела похвастаться перед мужем и повела его в кинотеатр на “Двадцать дней без войны”. На монологе Петренко с экрана неслись хрюканья. Я не разобрала ни одного слова. Можете мне объяснить, в чем дело?» Я ответил: «Ирина Павловна, все очень просто. Я только что проехал с картиной Литву, Латвию и Эстонию, показывал картину там в кинотеатрах. Стоило пересечь границу, и все стало идеально слышно! Каждому киномеханику полагается некоторое количество спирта, чтобы протирать звуковые головки – иначе не будет слышно. У нас профилактика не делается, а спирт выпивается. Что тут сделать? Только что в ленинградской гостинице лифт задавил человека. Бросились проверять. Выяснилось, что у каждого лифта каждые две недели необходимо проводить профилактику, а у нас ее не делали год – и не собирались, потому что она денег стоит. Я не виноват в том, что дяденька-киномеханик раз в две недели говорит: “Ну, ваше здоровье!” Возьмите за руку Советскую власть, разберитесь. Возьмем револьверы, пойдем по кинотеатрам – тогда, может быть, что-нибудь и услышите». Кстати, потом по телевизору все было прекрасно слышно.
Летчик-капитан – важнейший персонаж, но все-таки главный – Лопатин. Никулин.
Лопатина Симонов так написал, что отказываться от написанного было бы глупо. У него Лопатин – человек в сапогах со слишком широкими голенищами и в очках с треснутой линзой. Когда было холодно, он надевал две шинели – это уже был перебор. Человек, вообще-то похожий на монгольского продавца шерсти. Можно ли после этого пригласить какого-нибудь Тихонова? С другой стороны, я причинил всем немало беспокойств с предыдущей картиной. Так что меня вызвали к Ермашу и зачитали бумагу: мне покажут двадцать картин, и из них я буду должен выбрать мужчину и женщину для фильма. Садимся со Светланой и смотрим. Одна гаже другой, один гаже другого. Тогда же нам показали картину «Иванов катер» с Вельяминовым, запрещенную, и мы специально вызвали Симонова. Но он сказал: «Не втягивайте меня в вытаскивание картин с полок – я сейчас занят тем, чтобы опубликовать “Мастера и Маргариту” Булгакова! А вы что здесь делаете?» Я сказал, что нам велено выбрать героев, и вряд ли мы их выберем. Симонов сходил к Ермашу, вернулся и сказал: «Можете идти домой».
И вот какая странная вещь – нам со Светланой почти одновременно стукнул в голову Никулин! Это произошло на углу Садовой и Невского, мы друг другу сказали: «А если Никулин?» Мы стали обсасывать эту идею. Пошли к Симонову; разговаривать с Никулиным без Симонова было бесполезно. «Вот, Константин Михайлович, у нас один кандидат – Никулин; если вы не соглашаетесь, другого кандидата нет». И он говорит: «Замечательно!» Дальше мы позвонили Никулину и пришли в цирк. Леопардов водят, воняет кошками. Поднялись, увидели старого сморщенного человека, совершенно не похожего на нашего Лопатина. Мы перетрусили, начали его разглаживать и молодить зачем-то. Мы ему специальные нитки натянули, чтобы лицо разгладилось; оно разглаживалось, но при каждом повороте рот кривился, как будто у него был инсульт.
Но потом отказались от этих ухищрений?
Когда Никулин вошел в команду, он пробовал все. Приезжал, уезжал, надевал разные гимнастерки, прикидывал разные слова. Мы над ним, конечно, измывались. А он рассказывал про цирк, острил, и было уже понятно, что сниматься будет именно он. Но что произошло в Госкино! Хиросима и Нагасаки. «Никулин? Ни за что!» Симонов написал им письмо: «Каким на экране будет Жданов – это решать вам, но Лопатина написал я, и каким должен быть Лопатин, это мое авторское дело. Вы можете Никулина запретить, и я выйду из коллегии Госкино». Он был кандидатом в члены ЦК, и никому не хотелось скандала. На нас закрыли глаза: сказали – посмотрим, подождем первого материала.
Был важен тот факт, что Никулин сам был фронтовиком?
Он всю войну провоевал: сначала Финскую, а потом Великую Отечественную. Очень страшно воевал – на огромных пушках. Он это скрывал вообще-то, но один раз мельком мне показал. Эти пушки стояли недалеко от Ленинграда. Все, кто на них работал, ослепли весной – куриная слепота. И на каждый расчет прислали одного зрячего артиллериста: человек на восемь-десять. Все делалось на ощупь, зрячим был один наводчик. Только русские так могут воевать! Это Брейгель какой-то. Никулин рассказывал, как тот за руку вел весь расчет поесть, потом – к пушке…
Войну он кончил, по-моему, старшиной. Когда снимали военный эпизод, он спросил: «Можно я крикну: “Сейчас располовинит”?» Я говорю: «А что это такое?» – «Это когда вилка: сначала недолет, потом перелет, а потом в тебя бомбой целятся». Я сказал: «Кричите». Симонова потом слово «располовинит» привело в восторг.
На Гурченко тоже вы настаивали? Или она стала плодом компромисса?
Люся Гурченко, кстати, говорила, что с Никулиным играть не будет, ее еще долго уговаривали! Ее я пригласил только потому, что Симонов не хотел, чтобы я брал Демидову. Я Демидову переснимал раза четыре, но все было безнадежно – у него было, что ли, какое-то указание из КГБ, чтобы Демидову не брать? Мне он говорил только одно: «Она похожа на Серову, а Серову я ненавижу так, что будет подыхать – не подойду». Я, кстати, не думаю, что он так ненавидел Серову, хотя она его позорила; развестись он не мог, пока не умер Сталин, но она была добрая, многим помогала…
Симонов сказал: «Кто угодно, только не Демидова». – «Кто угодно? Даете честное слово? Тогда – Гурченко». Я знал ее еще с «Рабочего поселка», я знал, что она – прекрасная артистка. Мало кто об этом знал, все только знали «Пять минут» и то, что она наша шансонье. Правда, Володю Венгерова она побаивалась и тогда еще не набрала вершин славы, а теперь набралась. Я представить себе не мог, чего мне от нее предстоит натерпеться. В общем, так или иначе, у нас были герои. Мужчина и женщина.
То есть других женщин не пробовали?
Пробовал. Алису Фрейндлих. Она уж и забыла, наверное. Помню, она надела ботики из какого-то непонятного белого материала и сказала: «Бедная моя мамочка!» Вот это мне очень важно было слышать. Вещь, если она прирастает, неслыханно, колоссально помогает артисту не наврать. Она делает человека. Даже можно артисту сказать: «Ты посмотри, какой у тебя веер! Посмотри, какие перчатки! Зачем же тебе врать, зачем разговаривать так, как люди в таких перчатках и с такими веерами не разговаривают?»
Фильм снимался в Ташкенте. Сложно было там съемки организовать?
Был у нас в Ленинграде такой режиссер Искандер Хамраев, родом из Узбекистана. Он нам должен был показать Ташкент, но был потрясен: кончилось тем, что мы ему показывали город! Там были уголки, о которых он не подозревал, а мы – знали; так мы прочесали Ташкент. Все нашли, все раскрутили.
Дальше в Ташкент поехал замдиректора Веня Рудер, которому мы дали указание: ни в какие разговоры с обкомами, райкомами и горкомами не вступать, сценарий никому не давать. Но как только Веня туда приехал, его тут же начали разыскивать! Дело в том, что Симонов понимал, что нам не вытянуть эту картину. Он сразу вышел на Рашидова – царя всей Средней Азии. Тот обещал помочь. Приехал и потребовал, чтобы ему нашли группу… а группа, следуя моим указаниям, выписалась из гостиницы и залегла на дно. В результате, когда мы приехали, не было готово ничего. Веня трясется: куда бы он ни приехал, его преследуют люди из ЦК. Мы в полной растерянности. А в Ташкенте – зима! Снег, мороз… Все, что мне нужно; такое бывает раз в семь лет.
Вдруг у меня раздается телефонный звонок. «Моя фамилия Жуков, я помощник товарища Рашидова. Вы можете приехать?» Ну, как я могу не приехать? Меня начинают быстро одевать, а оттого, что я там ел лагман, я растолстел, и штаны лопнули на две части. Как мне их зашили, я не знаю, но шевельнуться не могу. Беру Никулина для поддержки, и мы едем к царю.
Царь вызывает секретаря по идеологии и говорит: «Вот способный человек, он будет снимать фильм о нашем городе. Какие вопросы?» Я говорю: «Нам ничего не дают здесь! Дали старые вагоны, там все прогнило и загажено, а денег требуют, как за новые вагоны с бельем!» Рашидов кричит: «Приехали москвичи и ленинградцы – друзья республики! Позоришь республику, пойдешь на хуй! Вычистить вагоны, вымыть, покрасить…» Я говорю: «Не-не-не, не надо красить…» – «Не красить!..»
Помогла вам дружба с Рашидовым?
Еще как! Пошла совершенно другая жизнь. Рашидов ведь был еще и писателем; так вот, он подарил мне свою книжку. А в книжке написал: «Моему другу и брату с надеждой на последующую совместную работу». Я приезжаю, показываю это Светке, а в этот момент по лестнице поднимается директор гостиницы: кагэбэшная сволочь, полковник в отставке. Его боятся все – откажет от гостиницы, и все. Я говорю: «Можно вас на минуточку?» – «Меня?» – «Вас, вас». – «А почему вы не можете подойти?» – «Потому что вам надо подойти!» Он подходит: «Ну что?» Говорю: «Какой замечательный человек Рашидов!» – «Я знаю, да. Вы меня для этого звали?» Отвечаю: «Да нет, он мне книгу подарил – вот, хотел показать, похвастаться при жене. Почитайте посвящение». Он читает, закрывает, поздравляет нас и быстро уходит. Светлана доедает лагман, мы поднимаемся по лестнице – и видим, как нам в номер несут ковры. Сзади идет какая-то маленькая худенькая узбечка, которая несет на вытянутой ладони телефонный аппарат. У нас телефон и так был, но набирать надо было через восьмерку, а этот аппарат специально сняли из бухгалтерии – он прямой. Чтобы я свои пальчики не утруждал лишней цифрой. А мне в Ташкенте звонить некому – абсолютно.
С чего начались съемки на железной дороге?
Мы начинали снимать в Джамбуле. Это город, переполненный выселенными. Чеченцы, черкесы, курды. На наш поезд все время нападали. Мы с Люсей заходим поужинать, и вдруг – страшный удар в окно, сыпется стекло, грязная маленькая ручка влезает в окно, хватает копеечный приемник и исчезает. Наутро приезжает полковник – начальник джамбульской милиции. Мы с ним гуляем, он говорит: «Алексей, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что было бы в России, если бы из каждого крана тек бесплатный портвейн?» Я отвечаю: «Честно говоря, хреново было бы, спилась бы Россия». Он говорит: «А анашу видели когда-нибудь? Вот – вся железная дорога, на многие километры, в анаше. Что я могу сделать с курдами? Анаша стоит рубль за две сигареты. Курды накуриваются анашой и идут на дело».
В итоге в каждом тамбуре у нас стоял милиционер с пистолетом. Так и ездили – триста километров туда, триста километров обратно. Как-то раз милиционеры устроили стрельбу: стреляли по большим операторским лампам. Но попасть не смог ни один милиционер. Попал во все мишени только Никулин.
Директор железной дороги устроил нам прием, на котором даже было разрешено присутствовать двум женщинам – Светлане и Гурченко, хотя вообще-то это не полагается. На этом приеме Никулину вручили баранье ухо, чтобы съесть, а мне принесли что-то… В ужасе смотрю, а Никулин говорит: «Это глаз с бельмом». Мне стало нехорошо, а Светлана встала и говорит: «Пожалуйста, эту вещь положите на шкаф – мой муж сейчас упадет в обморок». Они посмеялись, но полагалось-то мне в рот засунуть эту штуку! Глаз я еще как-то мог, но с бельмом…
Оскорбление они стерпели. Ведь у нас Симонов командовал, и нашим консультантом по железным дорогам был генерал Гундобин – первый заместитель министра путей сообщения СССР. Так что после съемок директор железной дороги подошел ко мне и сказал с сильным узбекским акцентом: «Хочу выразить вам глубокую признательность. Я никогда не выполнял здесь план и к концу года получал выговор. Но благодаря вам мы сослались на то, что вся дорога была подчинена нуждам фильма по великому русскому писателю – и, хотя мы не выполнили план, я не получил выговор!»
Вы прямо в поезде и жили во время съемок?
Жили в вагонах. У нас со Светланой было купе на двоих, остальные жили вместе. Отдельные купе были только у Никулина и Гурченко: у меня была надежда, что они вступят в интимную связь. В финале картины же была все-таки постельная сцена! Если бы они сошлись, это очень упростило бы дело. Я запретил к ним входить. На этом погорел бедный ассистент Трубников. Я его раз предупредил, он второй раз зашел – и я его уволил. Больше никто к ним не заходил. Но ничего не получилось. Получилась только война против меня, которую Люся организовала в своем купе: «почему такой мороз», «почему нельзя жить в гостинице?» А мы действительно останавливались на одном и том же месте – и пирамиды говна дорастали уже до окон…
Как же в таких обстоятельствах снимать постельную сцену?
Я и не знал. Как снимать любовь на войне? Я вычитал у Симонова, не помню уж где – в книжке или дневниках: мужчина и женщина на войне остались вдвоем, у них любовь. Но вы представляете себе, что такое женщина в ватных штанах, которая не снимала их две недели? Да и мужчина, который воняет козлом… Перед тем как броситься в объятия друг друга, как Ромео и Джульетта, была фраза: «Давайте взаимно отвернемся». Отвернемся, чтобы раздеться, может быть, какие-то места ледяной водой протереть. Война – нечеловеческое существование; это существование медведей, росомах, крокодилов.
В сценарии была ночь между моими героями, персонажами Гурченко и Никулина. Никулин был сильным и ловким, но раздетым он выглядел… Руки тонкие, плечи широкие, – он не мог заниматься сексом! А мне был нужен мужчина. Да и Люся не очень уже была молода. Я всех расспрашивал о том, какова любовь на войне, и один мне сказал: «Любовь была как тиф. Она мне что-то говорила, а я проваливался». Это спасло мне любовную сцену. Она говорит: «Спи, я люблю тебя», и он проваливается – уставший, измученный человек, который этим не занимался много месяцев или даже лет. А ей надо и белье постирать, и сыночка в школу собрать, и прическу как-то сделать.
Сцена получилась. Только Гурченко сказала: «Какие у тебя сильные руки!», а Никулин, сволочь, ей ответил: «Если бы ты знала, какие у меня ноги!», и они долго смеялись. Нам надо было создать эту предвоенную предсмертную ночь. Играет музыка – какая-то гармошечка, они сидят за чаем поутру, смеются. Слов не слышно. О чем там они говорят? Если бы Симонов написал, они бы говорили о войне. Но на самом деле они матерятся самым похабным образом, а в углу сидит Светка и хохочет, чтобы их поддержать. Говорят жеребятину, развлекая друг друга, чтобы хохотать искренне. Но это получилось уже потом, а тогда я думал, что нужно будет положить их в одну постель – осла и трепетную лань.
А питались как и где?
У нас был вагон-ресторан, где был директор Лева. Все его обожали. А он был влюблен в Гурченко. Мы как-то пришли с Никулиным, а там висит портрет Сталина. Я говорю: «Портрет, пожалуйста, уберите. Все-таки был XX съезд…» Он посмотрел на меня с недоверием, потом на Никулина и Гурченко, но портрет снял. На следующее утро Никулин пришел завтракать яичницей, а потом сказал: «При Сталине кормили лучше». Там в вагоне-ресторане играли в нарды… Вагон-ресторан разорялся, кормить нас было невыгодно, но Лева был счастлив – он был среди артистов и влюблен. Мы его сняли где-то в массовке, в тулупе.
Кстати, как же было с массовкой в поезде, который гонял туда-сюда, практически не останавливаясь?
Как-то ночью меня будит второй режиссер и говорит: «Алексей, вставай, выйди». Я встаю и выхожу. Степь, верблюды и висит огромное объявление: «Кто хочет сниматься там-то и тогда-то с Никулиным и Гурченко, занимайте очередь. Оплата – четыре рубля». Он говорит: «Ты видишь?» Стоит огромная очередь через всю степь. Говорю: «Вижу. Хорошо же! Что ты меня будишь?» А он отвечает: «Теперь посмотри им на руки». Я смотрю на руки. У каждого в руке – четыре рубля. Я говорю: «Боря, нас посадят всех!» Он мне: «Если я сейчас выйду и скажу, что это им полагается четыре рубля, они все уйдут!» А у них вся задача – стоять на перроне, пока поезд проходит мимо. Я так и не знаю, куда делись эти рубли. Я от ужаса сказал: «Я этого не видел, я этого не слышал», – и тихо закрыл за собой дверь.
Съемочная группа не бунтовала против жизни в холодном зимнем поезде?
Постепенно жизнь входила в свою колею, но весь поезд был омрачен страшным противостоянием – я почти не разговаривал с оператором Валеркой Федосовым и Гурченко, которые ополчились против меня. А я ни перед кем прощения просить не собирался за некомфортные условия: «Юрий Владимирович, вы, когда на фронте были, тоже ездили через день мыться в баню? Вот и потерпите недельку, ничего страшного. Умывальник есть, вода есть, хотите – нагреем вам». Но все это были пустяки – все равно было очень интересно. Животные были: ослы, верблюды, да еще моя собака. Я с собой взял собаку, черного терьера, – некуда ее было деть, и она жила в купе. Собака, когда впервые увидела осла, совершенно обалдела. Понюхала у него под хвостом, обернулась, и на лице у нее было написано: «А это что?»
Был еще смешной случай. Надо было снять то, что пролетает мимо глаз Лопатина: полуторка, красивая женщина, которая на секунду улыбнулась, и нет ее; верблюд… Сделали мне такой переезд. Поезд может стоять 25 минут, не больше. Надо быстренько снять. Верблюд как-то на меня нехорошо смотрит – но, на счастье, стоит боком. Я-то понимаю, что он харкнет – так харкнет, а пока стоит боком, можно как-то держаться. Стоим: женщина, верблюд и я. А у верблюда гон, кровь течет из носа от кольца. Ему хочется жить половой жизнью, а не сниматься в кино. И вдруг что-то происходит с лицом верблюда – он не то хохочет, не то улыбается. В общем, начинает приподнимать губу. Я, как мудак, стою и смотрю. И вдруг из-под губы – зеленая, страшно густая, как напалм, пена обдает меня с головы до ног.
А погода прекрасная – солнышко, – и группа вся наверху, на платформе. Группа к тому моменту меня ненавидела за то, что я не разрешал никому жить в Джамбуле. И я понимаю, что на платформе – ликование, Гурченко всем ставит шампанское. Как пахнет блевотина верблюда! Сорок тысяч братьев, которые пукнули, перед этим наевшись чесноку. Потрясывая кольчугой вонючей пены, которая застывает, я репетирую с этой артисткой – а полуторка сразу закрыла окна от меня. Я поднимаюсь, Светка кричит: «Разойдись, разойдись!» – и ведет меня куда-то по коридорам. Ни зайти в купе, ни что-нибудь задеть нельзя – сразу начнет вонять. Как-то меня отмыли, а вечером, по-моему, был бал в честь этого события.
Для чего все-таки было необходимо снимать эти сцены именно в поезде, а не в павильоне, как сделал бы, наверное, любой другой советский режиссер?
Была необходима атмосфера. Мы выстуживали старые довоенные вагоны – ставили свечки, кружки. Температура не могла быть меньше, чем 12 градусов мороза. Только тогда можно было начинать что-то делать – петь, разговаривать. Там уже не наврешь. Мы не делали того, что делают все: не снимали заоконный фон, чтобы потом монтировать с вагоном. Снимали купе, потом камера выезжала за окно, хотя за окном ничего не было: темнота и иногда огоньки. Мы записали все звуки старых вагонов. Кроме того, нас тащили два паровоза: время от времени они должны были гудеть, останавливаться, фукать. Мы создали атмосферу, в которой наврать мог только плохой оператор. А Федосов был замечательным оператором.
На съемках «Двадцати дней без войны».
С оператором Валерием Федосовым (вверху), с Юрием Никулиным (внизу)
Константин Симонов с дочерью Александрой. Конец 1950-х
С Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко.
«Люся Гурченко говорила, что с Никулиным играть не будет,
ее еще долго уговаривали»
Как вы нашли его?
Федосов когда-то снял маленькую картину под названием «Фро», по Платонову, а дальше снимал абсолютное говно. Но «Фро» я запомнил, и после этого его позвал – хотя картину потеряли, и я не смог ее еще раз посмотреть. Я помнил оттуда один кадр: с горы едет поезд, а на платформе танцуют, снято с верхней точки. Человек он был странный: то мы дружили, то воевали. После запрещения «Лапшина» Валерка перестал со мной здороваться, а я ему сказал: «Рыжий, ты без меня ничего толкового не снимешь. В паре со мной ты сильный оператор, без меня – вообще не оператор».
Прошло несколько лет, ко мне ввалился Валерка: «Прости, я виноват…» Мы расцеловались, он попросил у меня канистру: он дом строил на Валдае и боялся, что бензина не хватит. Я сказал: «Ты ж не отдашь!», – но канистру дал. А потом приехал Толя Родионов, его второй оператор, и сказал, что Валера умер. И принес канистру. Валера был маленький, мускулистый, очень сильный. Он шел с огорода, споткнулся и упал. К нему подошли, а он умер. Мне потом врач объяснил, что это весенняя инфарктно-инсультная эпидемия. Городские люди едут на дачу, нагибаются над грядкой, солнце печет, от земли испарения, а привычки нет. От этого умер и Валерка Федосов.
На «Хрусталеве» и «Хронике арканарской резни» вы работали уже с Владимиром Ильиным.
Володька Ильин – оператор сильнее, чем Федосов. У него другие руки, ноги-корни. Он может провести панораму, как Валерке не провести. Мы ссорились, хотя он замечательный оператор, но с Валеркой мне работалось легче. Валерка был образован, хотя и поверхностно: любил Ахматову, например. Был прелестно наивен, вечно всем был должен, всегда забывал документы. А Ильин был из глухого мордовского села. Тяжелый, неповоротливый; каждый кадр я с ним делал три раза. Первый был освоением, второй – загубленной съемкой, а третья получалась. Не понимаю, почему. Он был необыкновенно чувственным, прекрасно знал живопись и классическую музыку. Юрий Клименко, с которым я доделывал «Хронику арканарской резни», – тоже блестящий оператор и достойный человек. Но ему давно неинтересно слово «искусство», хотя интересно слово «работа». Поэтому работать с ним было трудно.
Интереснее всех было с Ильиным, а самым потенциально талантливым был Федосов. Я бы взялся за еще одну картину, если бы был жив кто-нибудь из них. А без них мне неинтересно. Смерть Ильина – адская потеря. Он в конце жизни уже не мог снимать – мы снимали со стрелки, с крана, так его стрелка тащила. Я понимал, что у него рак, и не мог ничего ему сказать. Прощаясь, он сказал: «Ну за что мне это?»
Так значит, отношения с Федосовым с самого начала не задались? Только из-за дискомфортного проживания в поезде – или были другие причины для разногласий?
Когда мы начинали «Двадцать дней без войны», мне надо было Федосова задавить, а это было очень сложно. Когда Федосов попал ко мне, у меня за спиной была только запрещенная «Проверка на дорогах», и он вел себя нагло. Первая съемка, я выстраиваю кадр. За окном поезда ходит молодой летчик в белом кашне с орденом Красного Знамени и спрашивает, где водки купить, а мальчик снимает шапку. Это его первое столкновение с тылом. А еще там женщина провожает Гурченко – стоит, а потом мы уезжаем, и ее дым заволакивает. Вместе с Валеркой мы разработали панораму, в отношении крупностей он был бог. И вдруг на съемке он трубой даже не думает идти за летчиком, который водку ищет, а снимает какие-то пейзажи. Потом выходит на женщину и начинает ей кричать: «Убегай!» Та поворачивается и убегает.
Я говорю: «Валер, что это такое?» Он отвечает: «На экране увидишь». Мы собираемся у меня в купе, и я говорю: «Завтра есть самолет на Ленинград – ты улетай к ебаной матери с моей картины. Я два с половиной года придумывал все это, чтобы ты кричал “Убегай!”? От чего ей убегать? Она любимого человека провожает навеки. Какое ты имеешь право вести панораму так, как тебе нравится? Ты что, охуел?» Я еще ему по физиономии пытался въехать. Но как-то нас помирили. Приблизительно до трети картины мы так воевали.
А потом Федосов снял с Масленниковым «Ярославну, королеву Франции». Они на съемках построили собор за какие-то дикие деньги. После премьеры спускаются из кинотеатра довольные. Спрашивают: «Ну как?» Я говорю: «Ребята, вы совершили открытие!» «Какое?» – цветет глупый Федосов. Художник Гуков уже понял, к чему я клоню. «Вы доказали всему миру, что клеевые краски были известны в России в XI веке. Все-то думают, что это век XVIII-й! А у вас весь собор ими покрашен. А где вы артистов таких нашли? Это же какое-то начало века!» «Тьфу!» – закричали Федосов и Масленников. В это время, как по заказу, вплывает теща: «Поздравляю, Валера, какие виды, какие виды!» И все те годы, что рядом со мной существовал Валера, я ему часто говорил в ответ на его предложение: «Какие виды!»
Атмосферу в поезде вы создавали своими руками. А в Ташкенте? Живущий своей жизнью город – материал куда менее пластичный.
Ташкент был разбойничий, страшный – совершенно необычный город. Например, между половиной седьмого и семью утра ты мог на машине с определенными номерами подъехать к Алайскому базару, где сторожа делали плов – один большой мангал, порций тридцать. Приезжали только цекисты и гости цекистов. Блюдо было вовсе не похожее на то, что мы считаем пловом – все плавало в мозгах, было что-то невероятное. Съесть его можно было стоя, к чему-то прислонившись. Ели этот плов люди в чудовищно богатых пальто, дамы в шубах. А на земле повсюду лежали дохлые крысы. Напротив был откос, на котором стояли сортиры – домики, в которых какали. Совсем рядом.
Когда я отправил первый материал в Ленинград, то получил от своей подруги и главного редактора Фрижи письмо: «Что ты там снимаешь? Ты сошел с ума!» Я попросил ее прилететь и повел ее есть на базар. Увидев дохлую сплющенную крысу, она отказалась есть. Ей стало плохо, ее отвели в машину. А я спросил: «Фрижа, покажите мне, что я здесь еще должен снимать? Весь город такой – гигантская куча говна, куда герой приехал. Но она припорошена снегом! Вот если снег растает, я вам тут такое сниму…»
Мы как-то ждали тучки. Весь день. Улицы Ташкента были оцеплены милицией, без нее мы снимать не могли. Всегда прорывался какой-нибудь мудак, начинал плясать и кричал: «Никулин!» Мы с ума сходили от этого крика. Тучка как раз начала подходить, послышалась команда, и все милиционеры строем ушли есть бешбармак. Мы сидели и ждали, пока тучка пройдет – как раз можно было снять пару дублей! Все вернулись, начальник милиции ко мне подошел и доложил. Я спросил: «А кто тебе разрешил уйти? Ты понимаешь, что ты наделал?» Развернул его и влепил ему, сам того не ожидая, поджопник. Он пробежал несколько метров.
По логике России, он бы уже сидел у комиссара, плакал, а за мной ехало бы четыре автомобиля и летел вертолет. По логике Ташкента, он понял: я такой большой человек, что меня надо срочно пригласить на плов. Что он и сделал. А Гурченко развернула очередную кампанию на тему моего неуважения к офицеру, который, как она утверждала, воевал и спас наши горы.
Хочу уточнить: я очень высоко ценю Гурченко и как актрису, и как человека – даже как писателя. Наши ссоры я вспоминаю всегда с улыбкой. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь.
Местные жители вам ассистировали или ставили палки в колеса?
В какой-то момент начались чудовищные восточные интриги, к каким мы не привыкли. У меня там есть сцена, где герои целуются, а рядом солдаты уходят на фронт. В один прекрасный день я вижу, что уходящие на фронт – только русские, ни одного узбека. Мне-то насрать, но я понимаю, что со мной потом сделают: «А где узбеки, которые отдали фронту миллионы жизней?» Я звоню секретарю райкома, она мне отвечает: «Мы с вами договорились о количестве людей – и это количество людей мы вам обеспечили. А какие люди… Снимите как-то так, чтобы лиц не было видно». Я говорю: «Я тебя, дура, с должности сниму!» Вскакиваю в машину и еду к человеку по фамилии Барабаш – он секретарь горкома по идеологии, ее начальник. Вхожу к нему в кабинет без стука, никого нет, только звонит телефон. Снимаю трубку – там она. Говорю: «Здравствуйте, я повсюду! Позвоните Рашидову – буду и там».
Проходит время, еду на площадку. Приезжает эта дама – рыдает, вся залеплена тушью… Что случилось? «Кто-то из ваших позвонил ночью первому секретарю ташкентского горкома Ходжаеву и потребовал для группы пятнадцать билетов на американскую выставку, которая как раз открылась в Ленинграде, причем грубил». Но ведь телефон Ходжаева был только у директора, благородного и интеллигентного человека! Нам эта выставка не была нужна, мы о ней и не говорили – проблема была только в узбеках и русских! Послали милицию, нашли тех, кто пришел за билетами, и от кого. Восток… Эту чиновницу, я думаю, потом сняли, и продолжение скандала меня не касалось. Что там случилось, до сих пор не знаю. Главное – нам начали присылать узбеков, хотя всем этим людям, которых гнали на фронт, почему-то было лет под семьдесят.
Многое в «Двадцати днях» – из повести или сценария Симонова, но безымянная героиня Лии Ахеджаковой – это ведь ваше изобретение, не так ли?
В «Проверке на дорогах» я до этого еще не дорос, но после нее понял: мне в картине, чтобы снять ее изнутри, необходимо, чтобы в ней был либо мой папа, либо моя мама, либо я сам. Иначе почувствовать это печенкой я не могу, это все киношка. Но где я найду мою маму у Симонова? Тогда мы придумали эпизод, который Симонов не писал. Симонов сам его поправил, правда. Потом стали искать артистку.
В Москве я посмотрел на студии имени Горького многих, а потом стал смотреть пробы такого Миши Богина, и смотрю – одна проба вырезана. Спрашиваю, почему. Говорят, что артистка пробовалась, но повторить пробу не смогла: пробовалась интересно, но потом не сыграла. Я говорю: «Ну-ка, ну-ка». Нашли Ахеджакову. Но я чужой ошибки не повторял, не давал ей попробоваться. Все придумали, выучили слова. Я ее держал на четырех цепях – впустил ее в первый же дубль, и она сыграла замечательно. А второй дубль хуже, третий – еще хуже. Она может играть только пока у нее внутри горит что-то.
Дальше началось. Вызывает меня директор: «Ахеджакова, с этим ее носом, – плохой эпизод, надо убрать». Отвечаю: «Она адыгейка! Так и скажите». – «За кого ты меня принимаешь! Я коммунист!» Говорю: «А я вас за коммуниста и принимаю. Так что позвоните своим коммунистам и скажите, что она адыгейка». Потом зовет меня: «Сказал, смягчилось. А нос нельзя подрезать? Нельзя? Ну ладно, разрешаю. Только пусть мальчика ее зовут Ахмедка, а не Вадик. Договорились?» Я говорю: «Нет». – «Почему?» – «Потому что мальчик – жиденок». – «Как? Она адыгейка, а мальчик жиденок?» – «Бывает», – говорю. Он закричал: «Покиньте мой кабинет!»
А как пришла идея пригласить Николая Гринько – еще одного любимца Тарковского?
Про Гринько могу рассказать только одно. Он замечательный артист, я его очень люблю и всегда буду вспоминать, но он роль сыграл, а озвучить не мог. Никак. Я говорю: «Простое же дело, почему вы не можете?» Он меня отвел в сторону и сказал: «Леша, я понимаю, чего ты от меня хочешь, я в три минуты могу это сделать. Но у меня инфаркт был! Если я это сделаю, мне опять сердце припечет. Я не хочу твою картину менять на свою жизнь. Попроси Иннокентия, он сделает». Мы поехали к Смоктуновскому, и он действительно все сделал. Исполнил просьбу. А что со Смоктуновским было, когда он посмотрел «Проверку на дорогах»! Выскочил из зала, разрыдался, сел на пол, с ним истерика. Я ничего не понимаю. Вдруг он говорит: «Леша, откуда ты все это знаешь? Я был в плену, я у немцев служил, потом был в тюрьме… Все это – про меня».
Без непрофессионалов тоже не обошлось. Опять – Дюдяев, и некоторые другие…
Уже в Ташкенте мне нужно было найти актера на роль Юсупова, секретаря ЦК всей Средней Азии. Я ищу, ищу, ищу, и мы находим певца в Фергане, портретно похожего на Юсупова. Очень. Артист – ну, понятно какой, певец из Ферганы. Его дрессируют, дрессируют, дрессируют… наконец он выкрикивает свою речь на митинге. Том самом митинге, из-за которого меня потом запрещали и выгоняли. Короче говоря, вызываю я его на озвучание. Вдруг приезжает он в немыслимом английском костюме, за ним телохранитель с крохотным чемоданчиком, у него на груди пятнадцать значков, в том числе «Отличник кинематографии Узбекистана». Я говорю: «Ты когда успел-то?»
Оказывается, Рашидов, преемник Юсупова, посмотрел, и ему разрешили играть секретаря ЦК! С тех пор он мог играть только персон такого уровня – Юсупова, командира полка, не меньше. В эту категорию перешел. А играть он ничего не умел. Разучился даже слова говорить. Я прошу охранника выйти. Он выходит. Я говорю актеру: «Выучил слова наизусть?» Он говорит: «Выучил». Я закричал: «А теперь, блядь, говори! Сыграй, а то убью! Живой не приедешь!» – и вцепляюсь ему в яйца, начинаю их откручивать. Он узбек, крестьянин, и от страха начинает голосить: «Ваша продукция – особая продукция!» У него получилось. Один раз.
Я попытался то же самое сделать с Юркой Цурило, но у него просто не оказалось яиц. Он цыган, и он их втянул после того, как его предупредил кто-то из группы. «Э-э-э», – сказал мне Юрка. А я-то решил, что придумал универсальный метод! Ну, и по морде я артистов бил не раз. Сначала говорил: «Ты на меня только не обижайся, но ты без этого не сыграешь», – и бил. Очень помогает. Тут же глаза живыми делаются. Ведь артисты очень часто устают. Им скучно делается. Им лень. Тому же Аль Пачино после «Крестного отца».
Когда я был в жюри Каннского фестиваля, я умолял не давать актерский приз Жерару Депардье за «Сирано де Бержерака». Он ничего не играет, он пустой изнутри! Он – просто француз. Я говорил: «Вы его губите, даете ему карт-бланш – играй что хочешь, публика тебя любит. Возьмите его задницу, нарисуйте на ней глаза – будет то же самое». И теперь – пожалуйста, он в кадре думает о другом. Как многие артисты, кстати.
«Двадцать дней» все-таки шли в кинотеатрах. Но тоже, очевидно, не сразу. Что начальству не понравилось в этом фильме?
Нас долго мучили, открывали, закрывали. Вот как принимали материал. Ермаш посадил всю коллегию и сказал: «Ну что ж, товарищи, обсудим масштаб постигшей нас катастрофы». А я думал, что ему понравилось! Картина пролежала на полке полтора года, пока Симонов в Кремле не устроил секретарю обкома Ждановой чудовищный скандал на лестнице. Оказалось, в ЦК настучали про кадр, который был в материале, а в самой картине его уже не было.
Речь шла вот о каком кадре. Там Юсупов на митинге говорит: «Вот наши герои, сверх плана!» – и поднимает за шкирки, как котят, двух щуплых подростков, русского и узбекского. После чего ему подают кожаный реглан. Просили вырезать этот реглан. А его не подавали, это было в неиспользованном дубле! В три часа ночи звонит Симонов: «Леша, быстро отвечайте, подают Юсупову кожаный реглан?» Я говорю: «По-моему, нет». Оказывается, он Ждановой сказал: если это стоит – мы вырежем, но если не стоит – вы извинитесь перед молодым человеком, и мы выпустим картину. Так что картину выпустили.
Интересно, что именно из-за митинга мне Светлана устраивала истерики – чтобы я этого не снимал, потому что эта сцена холуйская по отношению к Советской власти. Но именно эта сцена стала камнем преткновения, из-за нее картину полтора года не выпускали.
А как получилось, что все-таки выпустили?
От меня потребовали, чтобы я озвучил Юсупова без акцента, по-русски. Симонов говорит: «Ну какая тебе разница!» Я иду к директору, тот мне клянется: «Я тебе даю честное слово – ты делаешь одну копию, я ее показываю в обкоме, и потом ты ее уничтожаешь». Зову актера Игоря Ефимова: «Давай без акцента!» Он спрашивает: «Зачем, Леша? Ты портишь сцену!» Мы озвучиваем. Приношу переозвученную часть директору, он везет ее в обком. Возвращается, отдает часть мне и говорит: «А теперь это в картину! И не вздумай возражать. Я прежде всего коммунист, а честные слова все потом». Но часть-то мне дали в руки! Я сажусь в машину, рядом сажаю директора картины и мчусь к Мойке – напротив дома № 25, где я родился. Беру часть и швыряю ее в Мойку: «Вот теперь вернитесь в обком и расскажите! Честное слово едино – и для партии, и для правительства». Но скандала не было. Может, потом никто в обкоме и не смотрел копию второй раз?
Но ведь эта деталь – сущая мелочь. Было в фильме что-то еще неправильное, несоветское?
Помню, Симонов спрашивал Ермаша: «Ну как моя картина?» Тот отвечал: «Очень тяжелый случай». Но Симонов, когда надо, был глух: «Совершенно с вами согласен – картина очень тяжелая… но хорошая». Ермаш краснеет: «Я хотел сказать, что тяжелый случай!» Симонов кивает головой: «Тяжелая, тяжелая, но хорошая». Так они, разговаривая, ушли в кабинет, и Симонов вышел с разрешением на картину.
Что там не нравилось? Вспоминаю формулу Ролана Быкова: как только концентрация искусства в растворе начинает превышать допустимую норму в бутылке, картину надо закрыть и уничтожить. Мне писали возмущенные письма. Одно из них выглядело так: «А если Никулин захотел бы сыграть Дездемону, ты бы ему тоже доверил, шляпа?» Зато Герасимов выдвинул картину на Ленинскую премию, меня приняли в Союз кинематографистов. Потом Григорий Васильевич Романов выступил против фильма и сказал, что советскому кинематографу такие картины чести не делают. Симонов написал письмо протеста и мне его показывал из рук: боялся, что я письмо схвачу и отнесу в иностранное посольство. Мы с ним тогда на месяц поссорились.
Потом наступает долгий перерыв, на несколько лет. Чем вы занимались до запуска «Моего друга Ивана Лапшина»?
После «Двадцати дней без войны» мы со Светланой начали писать сценарии. Началось все так. Однажды меня вызывают в Госкино и говорят: «Алексей, что вы все время лезете то в революцию, то в войну! Ну дайте им от себя отдохнуть, возьмитесь за что-нибудь другое!» Мы долго думали и придумали написать «Черную стрелу» по роману Стивенсона. Сейчас этот сценарий опубликован, а фильм так и не сложился.
Смысл сценария был не в том, что написано у Стивенсона, а в чем-то другом. Это о том, что правда – очень опасная вещь, и правда в руках дурака (а мы писали Ивана-дурака) – страшная сила. Герой вытаскивал Жанну д’Арк, убил дядю, уничтожил замок и ничего не добился. Эта история нам была интересна. По поводу этого сценария нам позвонили от Тарковского, что он заинтересовался. Я его уважал как режиссера больше, чем себя, но почему он сам мне не позвонил? Звонила Глаголева, чтобы я сам поговорил с Тарковским, но я ему звонить не стал. Еще этот сценарий хотели ставить Асанова и Авербах, оба – достаточно серьезно. Правда, Авербах от этой мысли отказался. Он сказал: «Как я себе представлю доспехи, которые мне сделает жестянщик в ЖЭКе, так мне жить не хочется».
Вы-то сами почему «Черную стрелу» не сняли?
Мне это бы не дали делать по причине дороговизны. В принципе, я снимал дешевые картины – но было принято считать, что я падла, и уж тут-то отыграюсь. Замки – где снимать? Доспехи – где брать? Нет, пускай сценарий будет, а снимать мне нельзя. Почему они боялись, что я сниму дорого? «Проверка на дорогах» снималась за пятьсот тысяч – меньше чем за год. «Лапшин» вместе с режиссерской разработкой – за 11 месяцев. А «Хрусталев, машину!» стоил одну двадцатую нового фильма Никиты Михалкова. Я недорогой режиссер! Я придумываю, а не говорю: «Здесь мне сделайте мозаичное панно».
Окончательно историю с «Черной стрелой» загубил Симонов – по ошибке, по случайности. Я был «полочник», и надо было, чтобы Симонов – член коллегии Госкино – зашел к Ермашу и попросил за меня. Ермаш должен был послушаться: он боялся, что Симонов выйдет из коллегии, а это било по его престижу. Сам же Симонов говорил: «Зачем я там время трачу – они меня не слушают! Их пайки мне не нужны». Я говорю: «Константин Михайлович, помните! “Черная стрела”, “Черная стрела”, “Черная стрела”…» Я знал, что он все путает. Входит Симонов к Ермашу, проходит час, два. Выходит и говорит: «Все в порядке, договорился я насчет вашего “Таинственного острова”. Все уже в плане, не беспокойтесь!» Я говорю: «Константин Михайлович, на хрен мне “Таинственный остров”?! Там обезьяна бегает, я не знаю, как ее снять! Это скучно! У нас же другой сценарий написан!» – «Ну, Леша, я не пойду второй раз, они подумают, что я сумасшедший. Я им сказал, что вы мечтаете о “Таинственном острове”».
Симонов был странный человек. Сталину на него писали доносы, что он еврей, но с одной стороны он был татарин, а по другой линии происходит от Оболенских. Он это очень тщательно скрывал. Жил Симонов в норках. У него была четырехкомнатная квартира, но в последние два-три года его жизни почти никто не знал, где четвертая комната. Вход в нее был через кухню: заходишь за шкаф – и там находилась самая важная комната. Его кабинет. Так же была устроена его дача на юге – на море. Деревенский дом, рядом огромная куча навоза; надо было идти по тропинке, чтобы прийти к домику – и там на втором этаже был чердак, где Симонов работал. Мебель там ему делал на заказ его собственный плотник.
Не было больше попыток сделать совместную картину?
Меня как-то вызвал директор «Ленфильма» Виктор Блинов и говорит: «А ведь Константин Михайлович очень на тебя обижен. Ему так понравились “Двадцать дней без войны”! Он хочет с вами работать, а вы ему не предлагаете. Что, ему к вам идти – старому человеку, гордости народа? Едем к нему!» Садимся в поезд – Блинов, я и Светлана. Приезжаем к Симонову, который не подозревает, зачем мы приехали: думает, приехали что-то просить. Он выставляет закуску и заграничное баночное пиво – возникает ощущение, что мы на вечернем ужине у Николая II. Садимся, и Блинов говорит: «Вы скрываете, но мы понимаем, что вы хотите работать с Алексеем. А он скрывает, но хочет работать с вами. Давайте что-нибудь придумаем».
И Симонов заплакал. Он стал бегать по своему кабинетику и говорить: «Отстаньте от меня! Хотите, я вам денег дам? Только отстаньте! Я мог бы за время тех съемок написать роман!» Причем он мне не был нужен, я его больше из вежливости дергал… «Алексей, ни за что! Светочка, вы в нашей компании – самый смелый человек! Давайте я вас поцелую, и будем встречаться – но работать не будем». Мы ушли. Прошло недели три. Вдруг раздается звонок от Симонова: «Леш, я подумал-подумал, и все-таки мне без вас скучно. А с вами было интересно. Давайте сделаем еще одну картину! Вы подумайте, какую».
Вы подумали? Не отказались же сразу?
Мы опять поехали к Симонову. Приехали, а он снимает хронику: «Солдаты войны – трижды герои Ордена Славы». Это был единственный орден, перед получением которого не надо было заполнять анкету. Кавалеры трех Орденов Славы очень легко начинали плакать. У них совершенно не было нервов. Ведь три Ордена Славы – это трижды Герой Советского Союза… Так вот, как только они начинали плакать, Симонов тут же вырубал камеру: «Я не хочу, чтобы над ними посмеивались. Хочу, чтобы остались их дела». Мы поговорили, потом пошли пить заграничное пиво, и я говорю: «А мне больше ничего не надо! Берем этого танкиста маленького роста, механика-водителя, который прошел то ли девять, то ли двенадцать экипажей».
Эти танкисты, получавшие Ордена Славы и прошедшие всю войну, были не так просты. Все они преподавали до войны в танковых училищах. Симонов сказал: «Вы понимаете, чем они отличаются? Они – профи. Не шесть часов езды на танке и – на фронт, а 266 часов. Поэтому они подбили такое количество немцев и уцелели». Танкисты рассказывали такие киношные вещи… Симонов потом отдал мне все стенограммы, огромное количество. Например, рассказывали, что их били командиры роты – по хребтине, лопатой.
Рассказывали, что такое сгоревший танк: если зима, он уже остыл, ты к нему подойдешь, откроешь люк и увидишь, как все сидят на местах. Будто живые. И тут подул ветер… От них не осталось ничего. Горстка пепла. Такой страшный жар в танке. Они хоронили взвод в одном гробу, а иногда роту в одном гробу. Пели запрещенные песни танкистов, за которые сажали. Когда был ценный кадр, давали отсидку уже после войны. Если выживут…
Самое страшное было, когда Жуков пересадил штабистов командирами машин – вместо лейтенантов командирами делались майоры или даже полковники. Они погубили очень многих. Ведь по инструкции надо закрывать, запирать люк танка во время боя. Никто этого не делал, чтобы при попадании хоть кто-нибудь мог бы успеть выскочить и выжить. Поэтому подкладывали полено, а люк не запирали. Если же люк закрыт – башня при попадании искривляется, и это уже консервы. Так вот, штабисты все делали по инструкции. Но Симонов на этих рассказах начинал хмуриться. Он понимал, что за картину мы из этого сделаем.
Вы действительно собирались про танкистов снимать?
Да. Мы хотели делать кино про этого маленького танкиста, потому что он был механиком-водителем. Механик-водитель часто был единственным, кто оставался живым в подбитом танке. У Т-34 боевая травма была такой: сносило башню, вместе с обрубками людей. Механика-водителя это не касалось, ведь он сидит внизу! Называлось это «на тягач переделали». Часто из боя выходили вот такие тягачи. Вот он и выводил из боя тягачи – раз двенадцать, не меньше. За что и получил ордена.
К концу войны этот танкист-водитель стал заикой и почти оглох. Его отправили в госпиталь, потом в деревню. И деревенский врач сказал ему: «Уходи в степь и пой! Как можно громче». Тот спрашивает: «А что петь-то? Я и песен не знаю». – «Да пой что угодно, только громко. Переломи себя и пой». Так вот, мы хотели в картине сделать Парад Победы: музыка уходит, и остается танкист, который поет. А откуда он знает песни? Это песни людей, погибших в экипажах, где он служил. Он мог петь грузинскую песню, даже не зная ее перевода, на память. Или украинскую – коверкая слова. Так он вылечился. Он плохо слышал – но слышал. И почти не заикался. Симонову очень нравилась идея так снять Парад Победы. Не знаю, что бы из этого вышло. Наверняка скандал.
Дальше я сказал: «Константин Михайлович, я не могу это снять в цвете. Я могу снять только черно-белое кино. Можно какие-то сделать цветные вкрапления – хоть Парад Победы… Но когда танкист поет – только черно-белое». Симонов написал письмо в Госкино: «Война цвета не имеет». Это должен был быть госзаказ, широкий формат – и черно-белое кино. Они пошли на все… кроме черно-белого кино. Не подписывали, не подписывали, не подписывали… А потом Симонов заболел.
Его смерть и не дала осуществить тот проект?
После его смерти я себя почувствовал «голым среди волков». Даже Симонов не мог четыре месяца пробить черно-белое изображение! Ну как теперь запускаться с картиной про танкиста? Меня бы закрыли в первый же съемочный день.
У Симонова был бронхоэктаз. Константин Михайлович худел. Он очень боялся умирать. Перед этим он предсказывал свою смерть: «Я упаду, как дуб. Раз – и нет меня». А тут – этот страшный кашель… Я клялся памятью папы, что это не рак: я четыре года провел в раковой больнице, пока болел и умирал папа, и знал, как выглядят раковые болезни. Врачи потом тоже говорили мне, что от этой болезни нельзя умереть! Но Симонов умер. Когда у него было уже два источника болезни. Ему сделали операцию и вырезали первый гнойник. Он себя сразу по-другому почувствовал – задышал, перестал говорить о смерти.
Мы ездили к нему в больницу, там было замечательно. Там же мы встретили Расула Гамзатова – прекрасного поэта, который очень нам обрадовался, встал на четвереньки, заполз под кровать и выкатил оттуда бочку коньяка… Мы его умоляли не пить, но он пил. А еще Симонов очень хотел после операции поехать на юбилей Холкин-Гола. Может, он каким-то образом заставил или умолил врачей сделать ему вторую операцию? Делать ее было можно только через несколько месяцев, не раньше. Они сделали операцию, у него в груди что-то разошлось, и он задохнулся. Смерть Симонова – результат нормальной врачебной ошибки. «Врачи анкетные, полы паркетные», как сказал другой поэт.
А как писатель Симонов вам тоже нравился?
Симонов был хороший поэт. Наш Киплинг! Но Симонов был иногда очень откровенный, а иногда абсолютно закрытый человек: не просто писатель. Он исполнял деликатные поручения правительства…
Однажды я его спросил: «Константин Михайлович, что было самым страшным на войне?» Он думал целый день, а на следующее утро мне рассказал. Самое страшное – раскатанное лицо. Упал человек – как правило, немец, но мог бы и русский, – и по нему прошла армия. Грузовики, танки, бронетранспортеры, солдаты, телеги, опять танки, опять броневики. Человек делается толщиной в два миллиметра, а лицо его раскатано до полутора-двух метров. Но все черты лица – венгерского, немецкого, иногда интеллигентного – сохранялись, и любой знакомый мог бы их опознать.
«А что, – спросили мы, – было самым страшным в жизни?» Он ответил: «Таких случаев было два. Первый – когда я летел в Америку, и перед этим меня вызвал заместитель наркома иностранных дел Лозовский. Он попросил меня встретиться с Гарриманом и передать на словах одно деликатное послание. Я встретился, все передал, пробыл в Америке достаточно долго, а когда приехал, то выяснил, что Лозовский уже арестован. Ну и что делать с поручением? Я написал отчет Сталину и ждал, думал, что меня арестуют. Был очень страшный момент. А второй – в Париже, когда ко мне на какой-то конференции подошел Ранкович и обнял меня – а я его, потому что он был человек редкого обаяния. Тогда отношения с югославами были уже ужасными, их у нас арестовывали и пытали… И тут я понял, что ходу обратно на родину мне нет. Прошло несколько минут, пока я не осознал, что это не Ранкович, а совершенно другой человек – американец, очень на него похожий! Но пережил я такое, что не рассказать. Руки дрожали».
Про Симонова я знаю очень много хорошего. Помню, как он входил безумно раздраженный, скалился на меня за что-то, и вдруг – звонок по телефону. «Да!» – злобно кричал он в трубку… А это звонил человек, ослепший на войне. И Симонов тут же забывал обо всем, начинал заниматься этим человеком. Даже тогда, когда он отказался поддержать запрещенную картину «Иванов катер», он не сделал этого потому, что пытался пробить публикацию «Мастера и Маргариты». Какому количеству людей он помогал! Самое странное – то, что Симонов был искренним в своей любви к Советской власти. Мой папа тоже относился хорошо, но все-таки не к власти, а к самой идее. А у Симонова была реальная депрессия, когда Китай дрался с Вьетнамом. Как же так – коммунисты дерутся?
Вернемся к «Двадцати дням без войны». Какой была судьба картины уже после проката?
Я запомнил, как устраивали показ нескольких польских картин – в том числе там были «Человек из мрамора» и «Человек из железа». Заодно показывали несколько наших. В частности, «Сталкер», фильм Таланкина «Дневные звезды» и мои «Двадцать дней без войны». Тарковский не приехал – зато почему-то приехал Михалков. Все это мероприятие возглавлял Караганов. Тогда мы впервые посмотрели «Сталкер», и меня все стали спрашивать – Таланкин, Ростоцкий, другие: «Леша, ты же правдивый человек, за это тебя и ценим. Скажи честно, на каком моменте ты заснул?» Я встал и сказал: «Господа и товарищи, это великая картина, стоящая всех наших картин вместе взятых. Мы уже дали телеграмму Тарковскому, что это великая картина. А если вы будете продолжать говорить в таком тоне об этой картине, мы уйдем за другой столик и прервем с вами отношения навеки. Лучше не будем об этом говорить. Разные бывают вкусы в искусстве. Вот Толстой смеялся над Шекспиром». Так тот семинар и закончился – к нам больше не лезли.
А еще был на этом семинаре такой Пал Палыч из КГБ. Он входил на каждый сеанс и начинал громко разговаривать. Я поспорил с Таланкиным, что на моей картине он разговаривать не будет. Начинаются «Двадцать дней без войны», входит Пал Палыч, начинает разговаривать. Тогда Светлана включила свет, а я сказал: «Ты, гнида, что-нибудь когда-нибудь снял, написал или нарисовал? Кто ты такой? Если ты пикнешь на моей картине, то вот этой ножкой от стула я расшибу тебе голову. Я эту картину делал три года. Понял? А теперь пошел из зала». Пауза. «Теперь продолжим показ». Больше никто не разговаривал. Правда, Караганов перестал со мной разговаривать. Я спрашивал: «Александр Васильевич, ну что я вам такого сделал? Нормальная свинья разговаривает, презирая наше творчество. Но кто-то же должен был дать ему ответ!» А Пал Палыч потом в столовой за меня поднял тост: «Герман был прав, а я – не прав». Потом и Караганов меня простил.
Прошли годы, и на экранах оказалась «Проверка на дорогах». Уже в перестройку, не так ли?
Пятнадцать лет спустя после того, как работа над фильмом была закончена. Тогда меня вызвали и потребовали сменить название. Фильм еще назывался «Операция “С Новым годом”». Камшалов сказал мне ласково: «Слушай, мы не можем выпустить под старым названием! Ведь Суслов сказал: “Вы эту картину не видели и не увидите”. Давай новое название, как будто новый фильм». Мне было совершенно все равно, и я придумал словосочетание «Проверка на дорогах».
Тогда же мне показали два приказа о том, что все копии моей картины уничтожены. Фильм должны были смыть на серебро. Оба приказа подписали, как я вдруг узнал, два моих близких приятеля – начальник цеха обработки пленки Юдин и начальник цеха обработки пленки Шац. Я на них глаза поднять не мог, когда узнал, а Юдин меня спрашивал: «Что я мог сделать?» Он мог бы не сделать, он на пенсию уходил – ничего бы ему не было… Зато одна женщина, сотрудница фабрики печати фильмов, сказала: «Ничего не буду уничтожать, это хорошая картина». И все коробки спрятала на долгие годы. Так фильм и сохранился.






