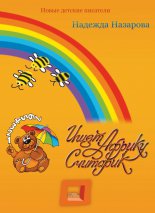Николай I без ретуши Гордин Яков

Генерал от кавалерии Уваров
Генерал Паскевич на этот раз вовсе не хлопотал выгородить великого князя от заслуженной им неприятности и послал ему рапорт.
Рапорт генерала Паскевича великому князю Николаю Павловичу
Командиру 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии его императорскому высочеству великому князю Николаю Павловичу
генерал-лейтенанта Паскевича
Получив предписание от г. командующего корпусом… в котором извещает, что л.-г. Измайловский и л.-г. Егерский полк, вопреки приказанию его высокопревосходительства, были на учении. Упущение или ослушание по службе нетерпимо; а поэтому и предписывает мне сделать следствие, и ежели оное окажется справедливо, то на первый раз столь неожиданного случая делает замечание; но с тем вместе предваряет, что впредь при малейшем упущении с виновных будет взыскано строго.
Препровождая при сем копию предписания г. командующего корпусом… покорнейше прошу по оному исполнить.
Великий князь сознавал свою виновность; следующий собственноручно написанный им рапорт Паскевичу это доказывает.
Рапорт великого князя Николая Павловича генералу Паскевичу. 13 мая 1824 года
Командиру 1-й гвардейской пехотной дивизии господину генерал-лейтенанту и кавалеру Паскевичу
От командира 2-й бригады оной же дивизии генерал-инспектора великого князя Николая Павловича
На предписание Вашего превосходительства… в котором изъясняете неудовольствие господина командующего корпусом, что вопреки отданного приказания лейб-гвардии Измайловский и лейб-гвардии Егерский полки сегодня были выведены на учение, честь имею донести следующее.
Получив вчерашнего числа личное предписание государя императора насчет назначения на завтрашнее число батальонного учения в высочайшем присутствии и не знав еще запрещения господина командующего корпусом, я сам назначил быть во всей бригаде сего числа поутру в 6 часов учению в фуражках, без амуниции и не более как до семи часов; что я почитал необходимым для уравнения шага, еще нетвердого, и дабы с большею верностию быть в состоянии вывести бригаду. Ввечеру, получив записку Вашего превосходительства, я остановился, и в том винюсь пред Вашим же превосходительством, и, не отменив учение, на которое надеялся еще получить разрешение, осмелился просить Вашего ходатайства для получения сего дозволения. Не получив же ответа, я не отменил и учения, которое воспоследовало от шести часов утра до семи часов, побатальонно обоим полкам на Семеновском парадном месте, а Саперному батальону на Преображенском.
Я надеюсь, что в сем изложении простой истины Ваше превосходительство не найдете другого, кроме искреннего, признания в ошибке, в которой я сам винюсь, тем более что никто более меня не чувствует всю важность военного послушания, быть образцом которого я всегда старался и буду стараться ревностно быть.
Генерал-инспектор
Николай
На этот раз Николаю не удалось переупрямить командующего гвардией Уварова, но сама попытка – характерна.
Наследник престола
Из дневника Григория Ивановича Вилламова, личного секретаря императрицы Марии Федоровны. 1807
Она [императрица-мать] видит, что престол все-таки со временем перейдет к великому князю Николаю, и по этой причине его воспитание особенно близко ее сердцу.
Из записок Николая Ивановича Греча «Воспоминания старика»
В цвете лет мужества он [Александр I] скучал жизнию, не находил отрады ни в чем, искал чего-то и не находил, опасался верить честным и умным людям и доверял хитрому льстецу, не дорожил своим саном и между тем ревновал к совместникам… Он, быв наследником, внушил общую к себе любовь всей России, как она обрадовалась, когда он вступил на престол. Это воспоминание, отрадное для частного человека, тяготило царя. Он боялся иметь наследника, который заменил бы его в глазах и мыслях народа, как он, конечно без всякого умысла, затмил своего отца. Соперничества Константина Павловича он не боялся: цесаревич не был ни любим, ни уважаем и давно уже говорил, что царствовать не хочет и не будет. Он опасался превосходства Николая и заставлял его играть жалкую и тяжелую роль бригадного и дивизионного командира, начальника инженерной части, не важной в России. Вообразите, каков был бы Николай с своим благородным твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, если б его приготовляли к трону хотя бы так, как приготовляли Александра. Но того воспитывала Екатерина Алексеевна, а этого Мария Федоровна, женщина почтенная и добродетельная, но ограниченная в своих взглядах и суждениях, трудолюбивая и неусыпная нянька и хозяйка, но весьма недальновидная в политике и истории. Немка в душе…
В этом пассаже главное и, скорее всего, справедливое – недоверие Александра к младшему брату и боязнь придворных интриг в его пользу. Что до остального, то мемуарист заблуждается – командование гвардейской дивизией было естественным для молодого великого князя, а инженерную часть он фактически сам и создал, обожая инженерное дело.
И маловероятно, чтобы какое бы то ни было воспитание принципиально изменило характер Николая Павловича.
Из письма императрицы Елизаветы Алексеевны матери. Март 1820 года
Суть дела такова: уже несколько лет великий князь Константин имел любовницу, которая успела надоесть ему, да к тому же была еще неверна. В конце концов он положил переменить свой образ жизни и жениться, но не на особе равного с ним положения, а на одной польской даме. Я бы не поклялась, что во всем этом нет польской интриги, и полагаю сие даже более вероятным. Он уже давно просил у императора разрешения на развод, еще когда хотел жениться на княжне Четвертинской, но в это время сему воспротивилась императрица-мать своим обычным непреклонным ответом: «Выбирайте особу вашего ранга, и я соглашусь». Тогда она и не допустила сего таковым разумным решением. Теперь же дела переменились, все приняло совершенно иной оборот: она уже видит Николая и его потомство слишком близко к престолу, чтобы способствовать их удалению от сего вследствие законного брака Константина, и потому уже согласна на мезальянс, при котором все возможные отпрыски оного будут отстранены от престолонаследия посредством официального акта. Это всех устраивает. Императора, могущего таким образом способствовать участию нежно любимого брата; вдовствующую императрицу, поскольку это обеспечивает трон тем, кого она называет своими истинными детьми; Николая, для которого корона уже давно привлекательна; наконец, самого Константина, совершенно не амбициозного и с польскими вкусами, он даже готов еще при жизни императора отказаться от своих прав на престол… В моей душе что-то столь сильно противится сему нарушению престолонаследия и связанным с этим побуждениям, что я не могу без боли думать и говорить об этом.
Из «Записок» Николая I
В лето 1819 года находился я в свою очередь с командуемою мной тогда гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Перед выступлением из оного было в моей бригаде линейное учение, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После учения пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.
Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременная старшей дочерью Мариею); что он счастья сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье; что последствия для обоих были те, что ни тот ни другой не имели детей, которых бы могли признать, и что сие чувство для него самое тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают, что в нашем веке государям кроме других качеств нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг, как он его разумеет, и что потому он решился, ибо сие считает своим долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно говорил о том брату Константину Павловичу, который, быв с ним одних почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство.
Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.
Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было – служить ему изо всей души, и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей, что мысли мои даже дальше не достигают.
Дружески отвечал мне он, что, когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка и хода правительственных дел, ибо хотя при императрице Екатерине в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками; но при восшествии на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушался, не заменяясь ничем. Что с восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению и всему дано законное течение; и что потому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать.
Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой открываются приятные виды, как вдруг разверзается под ногами пропасть…
В этом тексте немало лицемерия. Николай декларирует свое обожание старшего брата, но вряд ли он забыл, что Александр санкционировал убийство их отца, которого Николай и в самом деле обожал.
Что до порядка, установившегося при Александре, то мы помним, что писал великий князь о положении в гвардии.
И крайне маловероятно, чтобы перспектива восшествия на престол приводила его в такой ужас. Вспомним опять-таки наблюдение императрицы Елизаветы Алексеевны о безусловных надеждах Николая на воцарение и позицию вдовствующей императрицы Марии Федоровны, мечтавшей о троне для Николая.
Все они не могли простить Александру смерти императора Павла.
Эти разговоры о своем ужасе перед будущей властью должны были ретроспективно оправдать поведение Николая за несколько лет до того – в ноябре 1825 года, в период междуцарствия. О чем речь впереди.
Из письма императрицы Елизаветы Алексеевны матери. 1820
Любезная и добрейшая маменька, посылаю Вам злополучный манифест о разводе великого князя Константина (с первой женой Анной Федоровной. – Я. Г.)… Как и следовало ожидать, он наделал здесь много шума. По большей части порицают вдовствующую императрицу, вспоминая, что пятнадцать лет назад она сказала императору и великому князю Константину при таких же обстоятельствах, что согласится на развод только в том случае, если великий князь Константин изберет себе жену своего ранга. Спрашивают, почему теперь, в подобном же случае, она изменила свое мнение, и на это вполне резонно отвечают: из предрасположения к Николаю и его потомству! Не обходится и без таких преувеличений, будто она сама требовала сего развода, что, конечно, совсем не так. Все это доставило мне немало неприятных минут… Вдовствующая императрица под влиянием своей склонности к Николаю и его жене (только которых она и называет своими детьми) часто позволяет им принимать совершенно неуместный тон и вести себя самым неподобающим образом. Александрина (жена Николая Павловича. – Я. Г.), получившая самое дурное воспитание, не знает, что такое обходительность, и менее всего по отношению к императору и ко мне, а Николай поставил себе за принцип изображать независимость!
Таким образом, отношения в августейшем семействе вопреки картине, нарисованной Николаем, были отнюдь не идиллическими.
При жизни Александра вдовствующая императрица Мария Федоровна, после убийства ее мужа сама претендовавшая на власть, интриговала в пользу Николая, очевидно рассчитывая при нем влиять на дела государства.
Из «Записок о восстании» декабриста Владимира Ивановича Штейнгеля
Константин в 1823 году в бытность в Петербурге подписал отречение. Кстати упомянуть об одном рассказе покойного профессора Мерзлякова… «Когда разнесся слух [о воцарении Николая I] по Москве, – говорил Алексей Федорович, – случилось у меня быть Жуковскому; я его спросил: „Скажи, пожалуй, ты близкой человек – чего нам ждать от этой перемены?“ „Суди сам, – отвечал Василий Андреевич, – я никогда не видел книги в его [Николая Павловича] руках; единственное занятие – фрунт да солдаты“».
Что бы ни писал Николай позже в своих воспоминаниях, он настойчиво думал о возможности своего воцарения.
В 1813 году семнадцатилетний великий князь представил своему «профессору морали» Федору Павловичу Аделунгу пересказ сочинения одного из историков античности об императоре-философе Марке Аврелии.
Для человека, мечтавшего о престоле, это весьма многозначительный текст.
Учебное сочинение великого князя Николая Павловича
24 января 1813 г.
Милостивый государь! Вы доставили мне удовольствие прочесть на одном из Ваших дополнительных уроков похвальное слово Марку Аврелию, соч[инение] Тома, этот образчик возвышенного красноречия принес мне величайшее наслаждение, раскрыв предо мною все добродетели великого человека и показав мне в то же время, сколько блага может сотворить добродетельный государь с твердым характером. Позвольте мне, милостивый государь, возобновить перед Вами уверения в моей благодарности и за то, что Вы пожелали познакомить меня с этим интересным и прекрасным произведением французского красноречия. Вы были так добры, что предложили мне написать сочинение по поводу прекрасного произведения Тома; я чувствую всю трудность этой работы, но буду вполне счастлив, если удастся преодолеть ее.
Тома изображает нам тот момент, когда пышная и торжественная процессия со смертными останками Марка Аврелия, умершего в Виенне, приближается к Риму в невозмутимой тиши и в мертвом молчании. Коммод, во главе населения всемирной столицы, выходит на встречу тела – своего отца и отца народа. В той толпе находился и воспитатель Марка Аврелия, Аполлоний, человек редкой добродетели, безупречный по своей жизни. Остановив погребальное шествие, к удивлению всех присутствующих, почтенный старец, обладавший величественной наружностью, произнес речь в честь Марка Аврелия, в которой он, чтобы дать сильнее почувствовать всю горечь утраты, только что причиненной смертью необыкновенного государя, указал в беглом обзоре главнейшие черты его общественной и частной жизни. Самым замечательным в этой речи мне кажется то место, где Аполлоний, описывая физическое и нравственное воспитаниеМарка Аврелия, говорит: «Он был деятелен и ловок во всех телесных упражнениях, что дало ему возможность впоследствии выносить все тягости войны; учился он также весьма старательно, так как понимал всю пользу этих занятий для своего будущего». Далее Аполлоний повествует о мудрости Марка Аврелия как частного человека и в доказательство того, что этот государь чувствовал всю трудность управления своей обширной империей, сообщает, что в ту минуту, когда он получил известие о своем избрании на престол, он впал в задумчивость, а потом, бросившись на шею к своему учителю, просил у него советов, чтобы сделаться достойным выбора римлян. Затем автор, приводя размышления Марка Аврелия об его двояких обязанностях, как человека и как члена общества, влагает в уста его следующую речь:
«Я пришел к мысли, что люди смыкаются в общества по велению самой природы. С этой минуты я смотрел на себя с двух точек зрения: прежде всего я видел, что составляю лишь ничтожную частицу вселенной, поглощенную целым, увлеченную общим движением, которое охватывает собой все живущее; затем я представлял себя как бы отделенным от этого безмерного целого и соединенным с человечеством посредством особого союза. Как частица вселенной, ты обязан, Марк Аврелий, принимать безропотно все, что предписывает мировой порядок; отсюда рождается твердость в перенесении зол и мужество, которое есть не что иное, как покорность сильной души. Как член общества, ты должен приносить пользу человечеству: отсюда возникают обязанности друга, мужа, отца, гражданина. Переносить то, что предписывается законами естества, исполнять то, что требуется от человека по существу его природы: вот два руководящих правила в твоей жизни. Тогда я уразумел, что называется добродетелью, и уже не боялся более сбиться с прямого пути».
Далее, сообразив свои обязанности как государя и изумившись тяжести их, Марк Аврелий говорит о себе:
«Испуганный моими обязанностями, я захотел познать средства к их выполнению – и мой ужас удвоился. Я видел, что мой долг превышал силы одного человека, а мои способности не выходили из размера этих сил.
Для выполнения таких обязанностей нужно было бы, чтобы взор государя мог обнять все, что совершается на огромнейших расстояниях от него, чтобы все его государство было сосредоточено в одном пункте пред его мысленным оком. Нужно было бы, чтобы до его слуха достигали все стоны, все жалобы и вопли его подданных; чтобы его сила действовала так же быстро, как и его воля, для подавления и истребления всех врагов общественного блага. Но государь так же слаб в своей человеческой природе, как и последний из его подданных. Между правдою и тобою, Марк Аврелий, воздвигнутся горы, создадутся моря и реки; часто от этой правды ты будешь отделен только стенами твоего дворца – и она все-таки не пробьется сквозь них. Помощь, тебе оказанная, не слишком пособит твоей слабости. Дело, доверенное чужим рукам, или идет медленно, или уторопляется, или извращается в самой своей задаче. Ничто не исполняется согласно с замыслом государя; ничто не доходит до него в надлежащем виде: добро преувеличивается, зло – прикрывается, преступление – оправдывается, и государь, всегда слабый или обманутый, всегда подверженный влиянию заблуждений или измены тех лиц, которые поставлены им затем, чтобы все видеть и слышать, – постоянно колеблется между невозможностью знать и необходимостью действовать».
Правление этого государя вполне подтверждает, что он не говорил пустых фраз, но действовал по плану, глубоко и мудро обдуманному, никогда не отступая от принятого пути. Я предполагал было, милостивый государь, поговорить об ораторской отделке этой речи; но, опасаясь растянутости и думая, что для моей цели достаточно двух приведенных отрывков, скажу в заключение этого сочинения, что я писал его с величайшим сочувствием к личности государя, вполне достойного удивления и подражания.
Свидетельствуя Вам еще раз мою признательность, остаюсь, милостивый государь, с особенным к Вам почтением и пр.
Если вчитаться в этот текст, то ясно, что великий князь пытался трезво осознать меру ответственности и тяжести, которая ложится на плечи августейшей особы…
Из «Воспоминаний о событиях 14 декабря 1825 года» великого князя Михаила Павловича
…Во второй половине ноября 1825 года, когда государь был в Таганроге, он (великий князь Михаил Павлович говорит о себе в третьем лице. – Я. Г.) жил… в Бельведере (резиденция великого князя Константина Павловича в Варшаве. – Я. Г.), в покоях, которые отделялись от половины хозяина только одною комнатою. В цесаревиче в это время происходило что-то странное. И брат его, и все приближенные видели, что он совсем не во всегдашнем расположении духа и необыкновенно пасмурен. Он даже часто не выходил к столу и на вопросы брата своего отвечал только отрывисто, что ему нездоровится… […] 25-го числа цесаревич, все погруженный в то же расстройство, опять не выходил к столу, и брат его, отобедав один с княгинею Лович, прилег потом отдохнуть. Вдруг отворяется его дверь; цесаревич, пройдя в ту комнату, которая разделяла их половины, зовет его к себе для сообщения чего-то очень нужного.
– Michel, – сказал он, когда великий князь, накинув наскоро сюртук, к нему вбежал: – Приготовься услышать страшную весть, нас постигло ужаснейшее несчастие.
– Что такое? – вскричал великий князь в смертельном беспокойстве. – Не случилось ли чего с матушкой?
– Нет, благодаря Бога, но над нами, над всею Россиею разразилось то грозное бедствие, которого я всегда так страшился: мы потеряли нашего благодетеля: не стало государя! […] Теперь, – сказал он Михаилу Павловичу, – настала торжественная минута доказать, что весь прежний мой образ действий был не какою-нибудь личиною… […] В намерениях моих, в моей решимости ничего не переменилось, и воля моя – отречься от престола – более чем когда-либо непреложна.
Восшествие на престол
Вопрос о престолонаследии
Возведение в сан русского императора, о чем много лет мечтал великий князь Николай Павлович, произошло, как известно, при весьма драматических обстоятельствах. Чтобы представить себе все своеобразие ситуации, предшествующей кровавой драме 14 декабря, стоит сделать некоторое усилие и прочитать комплекс документов, сопутствующих смене наследника и спровоцировавших катаклизм.
Грамота Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к покойному Государю Императору АЛЕКСАНДРУ I об отречении Его Высочества от наследия Престола[1]
Всемилостивейший Государь!
Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения Вашего Императорского Величества ко Мне, осмеливаюсь еще раз прибегнуть к оному и изложить у ног Ваших, Всемилостивейший Государь! всенижайшую просьбу Мою.
Не чувствуя в Себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению Моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение Нашего Государства. Сим могу Я прибавить еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал Я непринужденно и торжественно при случае развода Моего с первою Моею женою. Все обстоятельства Моего нынешнего положения Меня наиболее к сему убеждают и будут пред Государством Нашим и всем светом новым доказательством Моих искренних чувств.
Всемилостивейший Государь! Примите просьбу Мою благосклонно и испросите на оную согласие Всеавгустейшей Родительницы Нашей и утвердите оную Вашим Императорским Словом. Я же потщусь всегда, поступая в партикулярную жизнь, быть примером Ваших верноподданных и верных сынов любезнейшего Государства Нашего.
Есмь с глубочайшим высокопочитанием,
Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорского Величества
Вернейший подданный и Брат
На подлинном, собственною рукою писанном, письме подписано тако:
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
С.-Петербурга
Генваря 14 дня 1822 года
На копии написано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
С подлинным верно.
АЛЕКСАНДР
Ответная Грамота покойного Императора АЛЕКСАНДРА I о согласии Его Величества на отречение от Престола Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА
Любезнейший Брат!
С должным вниманием читал Я письмо Ваше. Умев ценить всегда возвышенные чувства Вашей души, сие письмо Меня не удивило. Оно Мне дало новое доказательство искренней любви Вашей к Государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного.
По Вашему желанию предъявил Я письмо сие Любезнейшей Родительнице Нашей. Она его читала с тем же, как и Я, чувством признательности к почтенным побуждениям, Вас руководствовавшим.
Нам Обоим остается, уважив причины, Вами изъясненные, дать полную свободу Вам, следовать непоколебимому решению Вашему, прося Всемогущего Бога, дабы Он благословил последствия столь чистейших намерений.
Пребываю навек душевно Вас любящий Брат
На подлинном подписано Его Императорского Величества рукою тако:
АЛЕКСАНДР
На копии написано:
Верно.
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
С.-Петербург.
Февраля 2 дня
1822 года
Манифест покойного Государя Императора АЛЕКСАНДРА I, утверждающий отречение от наследия Престола Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА и утверждающий Наследником Его Императорское Величество Великого Князя НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
Божиею милостию Мы, АЛЕКСАНДР Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и проч. и проч. и проч. объявляем всем Нашим верным подданным. С самого вступления Нашего на Всероссийский Престол непрестанно Мы чувствуем Себя обязанными пред Вседержителем Богом, чтобы не только во дни Наши охранять и возвышать благоденствие возлюбленного Нам Отечества и народа, но также предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после Нас, чрез ясное и точное указание Преемника Нашего, сообразно с правами Нашего Императорского Дома и с пользами Империи. Мы не могли, подобно предшественникам Нашим, рано провозгласить Его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно недоведомым судьбам Божиим даровать Нам Наследника Престола в прямой линии. Но чем далее протекают дни Наши, тем более поспешаем Мы поставить Престол Наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.
Между тем как Мы носили в сердце Нашем сию священную заботу, Возлюбленный Брат Наш, Цесаревич и Великий Князь КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, по собственному внутреннему побуждению, принес Нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое Он мог бы некогда быть возведен по рождению Своему, передано было тому, кому оное принадлежит после Него, Он изъяснил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному Акту о наследовании Престола, постановленному Нами в 1820 году, и Им, поколику то до Него касается, непринужденно и торжественно признанному.
Глубоко тронуты Мы сею жертвою, которую Наш Возлюбленный Брат, с таким забвением Своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений Нашего Императорского Дома и для непоколебимого спокойствия Всероссийской Империи.
Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к Нашему сердцу и столь важном для Государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования Престола у имеющих на него право не отъемлют свободы отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола, – с согласия Августейшей Родительницы Нашей, по дошедшему до Нас наследственно Верховному праву Главы Императорской Фамилии и по врученной Нам от Бога Самодержавной власти, Мы определили: во-первых: свободному отречению первого Брата Нашего, Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА от права на Всероссийский Престол быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в Московском Большом Успенском Соборе и в трех высших Правительственных местах Империи Нашей: в Святейшем Синоде, Государственном Совете и Правительствующем Сенате. Во-вторых: вследствие того, на точном основании акта о наследовании Престола, Наследником Нашим быть второму Брату Нашему, Великому Князю НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ.
После сего Мы остаемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет Нас от сего временного Царствия в вечность, Государственные сословия, которым настоящая непреложная воля Наша и сие законное постановление Наше, в надлежащее время, по распоряжению Нашему, должно быть известно, немедленно принесут верноподданническую преданность свою назначенному Нами Наследственному Императору единого нераздельного Престола Всероссийския Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского. О Нас же просим всех верноподданных Наших, да они с тою любовью, по которой Мы в попечении о них непоколебимом благосостоянии полагали Высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по неизреченному Его милосердию, в Царствие Его вечное.
Дан в Царском Селе 16 Августа, в лето от Рождества Христова 1823, Царствования же Нашего в двадесять третие.
На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
Александр
Как и многое в нашей новейшей истории, парадоксальная ситуация, породившая все эти документы, восходит ко временам Петра I.
В последние годы жизни Петр, не желая, чтобы престол унаследовал его внук, сын убитого им царевича Алексея, отменил традиционный порядок престолонаследия. С этого времени император получал право назначать наследника по своему усмотрению, а не по старшинству в роде.
Это привело к большой путанице в русской политике. Петр умер, не успев назвать имя будущего государя, и выбор естественным образом перешел в руки гвардии – единственной организованной политической силы.
Екатерина I, Анна Иоанновна, Екатерина II именно гвардии обязаны были своим воцарением.
Павел I отменил петровский закон и восстановил прежний традиционный порядок. Александр I, как видим, фактически пошел по пути Петра.
По существу, ни один из кандидатов, имена которых звучали в декабре 1825 года, не имел юридического права на русский престол. Константин – в силу своего отречения и женитьбы на особе не августейшего рода. Николай – потому что в русском законодательстве не было нормы, позволяющей передать престол по завещанию.
Но главное – роковой манифест от 16 августа 1823 года был скрыт от общества. О нем знали лишь несколько доверенных лиц императора, а миллионы жителей продолжали считать будущим своим государем великого князя Константина, чье имя в торжественных молебнах произносилось непосредственно после имен царствующей четы и императрицы-матери, как и подобало упоминать наследника престола.
Именно эта неизвестность, эта уверенность Александра в своем праве распорядиться престолом внутри августейшей семьи, игнорируя как закон, так и общественное мнение, и привели к трагедии 14 декабря.
Из «Записок» декабриста Сергея Петровича Трубецкого
При всех своих недостатках Александр почитался несравненно лучше своих братьев. Его озарял блеск славы, приобретенной борьбой с Наполеоном, величайшим гением своего времени… Великодушие его к победе, кротость к побежденным, отсутствие тщеславия не изгладились в памяти людей, хотя доверенность к нему народов была поколеблена… Хотя он был привязан крепко к мысли о своем самодержавии и, казалось, довольный приобретенной славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился; хотя ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонения на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространять, и хотя даже он подвергся обвинению в чувстве презрения к народу, но при всем том смерть его почиталась истинным несчастием. Может быть, всякая перемена владетельного лица в деспотическом правлении наводит страх: к недостаткам деспота, когда они не великие пороки, привыкаешь, и перемена самовластительного правителя наводит невольную боязнь. Как бы то ни было, но страх господствовал в сердцах всех тех, кто не был приближен к тому или другому из двух лиц, которые могли наследовать престол. Константин не оставил по себе хорошей памяти в столице; надеялись, однако ж, что лета изменили его, и эта надежда подкреплялась вестями из Царства Польского. Николай известен был только грубым обхождением с офицерами и жестокостью с солдатами вверенной ему гвардейской дивизии. Двор хотел Николая, и придворные говорили, что с ним ничего не переменится, все останется как было, только будет император 25 годами моложе. Константину же неприлично потому быть императором русским, что он женат на польке; и как допустить, чтоб простая польская поставлена была саном выше великих княгинь из домов королевских.
Николай I. Из «Замечаний на книгу М. Корфа „Восшествие на престол Николая I“»
25 ноября вечером, часов в 6, я играл с детьми, у которых были гости. Как вдруг пришли мне сказать, что военный генерал-губернатор гр. Милорадович ко мне приехал. Я сейчас пошел к нему и застал его в приемной комнате живо ходящим по комнате с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил:
– Что это, Михаил Андреевич, что случилось?
Он мне отвечал:
– Ужасные известия.
Я ввел его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письмо от кн. Волконского и Дибича, говоря:
– Государь умирает, остается самая слабая надежда.
У меня ноги подкосились; я сел и прочел письмо, где говорилось, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох.
С этого момента в Петербурге стали развиваться события, которые привели к тихому дворцовому перевороту.
О манифесте Александра I знали и сам Николай, чтобы он ни говорил, и императрица Мария Федоровна, и ряд сановников. Скорее всего и Милорадович. Но, в отличие от придворной группировки, Милорадовича и верхушку гвардейского генералитета воцарение Николая отнюдь не устраивало.
Из «Записок» Сергея Петровича Трубецкого
Великий князь Николай Павлович в тот день, когда узнал об опасной болезни государя, собрал к себе вечером князей Лопухина и Куракина и графа Милорадовича, представил им возможность упразднения престола и свои на оный права. Граф Милорадович решительно отказал ему в содействии, опираясь на невозможность заставить присягнуть войско и народ иначе как законному наследнику.
Еще до совещания у великого князя Милорадович, обладавший в отсутствие императора почти неограниченной властью в столице, совещался с генералами – командующим гвардией А. Л. Воиновым, командующим гвардейской пехотой К. И. Бистромом, дежурным генералом Главного штаба А. Н. Потаповым и начальником штаба гвардии А. И. Нейдгартом.
Милорадович и Потапов были личными друзьями великого князя Константина – Потапов служил его адъютантом во время наполеоновских войн, – у Бистрома имелись свои счеты с Николаем.
Было решено ни в коем случае не допускать присяги Николаю. Волей покойного или умирающего императора можно было пренебречь. Тем более что она была юридически некорректна.
Судьбу престола снова решала гвардия. В этот раз в лице своего высшего генералитета…
Из воспоминаний литератора Рафаила Михайловича Зотова
Я сидел у [драматурга] Шаховского. Вдруг в комнату вошел граф Милорадович. Он был во всех орденах и приехал прямо из дворца, рассказ его о случившемся там был вполне исторический.
Рассказав о привезенном известии о кончине Александра I, он – как главнокомандующий столицею и начальник всего гвардейского корпуса – обратился к великим князьям Николаю и Михаилу (ошибка мемуариста: Михаил в это время был в Варшаве. – Я. Г.), чтоб тотчас же присягнуть императору Константину. Николай Павлович несколько поколебался и сказал, что, по словам его матери императрицы Марии Федоровны в Государственном совете, в Сенате и в московском Успенском соборе есть запечатанные пакеты, которые в случае смерти Александра повелено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения.
«Все это прекрасно, – сказал я (так говорил граф Милорадович), – но прежде всего приглашаю ваше императорское высочество исполнить свой долг верноподданного. По государственному закону преемником престола является император Константин, и мы сперва исполним свой долг, присягнем ему в верности, а потом будем читать, что благоугодно было повелеть нам императору Александру». Сказав это, я взял великого князя под руку, и мы произнесли присягу, какой от нас требовал закон.
Министр внутренних дел князь Д. И. Лобанов-Ростовский на обсуждении возникшей ситуации на Государственном совете произнес знаменательную фразу: «Покойные государи воли не имеют!»
Из «Записок» Сергея Петровича Трубецкого
Молодые великие князья… не имели дара поселить к себе любовь, их особенно не любили военные. Однако же большая часть высшего круга желали иметь императором Николая. Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из того ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине.
После страшной смерти любимого отца это грубое отстранение от престола, о котором он мечтал с юности, было вторым катастрофическим потрясением, выпавшим на долю Николая Павловича, безусловно сказавшимся на его характере – он перестал доверять кому бы то ни было. Когда через пять лет он получил донос на преданного ему А. Х. Бенкендорфа – обвиняли шефа жандармов не более не менее как в том, что он участник страшного заговора иллюминатов (неканоническое ответвление масонства), – то Николай отстранил главу политической полиции от расследования и поручил разбирательство по этому делу гвардейским генералам…
С Константином у генералов ничего не вышло. Своей акцией они спровоцировали междуцарствие и дали повод для мятежа 14 декабря.
Константин категорически отказался менять свое решение.
Во-первых, его раз и навсегда ужаснула судьба отца. Во-вторых, он вообще не чувствовал в себе сил для подобной гигантской ответственности.
Николай умолял его приехать в Петербург в качестве императора, которому присягнула вся страна, и официально отречься в пользу младшего брата, чтобы он, Николай, не выглядел узурпатором. Он хорошо знал, на что способна гвардия в критические моменты…
Но для Константина такой поворот событий означал крушение всей его привычной и любимой им жизни. Бывший император – такого еще в русской истории не бывало! – уже не мог командовать польской армией и вообще занимать любой государственный пост. Единственным вариантом была вечная эмиграция. Константин этого не желал… Он ограничился полуофициальными письмами…
Письмо Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к Государыне Императрице Марии Федоровне, подтверждающее отречение от наследия Престола Его Высочества
Всемилостивейшая Государыня,
Вселюбезнейшая Родительница!
С сокрушенным сердцем получив вчерашнего числа в 7-м часов вечера поразившее Меня глубочайшею горестию от Начальника Главного Штаба Его Императорского Величества Генерал-Адъютанта Барона Дибича и Генерал-Адъютанта Князя Волконского уведомление и акт, при сем в оригиналах прилагаемые, о кончине обожаемого Нами Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Моего Благодетеля, спешу разделить с Вашим Императорским Величеством постигшую Нас скорбь, прося Всевышнего, дабы Он Всемогущею Благодатью Своею подкрепил силы Наши к перенесению столь жестоко постигшего Нас рока.
Степень, на которую Меня возводит сие поразившее Нас несчастие, поставляет Меня в обязанность излить пред Вашим Императорским Величеством со всею откровенностью истинные чувствования Мои по сему важному предмету.
Небезызвестно Вашему Императорскому Величеству, что по собственному Моему побуждению просил Я блаженной памяти Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА об устранении Меня от права наследия Императорского Престола, на что и удостоился получить от 2 Февраля 1822 года собственноручный Высочайший Рескрипт, у сего в засвидетельствованной копии прилагаемый, в коем Его Императорское Величество изъявил на то Высочайшее Свое соизволение, объявя, что и Ваше Императорское Величество на то согласны, что самое и лично изволили Мне подтвердить. Притом воля покойного Государя Императора была, дабы помянутый Высочайший Рескрипт хранился у Меня в тайне до кончины Его Величества.
Обыкши с младенчества исполнять свято волю как покойного Родителя Моего, так и скончавшегося Государя Императора, а равно Вашего Императорского Величества, Я, не выходя и ныне из пределов оной, почитаю обязанностью Моею право Мое на наследие, согласно установленному Государственному акту о наследии Императорской Фамилии, уступить Его Императорскому Высочеству Великому Князю НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ и Наследникам Его.
С теми же чувствами откровенности вменяю в долг изъявить: что Я, не простирая ни до чего более Моих желаний, единственно сочту Себя счастливейшим, если удостоюсь продолжать выше тридцатилетнее Мое Служение блаженной памяти Государям Императорам, Родителю и Брату, ныне же Его Императорскому Величеству НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, с таким же глубочайшим благоговением, живейшим усердием и беспредельною преданностью, которые во всех случаях Меня одушевляли и одушевлять будут до конца дней Моих.
Изъяснив таким образом истинные и непоколебимые чувствования Мои и повергая Себя к стопам Вашего Императорского Величества, всенижайше прошу, удостоив благосклонным Вашим принятием сие письмо, оказать Мне милость объявлением оного где следует для приведения в надлежащее исполнение; чем совершится в полной мере и силе соизволение Его Императорского Величества, покойного Государя и Благодетеля Моего, и вместе с тем согласие на оное Вашего Императорского Величества.
При сем осмеливаюсь также всенижайше представить Вашему Императорскому Величеству копию с письма Моего Его Императорскому Величеству Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, вместе с сим посланного.
Есмь с глубочайшим благоговением,
Всемилостивейшая Государыня!
Вашего Императорского Величества
На подлинном собственною Его Императорского Высочества рукою подписано тако:
Всенижайший и всепокорнейший сын
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
Варшава
26 Ноября 1825 г.
Грамота Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА к Его Императорскому Величеству НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, подтверждающая отречение от наследия Престола Его Императорского Высочества
Любезнейший Брат!
С неизъяснимым сокрушением сердца получил Я вчерашнего числа вечером в 7 часов горестное уведомление о последовавшей кончине обожаемого Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, Моего Благодетеля.
Спеша разделить с Вами таковую постигшую Нас тягчайшую скорбь, Я поставляю долгом Вас уведомить, что вместе с сим отправил Я письмо к Ея Императорскому Величеству, Вселюбезнейшей Родительнице Нашей, с изъявлением непоколебимой Моей воли в том, что по силе Высочайшего собственноручного Рескрипта покойного Государя Императора, от 2 Февраля 1822 года ко Мне последовавшего на письмо Мое к Его Императорскому Величеству об устранении Меня от наследия Императорского Престола, которое было предъявлено Родительнице Нашей, удостоилось как согласия, так и личного Ея Величества Мне о том подтверждения, уступаю Вам право Мое на наследие Императорского Всероссийского Престола и прошу Любезнейшую Родительницу Нашу о всем том объявить где следует, для приведения сей непоколебимой Моей воли в надлежащее исполнение.
Изложив сие, непременною за тем обязанностию поставляю всеподданнейше просить Вашего Императорского Величества удостоить принять от Меня первого верноподданническую МОЮ присягу и, дозволив Мне изъяснить, что, не простирая никакого желания к новым званиям и титулам, ограничиться тем титулом Цесаревича, коим удостоен Я за службу покойным Нашим Родителем.
Единственным Себе счастием навсегда поставляю, ежели Ваше Императорское Величество удостоите принять чувства глубочайшего Моего благоговения и беспредельной преданности, в удостоверение коих представляю залогом свыше 30-летнюю Мою верную службу и живейшее усердие, блаженной памяти Государям Императорам Родителю и Брату оказанные, с коими до последних дней Моих не престану продолжать Вашему Императорскому Величеству и Потомству Вашему Мое служение при настоящей Моей обязанности и месте.
Есмь с глубочайшим благоговением,
Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорского Величества
На подлинном рукою Его Императорского Высочества подписано тако:
Вернейший подданный
КОНСТАНТИН ЦЕСАРЕВИЧ
Варшава
26 Ноября 1825 г.
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству, Великому Князю АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять, и притом но крайней мере старатися споспешествовать все, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе Государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей (генеральной, так и по особливой) определенной и от времени до времени Его Императорского Величества Именем от предуставленных надо мною Начальников, определяемым Инструкциям и Регламентам, и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно должности своей и присяги не поступать, и таким образом себя весть и поступать, как верному Его Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.
14 декабря
Пока кандидаты на престол обменивались бесконечными посланиями, Северное тайное общество собирало силы, привлекало офицеров гвардейских полков и агитировало солдат против новой присяги.
Для русского солдата это было дело неслыханное – присяга была священной клятвой, принесенной не только перед императором, но и перед Богом. Двумя неделями ранее гвардия присягнула Константину, поклявшись в вечной и безусловной верности, а тут пошли слухи, что через какие-нибудь две недели надо принимать новую присягу. А как же прежняя? Освободить от нее мог только сам император Константин, серебряные рубли с профилем которого уже чеканили на Монетном дворе. Но, как мы знаем, Константин категорически отверг этот вариант.
Гвардия роптала. Этим и воспользовались члены тайного общества.
А Николай понимал, что он выглядит узурпатором и попытка занять престол может стоить ему жизни. К этому времени в России уже убили трех законных императоров – Иоанна Антоновича, Петра III и Павла I. Чего же ждать претенденту на престол, чье право сомнительно. Тень любимого отца, убитого своими приближенными, не раз вставала в эти дни перед внутренним взором Николая.
Из «Записок» Николая I
Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой гвардии, один из злейших заговорщиков, ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был сбираться после развода в так называемой Конногвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностью Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо, изверг во всем смысле слова, Якубовский[2], в то же время умел хитростью своей и некоторою наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его в себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке.
Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со страхом, другие – и я смело ставлю себя в число последних – со спокойным духом, что он велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ в письме к матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех – а справедливое нетерпение сие извиняло – было броситься во дворец; всякий спрашивал, присягнул ли Михаил Павлович.
– Нет, – отвечали приехавшие с ним.
Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое – и тонко ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала:
– En bien, Nicolas, prosterner vous devant votre frre, саr il respectable et sublime dans son inalterable determination de vous abandoner le trne[3].
Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, – или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче.
Я отвечал матушке:
– Аvant que de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances![4]
Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо матушки хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было ответа, ни манифеста, словом ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна, и отречение, оставшееся при жизни императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей. Надо было решить, что делать, как выйти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались.
После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымалась всякая возможность к усумлению.
Но брат избрал иной способ: он прислал письмо официальное к матушке, другое – ко мне, и, наконец, род выговора князю Лопухину как председателю Государственного совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие. В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что его высочество просил оставить его при прежде занимаемом им месте и звании.
Однако удалось мне убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой в виде манифеста, с изъяснением таким, которое было развязывало от присяги, ему данной. Матушка и я, мы убедительно о том писали к брату; и фельдъегерский офицер Белоусов отправлен с сим. Между тем решено было нами акты сии хранить у нас в тайне.
Но как было изъяснить наше молчание пред публикой? Нетерпение и неудовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, и в особенности обстоятельство неприсяги Михаила Павловича навело на всех сомнение, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решили сие же самое употребить орудием для своих замыслов. Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо повелений от императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получать – но их не приходило; дела останавливались совершенно; все было в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина императора Александра, и присяга Константину Павловичу там уже известны были. Каждый извлекал из сего, что какое-то особенно важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины.
Однако дальнейшее присутствие Михаила Павловича становилось тягостным и для него, и для нас всех, и потому решено было ему выехать будто в Варшаву, под предлогом успокоения брата Константина Павловича насчет здоровья матушки, и остановиться на станции Неннале, дабы удалиться от беспрестанного принуждения и вместе с тем для остановления по дороге всех тех, кои, возвращаясь из Варшавы, могли повестить в Петербурге настоящее положение дел. Сия же предосторожность принудила останавливать все письма, приходившие из Варшавы; и эстафет, еженедельно приходивший с бумагами, из канцелярии Константина Павловича приносим был ко мне. Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии. Положение самое несносное!
Так прошло 8 или 9 дней. В одно утро, часов в 6, был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом «о самонужнейшем» от генерала Дибича, начальника Главного штаба, и адресованным в собственные руки императору!
Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться. Вскрыть пакет на имя императора был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт!
Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербрга на Москву и до Второй армии в Бессарабии.