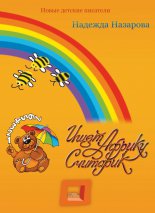Николай I без ретуши Гордин Яков

Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки, дабы ее не испугать или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства. К кому мне было обратиться – одному, совершенно одному без совета!
Читать бесплатно другие книги:
История о медвежонке, которому знание букв и цифр помогло отыскать в далекой Африке сладчайший мёд, ...
Главная ценность этой книги заключается в том, что вы научитесь колдовать, но при этом вам не придет...
Эта книга из ряда «легкого чтива», здесь нет ужасов и криминала. Бывший разведчик Открытый приглашае...
Любовь Маргариты Валуа, королевы Наваррской, и Бонифаса де ла Моль была обречена. Она – жена короля ...
Работа посвящена вопросам развития и совершенствования научных юридических представлений о феномене ...
В какую эпоху живем? Иерархия или сеть? Почту за честь принять предателя? Что можно иметь без денег?...