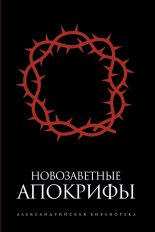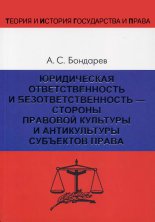Маньчжурские стрелки Сушинский Богдан

Подполковнику не раз приходилось читать довоенные советские газеты, и каждый раз его потрясала маниакальность режима, который с такой жестокостью видел врага в каждом, кто осмеливался хоть на минутку усомниться в гениальности вождя всех времен и народов, обронить неосторожное слово по поводу советской власти или имел несчастье происходить не из пролетариев. Впрочем, пролетариев в этом коммунистическом Содоме тоже не очень-то щадили.
– Господин подполковник, позвольте представить: младший лейтенант милиции Дмитрий Колзин.
Курбатов сидел, привалившись спиной к стене избушки и подставив лицо солнечным лучам. Старые бревна вбирали в себя его усталость, и князь ощущал, как тело оживает и возрождается. Увидев перед собой Тирбаха и Волка, – подполковник так и решил именовать захваченного ими в плен сержанта Буракова «Волком», – он отложил газету и пристально всмотрелся в осунувшееся бледноватое лицо новоиспеченного «милиционера».
– Чего тебе еще желать, Колзин? Отныне ты – офицер милиции. Царь и Бог. Все дрожат, уважают и ублажают.
– Надолго ли?
– Эт-то зависит от тебя самого. Как долго сумеешь.
– Теперь я действительно превратился в волка, которому только-то и делать, что рыскать по тайге, – дрогнувшим голосом проговорил «милиционер».
Курбатов поднялся и с высоты своего роста смерил Волка презрительным взглядом человека, для которого его проблемы и страхи представляются смехотворными.
– Ты еще только должен по-настоящему осознать себя волком. Ты еще только должен озвереть настолько, чтобы не ты людей, люди тебя сторонились, избегали. И вот тогда, лишь тогда, почувствуешь себя сильным и свободным, абсолютно свободным. От страха и угрызений совести. От необходимости трудиться за гроши и поклоняться их идолам; служить и подчиняться.
– Да уж, свободным… – окончательно помрачнел Волк.
– Так чего ты хочешь? Гнить в земле, как эти милиционеры, форму одного из которых надел?
– На меня надели, – пробубнил Волк.
– Неблагодарная тварь, – презрительно процедил фон Тирбах. – Мы во второй раз спасли тебе жизнь. И после этого ты еще смеешь выражать неудовольствие.
– Он прав, – миролюбиво объяснил Волку Курбатов. – Но я не стану ни наказывать тебя, ни переубеждать. Сейчас ты получишь пистолет и все изъятые у милиционеров патроны. Твой автомат тоже остается тебе. С этим арсеналом ты уйдешь в горы. Как будешь жить дальше – твое дело. Но запомни: продержаться следует месяц. Ровно через месяц мы прибудем к этой избушке и вместе отправимся к границе. В Маньчжурии ты пройдешь подготовку в том же лагере, в котором прошли ее все мы, и станешь настоящим диверсантом. Как сложится судьба твоя дальше, этого не может предсказать никто. Даже Иисус Христос. Но по крайней мере теперь ты будешь знать, чего ждать хотя бы в ближайшее время.
– Вот на это я согласен, – просветлело лицо Волка. – На это – да. Пойду с вами. Пусть даже через месяц, только… не обманите.
– Время покажет.
Услышав это, Тирбах скептически ухмыльнулся. Лицо самого Курбатова оставалось невозмутимо серьезным.
– Что я должен делать в течение этого месяца?
– Тирбах, оставьте нас.
– Слушаюсь, господин подполковник.
* * *
Оставшись вдвоем, они пошли берегом речушки в сторону озера. Лазурный плес его оказался неподвижным, а небесно-чистая глубина отражала известково-белесые склоны пологих берегов и подводных скал.
– Прежде всего, вы должны воспитать в себе мужество, прапорщик Бураков. – Теперь Курбатов заговорил с ним предельно вежливо и доверительно. – Спасти вас могут только храбрость и мужество. Это единственная монета и единственная месть, которой вы способны платить миру за свою судьбу, за право жить, за свободу. Не стану ограничивать вас какими-то конкретными заданиями. Пускайте под откос составы. Устраивайте засады на милицию, солдат и особенно на чекистов. Держите в страхе всю округу. Если сумеете, сформируйте небольшую группу, даже отряд. Единственное, чего вы не должны делать, не зверствуйте в селах, не губите крестьян. В любой ситуации вы должны оставаться воином, а не палачом.
– С чего бы я стал зверствовать, да еще в селах? – возмутился Бураков. – Сам из крестьян-казаков.
– Тем более. Однако вернемся к вашей нынешней жизни. Из всего сказанного не следует, что вы должны выглядеть ангелом. Нужна еда, нужны женщины. Война есть война. Но… Вот тут мы подходим к главному. Вы должны выступать под кличкой «Легионер». – Курбатов умолк и выжидающе уставился на Буракова.
– Так ведь вас тоже вроде бы Легионером кличут? – неуверенно молвил тот.
– В этом весь секрет. Вы остаетесь вместо меня. Будете моим двойником. Моей тенью. – Князь достал из внутреннего кармана несколько отпечатанных на глянцевой бумаге визитных карточек, на которых было написано: «За свободу России. В мужестве – вечность. Легионер».
– Что это? – с опаской взглянул на них прапорщик.
– Подобные карточки должны оставаться на теле каждого убитого коммуниста, в руках каждого отпущенного вами на свободу политического зэка. Кончатся эти – напишите от руки. Каждый, с кем вы встретитесь и кого пощадите, должен знать: его пощадил Легионер. Каждый, кого вы казните, должен умирать с осознанием того, что казнен Легионером. Этот край должна захлестнуть легенда о Легионере. И пусть все ваши грехи падут на меня. Моя душа стерпит это. Не стесняясь, называйте себя моей кличкой. Пишите ее мелом на столбах, стенах, вагонах. Выкладывайте ее камнями на слонах сопок. В аду вся ваша смола достанется мне. Живите, старайтесь, наслаждайтесь силой и свободой. Чего еще следует желать мужчине, воину?
Бураков долго молчал.
– Я не думал так. Я совершенно иначе думал, – растерянно сознался он, и лицо его просветлело. Волк вдруг открыл для себя, что не все столь мрачно и безысходно в его жизни, как только что казалось. Он видел себя только обреченным, изгнанным из общества и затравленным. А ведь Курбатов и все его парни – в таком же положении. Но как они держатся! Разве они чувствуют себя затравленными? Почему же он не способен перебороть в себе страх? А ведь это правда: теперь он свободен. Перед ним вся Россия. Свободен и вооружен.
– В «Мужестве – вечность?» – заглянул Бураков в визитку. – Что это значит?
– Родовой девиз князей Курбатовых. Отныне он должен стать и вашим девизом, прапорщик Бураков.
30
Ливень разразился внезапно. Молния вырывалась из разлома горы и пронизывала хвойные склоны ее таким мощным огненным шквалом, что, казалось, после него не должно было оставаться ничего живого. И когда она угасала, становилось странным слышать шумящие кроны сосен и видеть покачивающееся на ветру зеленое марево предгорий.
– Вы должны будете понять меня, князь, – пододвинулся Иволгин поближе к сидевшему у самой двери избушки Курбатову.
– Понять? – вырвался из собственных раздумий подполковник. – О чем вы?
Он мысленно представил себе бредущего по склону горы в своей разбухшей от дождя милицейской форме Волка (ливень начался минут через пятнадцать после того, как Курбатов отправил его из домика восвояси), и подтопляемые потоками воды тела убитых милиционеров, которых забросали камнями где-то в расщелине…
В последнее время Курбатову нередко чудились тела убитых им людей. Странно, что при этом он почти никогда не вспоминал их живыми: ни их ран, ни выражений лиц за мгновение до смерти, которые конечно же должны были бы запомниться, только тела – скрюченные, безжизненные, брошенные на съедение волкам. Это настораживало подполковника. Он всегда с презрением относился к людям со слабыми нервами, с хоть немного нарушенной психикой, с комплексами…
– Соглашаясь войти в вашу группу, я преследовал свою собственную цель.
– Это хорошо, – с безразличием невменяемого подбодрил его князь.
– О которой с Родзаевским говорить не стоило.
– Существует немало тем, о которых с полковником Родзаевским лучше не говорить. О чем не могли говорить с ним лично вы, штабс-капитан?
Высветившийся в небе растерзанный сноп молнии осветил загорелое худощавое лицо Иволгина. Лицо основательно уставшего от жизни, но все еще довольно решительного, волевого человека. Ходили слухи, что атаман Анненков однажды приговорил его к расстрелу. Но потом, в последний момент, помиловал – что случалось у него крайне редко – и отправил в рейд по тылам красных, будучи совершенно уверенным, что в стан его поручик Иволгин уже не вернется. Но он вернулся. Через месяц. С одним-единственным раненым бойцом. И с пятью сабельными ранами на собственном теле.
– Я хочу уйти из группы. Совсем уйти. – Он говорил отрывисто, резко, надолго умолкая после каждой фразы. – Только не сейчас.
– Когда же? – невозмутимо поинтересовался Курбатов. Вместо того чтобы спросить о причине ухода.
– За Уралом. Еще точнее – на Волге. Как-никак я волжанин.
– Но туда еще нужно дойти.
– Нужно, естественно.
Иволгин ждал совершенно иной реакции подполковника. Сама мысль бойца уйти из группы должна была вызвать у Курбатова негодование. Но князь засмотрелся на очередную вспышку молнии и затем еще долго прислушивался к шуму горного ливня.
– Вы, очевидно, неверно поняли меня, – сдали нервы у Иволгина. – Речь идет вовсе не о том, чтобы остаться в родных краях, отсидеться. Или еще чего доброго пойти с повинной в НКВД.
– Мысли такой не допускал. Если это важно для вас, можете вообще не называть причину.
– Нет уж, извините, обязан. Потому и затеял этот разговор.
– А если обязаны, так не тяните волка за хвост, не испытывайте терпение, – резко изменил тон Курбатов. – Только не надо исповедей относительно усталости; о том, что не в состоянии проливать русскую кровь, а сама Гражданская война – братоубийственна…
– Мне отлично известно, что это за война. У меня свои взгляды на нее. И на то, как повести ее дальше, чтобы поднять на борьбу вначале Нижнее и Среднее Поволжье, угро-тюркские народцы, а затем уж и всю Россию.
Порыв ветра внезапно ударил волной дождя в лицо, но Курбатов не отодвинулся от двери и даже не утерся рукой. Он понял, что совершенно не знает человека, с которым сидит сейчас рядом.
Дверь, ведшая в соседнюю комнату, открылась, и на пороге появился кто-то из отдыхавших там диверсантов. Он несколько секунд постоял и вновь закрыл дверь, оставшись по ту ее сторону. Курбатов так и не понял, кто это был.
«Впрочем, кто бы это ни был, – сказал он себе, – все равно окажется, что и его как человека я тоже не знаю. Здесь каждый живет своей жизнью. Каждый идет по России со своей, только ему известной и понятной надеждой. Единственное, что нас роднит, это то, что мы диверсанты…»
Однако, немного поразмыслив, Курбатов все же не согласился с этим выводом. Вряд ли принадлежность к гильдии диверсантов – именно то, что по-настоящему их роднит. Да и поход их вовсе не объединяет. Что же тогда? Жертвенная любовь к России? Ах, как это сказано: «Жертвенная любовь!..». Только не верится что-то…
Так и не найдя для себя сколько-нибудь приемлемого ответа, князь окончательно отступился от мысли отыскать его.
– Вы что-то там говорили о своих, особых, взглядах на то, как начать новое восстание на Поволжье, штабс-капитан. Особые взгляды, ваши – это что, какая-то особая тактика ведения войны? Тактика подполья? Махно, например, разработал своеобразную тактику ведения боя на тачанках: наступательного, оборонительного, засады… Соединив при этом весь известный ему опыт подобного ведения войны со времен египетских колесниц.
– Весьма сомневаюсь, что этому ничтожному учителишке, или кем он там являлся, была известна тактика боя на египетских колесницах, – скептически хмыкал Иволгин.
– Недооцениваете. Ну да оставим батьку в покое. Если ваши взгляды – секрет, то можете не раскрывать его. Со временем познакомлюсь с военными хитростями командира Иволгина по учебнику военной академии.
– Издеваетесь, – проговорил Иволгин. Однако сказано это было без обиды, скорее с иронией. – Не обижайтесь, мне трудно пересказать все то, что удалось осмыслить за годы великого сидения на берегах Сунгари. Единственное, что могу сказать – что все мысли мои нацелены были на то, как вернуться в Россию и начать все заново. Вы правы: я всего лишь штабс-капитан.
Курбатов хотел возразить, что не говорил о том, что Иволгин «всего лишь штабс-капитан», однако вовремя сообразил, что это замечание его не касается, Иволгин ведет диалог с самим собой.
– Но согласитесь: даже у маленького человечка может полыхать в душе великая идея. Вспомните: атаман Семенов начинал с никому не известного есаула, которого никто не хотел принимать в расчет даже тогда, когда он открыто и откровенно заявил о своих намерениях.
– …И даже когда сформировал забайкальскую дивизию, силами которой намеревался спасти Питер от большевиков, – согласился Курбатов, стремясь поддержать в нем азарт человека, зараженного манией величия.
– Вы абсолютно правы. Жаль, что не поделился с вами этими мыслями еще там, в Маньчжурии.
– Побаивались, что после вашей исповеди не решусь включить в группу. Хотя, признаюсь, я догадывался…
– Побаивался, – вздохнул Иволгин. – Вообще откровенничать по этому поводу боялся. Чем величественнее мечта, тем более хрупкой и незащищенной от превратностей судьбы она кажется. Лелея ее, постепенно становишься суеверным: как бы не вспугнуть рок, не осквернить идеал. Не замечали?
– Возможно, потому и не замечал, что мечты, подобно вашей, взлелеять не удосужился. О чем сейчас искренне сожалею.
– Значит, вы не будете против того, чтобы я оставил группу.
– Вы ведь сделаете это, даже если я стану возражать самым решительным образом.
– Мне не хотелось бы выглядеть дезертиром. Маршальский жезл в своем солдатском ранце я нес честно. Если позволите, я сам определю день своего ухода. Вы ведь все равно собираетесь идти в Германию без группы. Так что в Маньчжурию нам предстоит возвращаться в одиночку.
– Остановимся на том, что вы сами решите, когда лучше основать собственную группу и собственную армию.
– С вашего позволения.
– И собственную армию, – повторил Курбатов. – Не страшновато?
– Единственное, что меня смущает, князь, – мой мизерный чин. В армии это всегда важно. Тем более что в первые же дни формирования отряда в нем могут оказаться бывшие офицеры, чином повыше меня.
– До подполковника я смогу повысить вас собственной волей. Имею на то полномочия генерала Семенова.
– Буду весьма признателен.
– Считайте, что уже сделал это, господин подполковник. Завтра объявлю это в форме приказа. Ну а дальше будете поступать, как принято в любой предоставленной самой себе армии. Создадите военный совет, который вправе определять воинские звания всех, в том числе и командующего. В Добрармии Деникина в генералы, как известно, производили не по соизволению царя.
При очередной вспышке молнии Курбатов видел, как Иволгин привалился спиной к стене хижины, и лицо его озарилось багровой улыбкой.
«А ведь лицо этого человека действительно озарено багровой улыбкой… Бонапарта», – поймал себя на этой мысли Курбатов.
Как только ливень прекратился, подполковник поднял группу и увел ее в горы. Слишком долгое отсутствие милиционеров, отправившихся на задержание вооруженного бандита, не могло не вызвать опасения, что с ними что-то приключилось.
Лишь в последний раз, уже с вершины перевала, взглянув на лесную хижину, Курбатов вдруг нашел определение того, что же всех их, диверсантов группы маньчжурских стрелков, на самом деле роднит. Решение оказалось до банальности простым – гибель! Неминуемая гибель, – вот что у них осталось общего!
31
На небольшой станции неподалеку от Читы Курбатов остановил неуклюжего, истощенного с виду солдатика, спешившего с двумя котелками кипятка к воинскому эшелону. Паровоз уже стоял под парами, и солдат, очевидно, боясь опоздать, тем не менее застигнутый врасплох окриком капитана, остановился и, сжавшись от страха, замер прямо посреди колеи, словно пойманный дезертир.
– Вы из этого эшелона?
– Так точно, – едва слышно пролепетал он побледневшими губами. Перед ним стояли два офицера и несколько рослых крепких солдат. Холеные и суровые, они, возможно, показались рядовому «особистами» или «смершовцами».
– Почему не представились?
– Красноармеец Кичин.
Курбатов прошелся взглядом по обвисшей форме солдата с поистертыми локтями и коленками, запыленным, давно не знавшим гуталина, сапогам. Отчего Кичин окончательно сник и словно бы врос в землю вместе со шпалой, на которой стоял.
– Охраной командует лейтенант Слоненков? – назвал Курбатов первую пришедшую на ум фамилию.
– Никак нет, младший лейтенант Цуганов.
– А, ну да, правильно: Слоненков – это ведь помощник военного коменданта станции, – спокойно продолжал провоцировать его Курбатов. – Вас там семнадцать человек?
– Двадцать два.
– Целый взвод? Теперь станет еще больше. Нас послали на подкрепление. К фронту будем двигаться вместе.
– Так я пойду, предупрежу младшего лейтенанта, – обрадовался Кичин возможности поскорее ускользнуть – страх перед офицерами у него уступал разве что страху перед смертью.
– Предупредите. Мы же подождем своего бойца.
Кичин поднырнул под один из трех стоявших на запасном пути вагонов и исчез.
– Думаете, он ничего не заподозрил? – осторожно поинтересовался Тирбах, присел и еще какое-то время пытался проследить путь красноармейца.
– Когда операцию приходится разрабатывать на ходу, экспромтом, случается всякое. Главное, не дать младшему лейтенанту времени на размышления.
– Их втрое больше, – заметил Реутов. – Тем почетнее будет победа – это ясно. И все же…
Они обошли пустые вагоны и увидели, что под свист паровозного гудка эшелон отходит. Мгновенно окинув взглядом платформы с техникой и теплушки, Курбатов определил, что состав действительно важный и отправляется конечно же на фронт. Убедившись, что японцы нападать не собираются, красные решили перебросить бездействующую технику поближе к фронту. Резонно. Генерал Семенов прав: отказавшись от активных действий, японцы, по существу, стали союзниками большевиков.
А еще Курбатов успел заметить, что охрана рассредоточена по трем теплушкам, расположенным в голове, хвосте и посередине эшелона.
– В последний садитесь, товарищ капитан, – выручил их выглянувший из среднего вагона Кичин. – В последний, а то отстанете! Я доложил!
«Сам Бог тебя послал, солдатик!», – мысленно поблагодарил рядового Курбатов.
Именно его крик привел в замешательство вскочивших на ступеньку последними часового и старшего этой теплушки, младшего сержанта. Появление группы капитана Курбатова – по документам все они оставались под своими фамилиями – эти двое восприняли как должное, решив, что все делается с позволения командира взвода.
В вагоне оказалось шестеро солдат, которые, как только эшелон тронулся, улеглись: кто на нары, кто на тюки с солдатскими одеялами и обмундированием. Еще один красноармеец стоял на посту в заднем тамбуре. Командир этого отделения младший сержант Тамтосов – худощавый широкоскулый якут – встретил появление капитана и его группы с полнейшим безразличием. Офицерские знаки различия абсолютно никакого впечатления на него не производили, а чувство предосторожности, похоже, напрочь отсутствовало.
– Старшим охраны эшелона назначен я, капитан Курбатов, – сразу же уведомил его князь, дабы упредить любые недоразумения. Младший лейтенант Цуганов поступает в мое распоряжение.
– Плохо будет младшому, – покачал головой якут. – Очень любит быть командира, да…
– Думаете, станет возражать?
– От Хабаровска идем. Хозяин эшелона – как хозяин тайги.
Усевшись напротив двери, где побольше света, он аккуратно расстелил возле себя какую-то промасленную тряпицу и начал не спеша разбирать и смазывать станковый пулемет.
– Третий раз по винтику разбираем, сержант, – напомнил ему парень, из-под расстегнутой гимнастерки которого выглядывал застиранный выцветший тельник. – На износ работаем. Сочтут за диверсию.
– Ружия чистый быть должен, – поучительно объяснил Тамтосов, поднимая вверх искореженный указательный палец. – Шибкое ружия, да…
– С пулеметом пока отставить, товарищ младший сержант, – властно распорядился Курбатов. – Сначала разберемся с постами.
– С постами у нас шибко хорошо. Сам младший лейтенант разбирался, да… – продолжал возиться с пулеметом якут. И это его дикарское непослушание вызвало у Курбатова не раздражение, а презрительную улыбку. Кому могло прийти в голову давать этому аборигену звание младшего сержанта и назначать командиром отделения?
Цуганов не стал дожидаться следующей станции – добрался до их теплушки по платформам и крышам. Это был невысокого роста, широкоплечий, коренастый сибиряк, в чертах лица которого просматривалось не меньше азиатского, чем в чертах якута Тамтосова.
– Мне сообщили, что вы назначены старшим эшелона? – с ходу перешел он в наступление.
– Отставить, товарищ младший лейтенант, – осадил его Курбатов. – Представьтесь, как положено. Этому вас в училище не учили?
– А меня в училище ничему не учили. Безучилищным на фронт возвращаюсь, – довольно спокойно объяснил взводный. – Звание на фронте получил. Вместе со второй медалью «За отвагу».
Только сейчас Курбатов обратил внимание на небрежно разбросанные по груди четыре медали фронтовика.
– Но представиться – пожалуйста, – вскинул тот руку к козырьку. – Младший лейтенант Цуганов. Из недавних фронтовых старшин. Так что тут все по-штабному. Вопрос к вам: предписание на принятие командования эшелоном имеется?
– Что? Предписание?! – переспросил Курбатов лишь для того, чтобы немного потянуть время. Краем глаза он видел, как Тирбах незаметно переместился ближе к Курганову. Как Чолданов склонился над Тамтосовым, готовый в любое мгновение вышвырнуть его из вагона. Остальные бойцы рассредоточились, незаметно разбирая между собой красноармейцев и готовясь к рукопашной схватке. – Ты что, младшой?! Какое может быть предписание в военное время? – беззаботно рассмеялся князь. – Тут и группа, вон, была сформирована за час до приказа, который получили, считай, в последние минуты. А в охранники попали только потому, что отправляемся на фронт.
– Что-то я впервые вижу, чтобы на фронт отправляли такими небольшими группами, – недоверчиво обвел их взглядом Цуганов.
– Потому что прежде, чем попасть туда, мы окажемся в запасном полку в Самаре. У вас еще будут вопросы?
– Да, – вдруг «вспомнил» Кульчицкий, – комендант сказал, что письменный приказ получим уже в Иркутске. Его отправят телеграфом.
– Что ж вы мне не сказали об этом, лейтенант? – возмутился Курбатов. – Это когда я получал аттестаты на довольствие?
– Так точно.
Цуганов вновь обвел всю группу диверсантов недоверчивым взглядом, и Курбатов понял, что ему стоит большого труда поверить им. Однако иного выхода у младшего лейтенанта не было.
– Как видите, передавать вам, собственно, нечего, – хозяином прошелся по вагону Курбатов. Ткнул носком сапога в один тюк, другой. – Вагоны на месте. Орудия не разворовали.
– Не успели, – проворчал Цуганов.
– Что вас смущает? Отстранили от командования? Считайте, что меня нет. Я буду отсыпаться. Командуйте, как командовали.
– Да странно все как-то. Само появление ваше…
– Странно, что старшего по званию назначают старшим охраны эшелона? Может, вы еще документы потребуете, младший лейтенант? Нет, вы потребуйте, потребуйте.
– Какой в этом прок? Документы-то у вас в любом случае в порядке.
«Его нужно убирать. Немедленно, – сказал себе Курбатов. – Первым. Пока бацилла недоверия не распространилась на всю охрану. Потом будет сложнее».
– На паровозе часовой выставлен? – спросил он, пытаясь выяснить расположение постов.
– Нет. Зачем? До фронта далеко. Мои солдаты в первом вагоне. Часовой в тамбуре.
– Вам виднее, младшой. Тирбах, Реутов, Власевич – со мной. Остальные остаетесь с лейтенантом Кульчицким. – Он вопросительно взглянул на младшего лейтенанта Цуганова. – Пройдемся по эшелону. Покажете посты в штабном вагоне.
В глазах фронтовика отразились страх и растерянность. Он предчувствовал беду, предчувствовал. Но не знал, как отвернуть. Подозревал в словах капитана ложь, однако не смел и не умел доказать ее.
– Ефрейтор Корневой, рядовой Хропань, – обратился он к двум своим бойцам, – сопровождаете меня. Вы, Тамтосов, усильте бдительность. Особенно на остановках. Въезжаем в тайгу, дело идет к ночи.
Тамтосов на минутку оторвался от пулемета и безмятежно посмотрел на командира.
– Шибко хороший ружия, да… – похлопал по стволу «максима». – Жаль, белку стрелять нельзя: мех испортишь, да…
32
На платформе, на которой были установлены два накрытых брезентом орудия, они оказались в тот момент, когда, огибая скалу, машинист огласил предвечернюю тайгу длинным, призывным, словно клич вожака волчьей стаи, воем паровозного гудка. Мгновенно оценив ситуацию, Курбатов наклонился к младшему лейтенанту Цуганову, будто хотел что-то сказать ему на ухо, и в то же мгновение ударил его ножом в живот.
Не успел скорчившийся от боли Цуганов упасть, как подполковник тем же ножом ударил в шею Корневого и, так и оставив его в теле ефрейтора, изо всей силы врубился ребром ладони в сонную артерию Хропаня…
Оседая, красноармеец попал в сатанинские объятия подпоручика Тирбаха, а уж тот, захватив его шею в могучие тиски своих рук, оторвал обреченного от платформы и, удерживая на весу, удушил с такой яростью, с какой это мог сделать только он.
– Кажется, Кичин утверждал, что их было двадцать два, – спокойно вспомнил Курбатов, когда тела красноармейцев оказались под брезентом.
– И еще не знает, что теперь их осталось девятнадцать, – заметил Реутов.
Эшелон медленно втягивался в горный массив, как бы погружаясь при этом в преисподнюю каменистой теснины. Солнечные лучи угасали в нагромождениях скалистых вершин, ветер постепенно утихал, небо покрывалось мутной пеленой облачности, а вагоны начало швырять из стороны в сторону с таким остервенением, словно колея хотела сбросить их с себя, как исчадие войны. Вот только ей это не удавалось.
– Чего медлим, князь? – нетерпеливо поинтересовался фон Тирбах. Он стоял, прислонившись к станине орудия, и по-солдатски, в кулак, курил. – Все равно очищать платформу от тел пока не стоит, могут заметить. А штабной вагон рядом – через две платформы и теплушку.
– Не пойдем мы туда. Вначале нужно рискнуть сбросить тела и вернуться в вагон Тамтосова.
– Считаете, группа Кульчицкого не справится? – проворчал Реутов.
– Слишком опасно идти в штабной вагон без младшего лейтенанта. Это вызовет подозрение. Вернемся, поможем Кульчицкому, а затем дождемся, когда кто-либо из штабного вагона придет, чтобы выяснить, где это задержался их командир. С этим гонцом мы и двинем на штабной.
– Слишком мудрено…
– Но доведем мы его до этой же платформы, как до лобного места, и прикончим, – подсказал подпоручик.
– А что, так и будем использовать ее в роли помоста, – согласился Курбатов.
Он действительно мудрил. Но для этого были причины. Подполковник помнил, что два красноармейца находятся вне штабного вагона – на платформе у самого паровоза. Да и машинисты наверняка вооружены. А завершить эту операцию следовало без лишнего шума, без единого выстрела. Здесь, в прибайкальской тайге, делать им больше нечего. Курбатов намеревался добраться на этом эшелоне хотя бы до Красноярска, а это требовало выдержки и осторожности.
– Впереди левый поворот, – вырвал его из раздумья фон Тирбах. – И горный хребет.
– Это нам подходит. Приготовились. Тела сбрасываем направо. Подальше от колеи. Места здесь пустынные.
Когда через несколько минут платформа была очищена и они по платформам и крышам вагонов вернулись в вагон Тамтосова, там тоже все было кончено. Сам младший сержант лежал проткнутый штыком, но и мертвый продолжал обнимать станковый пулемет – свой «шибко хороший ружия».
– Но остался солдат, стоявший на посту в тамбуре последнего вагона, – озабоченно напомнил Кульчицкий. Он сидел, привалившись спиной к стенке у самой двери, ведущей во вторую, как бы товарную, часть вагона, не обращая никакого внимания на тела и забрызганный кровью пол. С первого взгляда было ясно, что тихо и быстро убрать красноармейцев не удалось. Дело дошло до рукопашной.
– Грубая работа, – обронил Тирбах, помня о том, как прошла операция на платформе. – Могли завалить весь замысел.
– Ах, подпоручик, подпоручик, – язвительно осадил его Кульчицкий, – трудно нам пришлось бы без ваших замечаний. Были бы с нами вы, все было бы иначе.
– Профессиональнее.
Курбатов давно заметил, что они недолюбливают друг друга. Голубокровный польский аристократ Кульчицкий оказался тем единственным из группы, кто не признал законным присвоение Тирбаху офицерского чина, а уж возведение его в титул барона вообще показалось ему преступной несправедливостью.
Курбатов мог бы и не обращать особого внимания на отношения между этими офицерами, если бы не понимал, что в нелюбви поляка к фон Тирбаху таилась немалая доза нелюбви, а возможно, и откровенной зависти Кульчицкого по отношению к нему, князю. Подъесаул всегда помнил, что, при всей древности его рода, ни один из Кульчицких так никогда и не возвысился ни до одного из дворянских титулов, передавая потомкам только свой гонор, обедневшие имения и клеймо «мелкопоместного шляхтича», появляться с которым в высшем свете было стыдно и недостойно.
– Как считаете, Кульчицкий, можно пробраться к часовому, не дожидаясь остановки? – прервал молчание Курбатов.
– Платформа и два вагона, – не задумываясь, ответил подъесаул. – Я проследил этот путь.
– Сможете пройти его? – жестко спросил подполковник, не боясь показывать, что его выбор продиктован спором Кульчицкого с Тирбахом. – Нельзя оставлять этот ствол у себя за спиной.
– За «Великую Польшу от моря до моря» я все смогу, – решительно поднялся Кульчицкий. – Что-что, а снять этот «ствол» мы еще сумеем.
Какое-то время Курбатов, высовываясь из двери, а Тирбах – из окна, напряженно ждали, чем закончится эта вылазка подъесаула в тыл. Оправдывая их самые мрачные предчувствия, она закончилась тем, что Тирбаха удивило: что-то крича от страха, красноармеец спрыгнул с медленно идущего под гору поезда, упал, но тотчас же подхватился и еще бежал и что-то кричал вслед поезду.
Кульчицкий несколько раз выстрелил в него из пистолета, но промахнулся. В вагон к Курбатову он вернулся мрачным, с рассеченной скулой. Куда больнее этой ссадины досаждала ему саркастическая улыбка фон Тирбаха.
– Он ушел, звоны святой Бригитты, – мрачно доложил князю.
Ни Курбатов, ни Тирбах не проронили ни слова. Остальные диверсанты угрюмо ждали реакции командира. Некоторые из них в душе даже радовались, что заносчивый шляхтич Кульчицкий оказался поверженным.
– Он, видимо, услышал шум схватки в вагоне или просто заподозрил что-то неладное, – нервно объяснял подъесаул. – Во всяком случае, ждал меня и чуть не пропорол штыком. Хорошо еще, что не пальнул.
– Зато вы пальнули дважды, – напомнил Власевич, избавляя Тирбаха от необходимости выступать в качестве свидетеля. – И оба мимо. Теперь этот ублюдок доберется до ближайшей станции, откуда сразу же свяжутся с Иркутском. А ждать нас будут на подходе к городу.
– Как бы там ни было, мы должны исходить из того, что он ушел, звоны святой Бригитты, – захватив пальцами щеку, Кульчицкий сжал ее с такой силой, что, казалось, готов вырвать весь рассеченный кусок тела.
– Успокоились, господа стрелки, – вмешался Курбатов, – успокоились. Быстро выбрасывайте тела убитых. Пока что будем готовиться к визиту красных, находящихся в штабном вагоне. Не думаю, чтобы там не расслышали крик беглеца и пистолетных выстрелов.
Ему молча повиновались.
И летели в придорожные каменистые овраги тела убиенных, и медленно двигался по прибайкальской тайге мятежный эшелон, увозя в замогильность ночи кровь и ненависть единоверцев.
33
Курбатов был очень удивлен, поняв, что в Иркутске о нападении на эшелон все еще не знают. Тем не менее принял все меры предосторожности. У состава оставались только он и Власевич. Остальные рассредоточились за стоявшим на соседнем пути товарняком, из-за которого могли, в случае необходимости, прикрывать их отход.
Но страхи оказались излишними. Их продержали на станции всего полтора часа – ровно столько, сколько понадобилось, чтобы сменить паровоз. Этого же времени Реутову и Кульчицкому хватило для того, чтобы по документам группы Цуганова получить продовольственный паек.
– Так что там слышно? – с нетерпением спросил князь, дождавшись их возвращения. Эти парни рисковали больше других. Но Кульчицкий сам вызвался идти на вокзал, желая искупить свою вину перед группой. Реутов же присоединился к нему из солидарности: «терпеть не могу подобных авантюр, но пропитание добывать надо».
– О нас пока ничего, – ответил Реутов. – Странно. Неужели тот, беглый, не сумел добраться до станции?
– Возможно, ему не поверили, сочли за дезертира, – мрачно предположил Кульчицкий.
– Исключено, – холодно возразил Курбатов. – За кого бы его ни приняли, сообщение все равно проверят.
– До нас они пока что не добрались, – продолжил Реутов. – Но какую-то белогвардейку на станции все же схватили. Говорят, с поезда высадили. Вроде как шпионка.
– Что, белогвардейская шпионка?! – насторожился Курбатов. – Вы видели ее?
– На перроне. Красивая баба. Вели к вокзалу, в военную комендатуру.
– Все ясно. Кульчицкий, Иволгин – к паровозу. Машинист сказал, что мы должны отправляться через двадцать минут. Если к тому времени мы не вернемся, постарайтесь задержать эшелон еще на десять минут.
– Решили освобождать?! – изумился подъесаул.
– Тирбах, Власевич, Реутов – со мной. Чолданов и Радчук – следуйте в нескольких метрах от нас. Ожидаете у будки путейца. Действовать, исходя из обстоятельств.
– Слушаюсь, господин подполковник, – ответил Чолданов, принимая на себя старшинство.
На перроне людно. Седовласые мужики с деревянными чемоданами-сундучками; исхудавшие старухи, укутанные так, словно в селах, из которых они добрались до станции, все еще лежат снега и трещат морозы… Проходя мимо них, Курбатов всматривался в лица, и все они казались знакомыми – лицами женщин из даурских станиц. Когда две молодки вдруг вежливо поздоровались с ним, подполковник даже не удивился.
– Вход в комендатуру – из зала ожидания? – спросил он у Реутова.
– Да. Но это безумие, князь, – вполголоса проворчал тот. – У нас всего несколько минут. Ни вокзала, ни местности мы не знаем. Вон, у будки с кипятком, целый взвод солдат. Мы не готовы к этой операции.
– Бросьте, Реутов. Мы готовились к ней еще за кордоном.