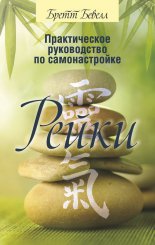Одиночество зверя Аде Александр

– Зачем? – мягко, вальяжно интересуется он.
– Не телефонный разговор. Приходи ко мне. Очень нужно.
– С каких пор мы на «ты»? – надменно удивляется он.
И я узнаю этот голос с чуть заметной французской картавостью! Пульс колотится в ушах так, что еле слышу самого себя. Будто въявь вижу того, кто сейчас говорит со мной. Массивная голова. Внушающее уважение обрюзглое лицо с благородным носом, как будто перечеркнутое упавшей прядью темно-седых волос.
Дряхлеющий царь зверей.
– Извините, пожалуйста. Как-то так вышло… По привычке…
– А ты от этой привычки отвыкай – во всяком случае, когда говоришь со мной. Я тебе не ровня.
– Это очень важно, – хрипло произношу я. – Никогда не просил, а сейчас дело серьезное. Тут на месте решать надо. По телефону никак не получится.
– А чего это у тебя голос какой-то… Словно бы и не твой, – сомневается он.
– Приболел. Лежу, не встаю. Температура тридцать девять с чем-то. Вот почему и приглашаю.
Для убедительности приглушенно кашляю.
– Да ты меня заразишь, приятель, – он позволяет себе усмехнуться, но в этой усмешке нет ни капли веселья, только настороженность старого умного хищника.
И все же он спокоен: понимает, что может в любую секунду прекратить разговор, и тогда ищи ветра в поле.
И вновь потрескивающая тишина. Он неспешно размышляет. Чувствую, как ниточка, связывающая нас, истончается, грозя исчезнуть. Тогда я до него не доберусь. Мои ладони мгновенно потеют.
– Ладно, – соглашается он так внезапно, что не успеваю обрадоваться.
– В девять вечера, – я опять кашляю.
– Лады. Я паренька подошлю. Надежного. С ним и побеседуешь.
– Мне бы лично с вами.
– Выздоравливай, – без особого тепла роняет он, и голос его исчезает.
А я точно выныриваю из невероятной глубины и обнаруживаю себя в квартире Николая, слабо озаренной заоконным светом.
Кладу трубку на рычаг. По лицу течет пот, спина мокрая. Еще парочка таких «непринужденных» разговоров – и верный инфаркт. Быстро покидаю избу, спускаюсь по ступенькам, которые как будто перестали скрипеть – или у меня от волнения заложило уши?
Совершенно опустошенный, выпадаю на улицу и по частям затаскиваю себя в «копейку». Медленно, трудно успокаиваюсь. Теперь до девяти вечера мне делать нечего, но я продолжаю сидеть и пялиться на избу Николая, точно чего-то жду. Небо застлано туманом облаков, предвещающих снег. Избенки и циклопические долгострои выглядят суровыми, несчастными. И несчастнее всех – черная покривившаяся лачуга Николая.
Внезапно вздрагиваю и покрываюсь испариной от банальной и ужасной мысли: что, если – для подстраховки – тот, с кем я разговаривал, перезвонит Николаю?
Да нет, зачем это ему? Но нервы истерят, не слушаются доводов разума.
Меня беспокоит расположившийся довольно близко от меня «жигуль», стального цвета «девятка». Когда я припарковался здесь, тачка уже была, еле различимая во тьме. И мне почему-то кажется, что в ней кто-то есть…
Возвращается Николай, широкий, неповоротливый, с понуро опущенной головой. И пропадает в дверях.
Завожу мотор, отправляюсь на жизнерадостную улочку Бонч-Бруевича и таскаюсь до огненной темноты. Собираюсь поужинать, но даже мысль о еде вызывает омерзение и тошноту.
Начинается снег. Сквозь неторопливые крупные снежинки разноцветно сияет город.
Чтобы убить время, пешком отправляюсь на набережную. Долго смотрю на белый пруд, на подсвеченный храм, чьи купола смутно мерцают золотом в темноте.
Раздается тихий перезвон колоколов.
И, точно вторя ему, звонит моя мобила.
– Я чего тебя беспокою, – кисло бубнит Пыльный Опер. – Старожила… то есть, Карповича замочили. Представь себе – у самых дверей офиса. Только вылез из джипа – и две пули. Причем первая – в затылок. Как, по-твоему, кто его заказал?
– Откуда же мне знать? Вероятно, бандитские разборки. Передел сферы влияния.
– Да это я так, – неожиданно мягко, точно извиняясь, произносит опер. – Не хочешь сотрудничать со следствием, не надо…
Его голос исчезает за пеленой снега, а я какое-то мгновение размышляю: «Интересно, кто же все-таки прикончил Старожила? «Южане» – в отместку за смерть бесноватой дочери Хеопса? Или отставной подполковник, вершащий возмездие за свою легкомысленную жену Лолиту? Первое, думается, гораздо ближе к истине».
Впрочем, если откровенно, это меня мало заботит.
Я думаю о Даренке. Никогда она не узнает, какие невообразимые вихри взметались вокруг нее.
Дед Марика, бывший партийный бонза, держал дочку-филологиню и ее мужа-философа в каждодневном страхе, грозя, что завещает свое немереное состояние Верке. Если бы он выполнил угрозу, то после Веркиной смерти эти деньжищи наверняка достались бы Даренке. Но старичина отчалил в царство вечного покоя и Верке ни копейки не оставил.
Даренку – единственного своего ребенка – мог осчастливить солидным баблом Карпович-Старожил. Чего он, само собой, не сделал. Поостерегся: в таком случае «южане» не оставят Даренку в живых.
Я никогда не скажу ей об этом, незачем пробуждать в девчонке горькие сожаления о несбывшемся. О том, что могла – на радость Коляну – сделаться богатой невестой, а выйдет замуж бесприданницей.
Нет, пускай уж лучше останется бедной и живой.
Даренка!
Впервые думаю об этой девчоночке почти с нежностью.
Пускай все бури-ураганы минуют тебя, Даренка!..
В девятом часу вечера сажусь в «копейку» и лечу к дому Николая.
Автор
Весь день Даренка испытывала необъяснимую тревогу. К восьми вечера ее трясет так, что зуб на зуб не попадает.
Она заходит в комнатку Королька. Здесь прибрано, постель заправлена. Одежда висит в шкафу, что не слишком характерно для бывшего сыщика, не отличающегося особой аккуратностью.
Ей хорошо здесь, среди вещей Королька.
– Даренка! – слышит она голос бабы Насти. – Ты где?
Хихикнув, Даренка решает не отвечать. Потом вспоминает, что она уже взрослая и недовольно выглядывает из комнаты.
– Ну?
– Ты чего тут делаешь, бесстыдница?
– А что хочу, то и делаю! – вызывающе заявляет Даренка. – Я, может, на ночь здесь останусь.
Баба Настя всплескивает руками.
– Да ты с ума сошла!
– Пускай. Только я отсюда не выйду! Я буду здесь! С ним!
Баба Настя удаляется, шаркая распухшими ногами. Она знает по опыту: если Даренка уперлась, с ней лучше не спорить. Надо подождать Королька и переговорить с ним. Мужик уже не молоденький, умный, как-нибудь найдет выход из положения.
Даренка остается на завоеванном плацдарме. Довольно улыбаясь каким-то тайным мыслям, осторожно ложится на свою бывшую кровать, ставшую постелью Королька. Но вскоре ею вновь овладевает тяжелое беспокойство, и Даренка принимается ходить по комнате, ломая в тоске пальцы.
Через час в комнату просовывается большая голова бабы Насти. Она как будто боится зайти в прежнее жилье Даренки, точно оно зачумлено.
– Дареночка, пожалуйста, выйди, нельзя тебе здесь оставаться.
– Не выйду, даже не проси.
– Ты что, – изумленно шипит баба Настя, – здесь ночевать будешь? Так ведь скоро Королек вернется.
– Останусь, – твердо и решительно отвечает Даренка. – Тема закрыта.
Баба Настя снова удаляется, оставив дверь полуотворенной; на этот раз ее тяжелая шаркающая поступь кажется неуверенной, слабой, словно она еле тащит себя по коридору.
На Даренку с портрета, написанного некогда Сергеем Ракитским, глядит Анна. Собственно, это этюд к портрету в изящной багетной рамке. Он стоит на тумбочке и прислонен к стене.
– Отпусти его, – обращается Даренка к красивому лицу соперницы. – Я понимаю, что недостойна. Я бываю иногда такой злой – сама себе противна! Но я постараюсь стать лучше! Постараюсь изо всех сил! Ну, пожалуйста, не держи его! Я по гроб жизни буду тебе благодарна!
Женщина на этюде смотрит строго, печально, лишь в самом уголке губ притаилась еле уловимая улыбка.
Королек
Некстати подоспела головная боль – слава Богу, тупая и несильная.
Наблюдаю за домом Николая из «копейки», припаркованной примерно на том же месте, что и днем. Беспокоящий меня светло-серый «жигуленок» (правда, его цвет сейчас толком не определить) притаился метрах в тридцати.
В окошках избушек горит свет. Халупа Николая темна, точно вымерла. Валит снег, застилая обзор.
Даже не глядя на свои «командирские», по обвальному грохоту в левой стороне груди понимаю, что сейчас появится Он.
Но возникает Он так неожиданно, что вздрагиваю всем телом, и сердце пронзает привычная игольчатая боль. Похоже, парень выглядывал, проверял, не следят ли за домом, и обнаружил, что опасности нет. Его почти не видно – сгусток черноты среди темнотищи и мелькания снега.
Он исчезает в избе. За окнами загорается свет – и тут же гаснет.
Чуть приоткрываю дверцу «копейки». Вытаскиваю браунинг, снимаю с предохранителя – и мирок моей машинешки сразу перестает быть домашним и уютным, спасающим от враждебного мира. Заснеженный мрак вламывается в «копейку», и нет от него никакой защиты…
Автор
В избе темно. Николай и его гость – две черные тени – перебрасываются короткими фразами.
– Значит, легавые нас накололи, – мрачно констатирует гость.
В его голосе нет паники, только спокойная ледяная злоба.
– Выходит, так, – соглашается Николай.
Кажется, ему абсолютно безразлично происходящее, словно это дурной сон.
Загорается экранчик сотового телефона: гость набирает номер.
– Алло? Слышите меня?
– Ну? Чего тебе? – звучит в его ухе неторопливый повелительный голос.
– Я в избе. Это подстава. На улице, похоже, засада, – коротко сообщает гость.
– Угомонись и не дергайся, – высокомерно и спокойно говорят в трубке, мягко грассируя. – У страха глаза велики. Не исключено, что никакой засады нет. Все будет тип-топ, парень, ты уж мне поверь. Я тертый калач… Ствол при тебе?
– Да.
– Значит, отобьешься. Сейчас выходить рано. Погоди часов до четырех. Мне не звони… И вот еще что. С хозяином разберись. Мужик ненадежный… Понял?
– Ясно.
– Ну, действуй.
– Я живым не дамся.
– Вот это молодец.
– Иди ты… – цедит гость.
Засовывает телефончик в карман и задумывается о чем-то своем. Затем рассеянно, почти дружелюбно спрашивает Николая:
– Так что же это получается? Выходит, подставил ты меня, дядя?
– Да я… – начинает Николай.
И вскрикивает: лезвие ножа три раза вонзается в него по самую рукоять. С хрипящим всхлипывающим стоном, судорожно вдыхая и выдыхая воздух, Николай опускается на пол.
Гость бросает возле умирающего нож, предварительно обтерев платком рукоять; осторожно, чтобы не запачкаться кровью, светя сотовым телефоном, как фонариком, перешагивает через агонизирующее тело. Ощупью заходит в комнату, ложится на продавленный диван и закрывает глаза…
Королек
У меня слипаются глаза, и затекает тело. Я бы мог повязать пришедшего к Николаю парня еще тогда, когда он стучался в халупу. Но не сделал этого. И вот почему: мне нужно, чтобы он обнаружил, что попал в ловушку, и начал действовать. И чем решительнее, тем лучше. Он должен проявить себя.
Время капает мелкими капельками, парень не выходит. Понимаю: ждет, когда задремлю и потеряю бдительность (впрочем, он наверняка считает, что нас тут несколько, а значит, потерять бдительность должны мы все). Боюсь, выйдет парнишка часа в четыре, а то и позже. Но ведь он тоже не железный, может и не выдержать…
Или мне мерещится? – дверь избы приотворяется…
Черная фигурка, еле отличимая от движущейся тьмы, выскальзывает из лачуги Николая…
Вываливаюсь из «копейки», ору:
– Стоять! Руки!
Смутная фигурка на секунду останавливается… Среди падающего снега как будто приглушенно щелкает хлыст. В ответ на выстрел дважды нажимаю на спусковой крючок малыша браунинга. Кнут щелкает раз и второй. В мое левое предплечье вонзается боль. И, как позывные этой боли, где-то далеко, за пределами моего сознания, щелкают еще три выстрела.
Во мне воцаряются равнодушие, скука и вялость. Медленно, не торопясь сползаю на снег, приваливаюсь к колесу родной «копейки». И все становится неважным и ненужным. Есть только выворачивающая плечо пульсирующая боль. И озноб. И слабость. И ничего кроме.
В темноте надо мной склоняется некто, слышу басок Акулыча:
– Живой? Куда он тебя? – и даже не удивляюсь внезапному появлению бывшего мента.
– В руку.
– Встать можешь?
Стиснув зубы, поднимаюсь (с помощью Акулыча), неуклюже валюсь на заднее сиденье «копейки».
Акулыч, пыхтя и матерясь, достает из моей аптечки бинт и вату, нежно стаскивает с моего плеча куртку и, не переставая пыхтеть и материться, кое-как перевязывает рану.
– А… с ним… что? – с трудом выдавливаю сквозь скручивающую тело боль.
– О нем не беспокойся. Отбегался, – возможно, от волнения Акулыч стал изъясняться современным литературным языком. – Только теперь уже не по горизонтали бегает, а по вертикали вознесся. Или под землю провалился, что больше на правду смахивает. В общем, так: либо высоко вверх, либо глубоко вниз. Но по вертикали…
Он принимается звонить по мобильнику в «скорую» и ментовку, изредка поглядывая на черную лачугу Николая.
Отзвонившись, принимается за меня:
– Ну че, охламон, получил причитающееся? Счастлив? Эх, жалко, мало тебе досталось! Енто ж надо, куда полез в одиночку, монте-кристо вонючий! Хорошо, я сразу просек, што ты неладное затеваешь, и мы с утречка заняли позицию… У-уу, врезать бы тебе по задней морде, штоб на всю оставшуюся жизнь вразумить!.. Где ты енту пукалку откопал, снайпер? Ей только клопов давить. Да и не всякого ишо раздавишь.
Понимаю, что он пытается разглядеть мой браунинг, который, наверное, в его лапище кажется махоньким.
Мне становится совсем плохо, то и дело скольжу куда-то, проваливаюсь на мгновение и снова выныриваю в зыбкий реальный мир.
– Ты потерпи, Королечек, усе сейчас будет, – басок Акулыча становится ласковым, почти жалостливым. – Ладно, дружок?.. Потерпи…
Внезапно возле Акулыча словно из-под земли вырастает еще кто-то. Во тьме он кажется копией Акулыча, и сначала у меня возникает ощущение, что начался горячечный бред. Потом догадываюсь: это Пыльный Опер.
И становится ясно: Акулыч сидел в светло-сером «жигуле» не один, а с Пыльным Опером, недаром он сказал «мы». И еще (усмехаюсь, превозмогая боль): Пыльный Опер сообщил мне по мобиле о смерти Старожила, находясь совсем недалеко от меня, почти что рядом.
– Так это ты его прикончил? – спрашиваю опера.
– А кто ж ишо? – отвечает за него Акулыч. – Я рядовой пензионер, мне табельным оружием пользоваться запрещено. А он у нас стрелок. Робин Гуд.
Прибывают менты. Свет фар слепяще скользит по моим глазам. Следом возникает «скорая».
Меня укладывают на носилки, засовывают в недра «скорой» и увозят в больницу, пустую и гулкую. Где обнаруживается, что мне нереально повезло: рана сквозная, пуля прошла навылет, не задев кости.
Около шести утра вытаскиваюсь в длинный больничный коридор, где на топчанчике, привалившись к стене, в одиночестве похрапывает Акулыч. Его спортивная шапочка валяется на истертом линолеуме.
Просыпается он не сразу, открывает осоловелые глазки, очумело глядит на меня, потом вроде соображает и, позевывая, волочится следом за мной на улицу.
Предельно осторожно втаскиваюсь на заднее сиденье «копейки». И все равно левую половину тела распарывает нестерпимо-адская боль. Футболка и свитер, поверх которых наброшена куртка, так пропитались кровью, что даже сквозь бинт ощущаю их картонную заскорузлость. Акулыч тяжело плюхается на место водителя.
– Кстати, – он протягивает мне мобилу с горящим экраном. – Я сфоткал пацана, который в тебя пулял. Может, знакомый?
Гляжу – и разом вспоминаю ослепительный июльский день, накаленную солнцем летнюю кафушку и заносчивого коротыша в белой рубашке, черных брюках, галстуке и туфлях. Слышу собственный голос: «Не позволяют в обед пивка? Строгое начальство?» И язвительно-злой ответ: «У тебя, видать, шеф добрый».
Толян, приятель Коляна.
Его мертвое лицо по-прежнему гладко: видно, парень совсем не бреется. И тогда, в знойном июле, оно не было особенно загорелым, а сейчас и вовсе белым-бело.
Акулыч берется за баранку, и мы отправляемся по спящему безлюдному городу. «Копейку» временами потряхивает на ухабах, и левую руку и плечо тотчас пронзает сверкающая боль. Передо мной маячит обширное туловище Акулыча, и в моем воспаленном мозгу возникает уверенность, что управляет машиной диковинное животное, нечто вроде моржа.
Страшное напряжение минувшего дня вырывается из меня безудержным потоком слов:
– Я был убежден в том, что Анну убил Москалев. И вдруг – этот звонок: «Твою жену прикончил Француз». В моей ошалелой башке начались разброд и шатание. Я неожиданно осознал, что моя убежденность построена на песке. Затем – кстати, по твоей наводке – я познакомился с Николаем и понял, что с этим человечком не совсем чисто. Я – убийца его сына, а когда мы – один на один – оказались в его халупе, он не схватился за нож или топор, а повел себя вполне миролюбиво. Не потому ли, что наполовину мне отомстил?
В прошлом году, весной, я занимался делом Ники, девочки-самоубийцы. Помнишь такое?
– А как же-с. Я ведь тоже к расследованию маненько ручонку приложил.
– Тогда тебе известно, что спал с девчонкой и приучил ее к наркотикам родной дядя – Витюня Болонский. И Ника с собой не кончала – ее столкнула с парапета другая возлюбленная Витюни, женушка его племянника. Витюню повязали – не без моей помощи, и в СИЗО он удавился.
– Енто мне и без напоминаний ведомо, – недовольно бурчит Акулыч. – Ну, трахались они друг с другом внутри своей радостной семейки. Дальше-то чего?
– И тут выходит из тени старший брательник Витюни – Стас Болонский, президент фирмы «Болонский и партнеры», немолодой лев, сладкоречивый и слегка неадекватный. Он бесконечно любит своего младшего братца-шалуна и с упоением слушает Витюнины эротические откровения. И ему совершенно наплевать на то, что Витюня наставляет рога его родному сыну.
И арестованную убийцу-невестку ему нисколечко не жаль. И даже сына, который начал пить после ареста жены. Ему безразлична судьба собственной внучки. Но смерть ненаглядного Витюни для него – чудовищный удар. Точно это он повесился в камере изолятора.
Стас Болонский болел около месяца и поклялся отомстить.
Он потихоньку стал обо мне разузнавать – и выяснил, что в 2007-м меня судили за убийство Арсения Арцеулова. Первым делом связался с Николаем, отцом Арсения. Николай – бирюк, нелюдим. Он растравлял свое старческое сердце злобой к душегубу Корольку – и ничего не предпринимал. Но адвокат златоуст Болонский сумел внушить ему, что следует отомстить за убиенного сына. Он же, Болонский, и исполнителя нашел: отчаянного паренька по имени Толян, которого вы сегодня пристрелили.
Наш городишко лихорадило от слухов, что объявился режущий женщин маньяк. Сама жизнь как будто подсказывала Болонскому: воспользуйся. И он воспользовался.
Толян убивает Анну, изобразив, что это дело рук маньяка. Затем Стасик Болонский принимается за меня. Он не торопится. Следит за мной издалека, представляет, как я мучаюсь, и наслаждается. Наконец, решает: пора. Звонит мне и измененным голосом сообщает, что Анну убил Француз. Зная, что я – враг Француза, отправляет меня прямиком в пасть бандита. И наблюдает, что получится в результате. Он играет со мной, как кошка с глупым мышонком, и получает несказанное удовольствие – как некогда от сексуальных рассказов младшего братишки. Ну, а если авантюра с Французом не прокатит, если я не куплюсь на эту туфту, Толян без затей меня прикончит.
– Объясни ты мне, непонятливому, – влезает Акулыч, – зачем Болонский связался с Николаем, ежели сам мог всю операцию провернуть?
– Стасик – человек жадный. Живет в шикарном коттедже, а внучку свою приютить не пожелал. А у Николая Арцеулова денежки водились, как-никак всю сознательную жизнь проработал строителем. Да, он ютился в кособокой развалюхе, тратил на съестное сущие копейки, но это вовсе не значит, что у него в заначке не было миллионов. Думаю, идея и исполнение принадлежат Болонскому, а вот бабло вложил Николай… Впрочем, нет смысла копаться в деталях.
Но Болонский не только жадный, но и трусоватый, привык оставаться в сторонке. Скорее всего, Арцеулов знать не знал, кто ему звонил. Был только голос, властный и вальяжный, который склонял к мести.
Возможно, и с Толяном Болонский общался по телефону. Так что и для Николая, и для Толяна он был всего лишь голосом, который распоряжается и убеждает. Представь ситуацию: менты вышли на Николая или Толяна. Толян (или Николай) признается, что им управляли. Кто управлял? Некий мужской голос. Допустим, менты поверят, собственно, почему бы и нет? Ну, и как они отыщут голос, дававший указания по ворованным телефонам?
– А ты как ентого Болонского вычислил? – интересуется Акулыч.
– По голосу. У него фирменный барственный, слегка картавый баритон потомственных дворян Болонских… Его нужно как можно скорее повязать, Акулыч. И запереть.
– А што ты ему предъявишь, охламон? – невесело посмеивается Акулыч. – Голос евоный? А признайся, птаха неугомонная, не хочется тебе взять свой великий и ужасный браунинг и проделать в Стасике Болонском пару-троечку красивых дырочек? Я, конешно, ентого тебе не позволю, но – ежели честно – хочется или нет?
– Есть такое желание. Но исполнить не смогу. Слава Богу, что Николая лишил жизни не я – у меня бы рука не поднялась. Эти двое мстили мне. Один за сына, другой – за брата. И я их, в общем и целом, понимаю. Не прощаю, но понимаю. С отмороженным Толяном выстрелами обменялся, но уничтожить одинокого старика я не в силах.
– А как же твой разлюбезный принц Хамлет? Он не постеснялся Клавдея заколоть, а ведь тот, полагаю, пензионного возраста был. Не пожалел студент старичка.
– Клавдий был мужчиной в самом соку. Сорок пять, полагаю, не больше. Примерно моих лет…
Подъезжаем к бабы Настиному дому.
– Давай, провожу, – предлагает Акулыч. – Мало ли чего.
– Нет. Еще людей переполошим. Я уж как-нибудь сам, не маленький.
– Ага, так я тебе и позволил. Ну, топай, птаха-подранок, а я, ежели чего, подмогну.
– Погоди, постоим немного.
– Можно и постоять, – соглашается Акулыч и ни с того ни с сего басит: – А я все-таки верю в тебя, охламон. Ведь ты… ента… такие порой коленца выкидываешь, что просто… А я верю – и все тут. Будет, птичка божья, и на твоей улице праздник. И такой – мы только рты поразеваем.
Только сейчас начинаю чувствовать, что морозит. Давно уже наступило утро, но городом еще владеет мрак, не желая уступать рассвету.
Заканчивается 2011-й. Когда я встретил Анну, мне исполнился тридцать один год. И был я беспечным идиотом. Сейчас мне сорок один. Анны нет. А я – наполовину седой мужик и вряд ли поумнел.
Вот мой двор. Я на пороге дома, который с недавних пор считаю своим.
Мне почему-то кажется, что они стоят тут, рядом со мной – Щербатый, Верка, Чукигек, Серый, давешние мои дворовые приятели, которых я уже не увижу – во всяком случае, на этой земле.
Почему-то думаю о том, что скоро Новый год. Даже не думаю, а просто чувствую: скоро Новый год, огни, неразбериха, толкотня в магазинах, запах хвои и мандаринов. Это у меня с детства: Новый год – значит, елка, конфеты, мандарины, подарки.
Где и с кем встречу Новый год? Здесь, с Даренкой и бабой Настей? Или с матерью? Или стану жить один? И что мне принесет наступающий 2012-й?
– Ну, ты енто… чего застрял? – бурчит Акулыч. – Шевели лапками!
– Погоди еще минутку, – говорю я.
И по привычке поднимаю голову. Снег прекратился, и я вижу: на западе, среди белесых облаков, светится темно-синяя полынья. В ней, серебристая и голубоватая, посверкивает звезда. И Щербатый, Верка, Серый, Чукигек тоже задирают головы вверх.
– Анна, – обращаюсь к этой недостижимо далекой мерцающей точке. – Болонский жив. Я не сумел отомстить за тебя. Прости. А киллер и Николай Арцеулов мертвы – если это хоть чуточку тебя утешит. Впрочем, не убежден, нужно ли тебе такое утешение.
Я не умею плакать. Не плачу и теперь. Но полынья слегка расплывается в глазах. И дрожит звезда, сияющая хрусталиком чистейшего космического света.
Моя Звезда.
Когда-то я пацаненком увидел ее в телескоп Чукигеков. Может, и не ее, но очень хочется верить в то, что это была именно она. С тех давних пор она была моим спасительным маяком. И вот опять горит надо мной.
Только теперь ее зовут Анна.
Эпилог
Автор
25 марта 2012-го года, в воскресенье, в одиннадцатом часу утра Королек отправляется на Вознесенское кладбище. Оставив «копейку» неподалеку от кладбищенских ворот, по тропинке идет к огромной стене колумбария.
Урны с прахом Анны и ее дочери захоронены рядом, и обе они – Анна и ее дочь-самоубийца, похожие друг на друга, как сестры, – строго и печально смотрят на Королька с овальных фотографий. Присев на корточки, он кладет на тусклую траву под стеной живые цветы: белые и красные розы.
– Вот мы и вместе, родная, – говорит он. – Наверное, тебе сверху видно все, как на ладони, но на всякий случай расскажу.
Повесился Стас Болонский. Через три дня после того, как погибли Толян и Николай Арцеулов. Выбрал тот же способ расставания с бытием, как и его брат. Должно быть, испугался ареста и решил, что иной мир – лучший выход из положения. К тому же, собственно, он мне уже отомстил. Потому что меня без тебя просто нет.
В моей жизни ничего не изменилось. Ты хотела, чтобы я не был одинок, – у меня есть Даренка. Кстати, она просит, чтобы я выяснил, кто ее отец. Как считаешь, сказать, что ее папаша – Старожил? А то как-то не решаюсь… Да, ты права. Не следует скрывать правду.
Если уж совсем честно, Даренке очень далеко до тебя, но она старается, хотя получается не всегда. Характер не сахар – ну, да и я тот еще подарочек. К тому же, чувствую, ревнует меня к тебе. И имеет для этого все основания. Я люблю тебя. Я бесконечно люблю тебя, ненаглядная моя… Ничего, скоро встретимся. Если б ты знала, как я хочу снова тебя увидеть!..
Он встает, медленно, мимо гранитных памятников, мимо металлических пирамидок с крестами и пятиконечными звездами шагает к выходу.
Оказавшись за воротами кладбища, где старухи продают искусственные цветы, садится в поджидающую его «копейку» и едет к Финику.
Финик и Рыжая – две неприкаянные души – ненароком соединились – и стали единой душой, бесшабашной и беззаботной. Точно всегда были чем-то целым, и непонятно, почему столько времени каждый жил сам по себе.
Рыжая не покушается на диковинные привычки мужа. Он по-прежнему щеголяет в старом, кое-где продранном пестром материнском халате, но пива пьет куда меньше. И его новые повадки – повадки дрессированного медведя, как бы говорят: я – мужчина семейный. В его глазках появилось выражение счастливой покорности, и Королек радуется за приятеля: человек пристроен.
А Рыжая ведет себя так уверенно, словно заявляет всем и каждому: вот он, мой берег, я одолела все преграды, я добралась до него и теперь не отдам ни пяди.
– Представляешь, – жалуется Финик, – она разрешает мне одну бутылку пива в день! Двадцать первый век на дворе, век толерантности и свободы – и такая чудовищная дискриминация по питьевому признаку!
И его одутловатая физиономия расплывается в широкой улыбке. Рыжая и Королек непроизвольно улыбаются в ответ.
– А ты думал, терпеть твое пивохлебство буду? – Рыжая звонко хлопает Финика по животу. – Гляди, какой авторитет отрастил. Кстати, – обращается она к Корольку, – мы с ним договорились: будет искать работу. Хоть какую. Главное, чтоб не валялся на диване, как мешок… с этим самым. И я работать пойду.
Финик с тихим страдальческим воем заводит глаза к потолку. А Рыжая решительно продолжает:
– И вот еще что. Хватит из нашей квартиры делать гостиницу! Тоже мне дом колхозника! Такие рыла заявляются, мама моя, мамочка! Жрут и пьют за бесплатно, да еще нагадят от зависти. Баста! Я – хозяйка этого дома и желаю, чтобы здесь было красиво!
Рыжая воинственно выпрямляется, ее аквамариновые глаза горят боевой отвагой. И Королек понимает, что засиделся. Этим двоим так хорошо друг с другом, что третий всегда окажется лишним.
Он прощается, хотя Финик (не очень убедительно) уговаривает побыть еще немножко (Рыжая молчит), выходит под низкое мартовское небо – и вот уже его «копейка» послушно летит по Рябиновскому тракту в сторону центра города.
Семейное счастье Финика и Рыжей и радует, и печалит его. «А есть ли у меня семья?» – думает он. И с горьким откровением признается самому себе: они с Даренкой почти чужие и, наверное, не станут родными никогда. Может быть, проблема в огромной разнице в возрасте? Как ни крути, а он и Даренка принадлежат к разным поколениям, между которыми – пропасть…
Королек подает машину к обочине, какое-то время сидит, откинувшись на спинку сиденья и сомкнув ресницы.